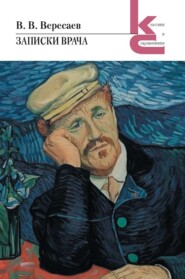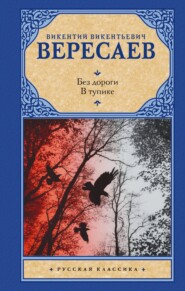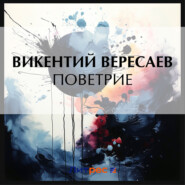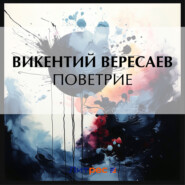По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воспоминания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Семья наша была большая, управление домом сложное; одной прислуги было шесть человек: горничная, няня, кухарка, прачка, кучер, дворник. Но для мамы как будто мало было всех хлопот с детьми и по хозяйству. Она постоянно замышляла какое-нибудь весьма грандиозное дело. Когда мне было лет шесть-семь… Счисление я буду вести по своему возрасту, это – единственное счисление, которое применяет ребенок, Так вот, когда мне было лет шесть-семь, мама открыла детский сад (предварительно пройдя в Москве курсы фребелевского обучения). Он пошел хорошо, но дохода не давал и поглощал весь папин заработок; пришлось его закрыть. Когда мне было лет четырнадцать, куплено было имение; мама стала вводить в хозяйство всевозможные усовершенствования, все силы положила в него. Но имение стало поглощать весь папин заработок. Через три-четыре года его продали с убытком. И всегда, во всяком из маминых предприятий, было какое-то мученичество и жертвенный подвиг: работа до крайнего изнеможения, еда кое-как, недоспанные ночи, душевные муки, что вес идет в убыток, старание покрыть его сокращением собственных потребностей.
Теперь, восстанавливая все в памяти, я думаю, что эта потребность превращать работу в какое-то радостно-жертвенное мученичество лежала глубоко в маминой натуре, – там же, откуда родилось ее желание поступить в монастырь. Когда кончались трудные периоды ведения детского сада или хозяйничания в имении, перед мамой все-таки постоянно вставала, – на вид как будто сама собой, совсем против волн мамы, – какая-нибудь работа, бравшая все ее силы. Папа как-то сказал:
– Вот какая масса у нас журналов, как много в них интересных статей и рассказов. Как бы хорошо сделать им систематическую роспись, – чтоб только что понадобилось, сейчас и найдешь.
И мама многие недели работала над систематическою росписью все свое свободное время. Ночь, тишина, все спят, а у книжных шкафов горит одинокая свеча, и мама с кротким усталым лицом пишет, пишет…
Помню еще, к папиным именинам мама вышивала разноцветною шерстью ковер, чтобы им завешивать зимою балконную дверь в папином кабинете: на черном фоне широкий лилово-желтый бордюр, а в середине – рассыпные разноцветные цветочки. В воспоминании моем и этот ковер остался как сплошное мученичество, к которому и мы были причастны: сколько могли, мы тоже помогали маме, вышивая по цветочку-другому.
И вместе с тем была у мамы как будто большая любовь к жизни (у папы ее совсем не было) и способность видеть в будущем все лучшее (тоже не было у папы). И еще одну мелочь ярко помню о маме: ела она удивительно вкусно. Когда мы скоромничали, а она ела постное, нам наше скоромное казалось невкусным, – с таким заражающим аппетитом она ела свои щи с грибами и черную кашу с коричневым хрустящим луком, поджаренным на постном масле.
Отношения между папой и мамой были редко-хорошие. Мы никогда не видели, чтоб они ссорились, разве только спорили иногда повышенными голосами. Думаю, – не могло все-таки совсем быть без ссор; но проходили они за нашими глазами. Центром дома был папа. Он являлся для всех высшим авторитетом, для нас – высшим судьею и карателем.
* * *
Тихая Верхне-Дворянская улица (теперь Гоголевская), одноэтажные особнячки и вокруг них сады. Улица почти на краю города, через два квартала уже поле. Туда гоняют пастись обывательских коров, по вечерам они возвращаются в облаке пыли, распространяя вокруг себя запах молока, останавливаются каждая у своих ворот и мычат протяжно. Внизу, в котловине – город. Вечером он весь в лиловой мгле, и только сверкают под заходящим солнцем кресты колоколен. Там дома друг на друге, пыль, вонь сточных канав, болотные испарения и вечная малярия. У нас наверху – почти полевой воздух, море садов и весною в них – сирень, гулкие раскаты соловьиных трелей и щелканий.
У папы на Верхне-Дворянской улице был свой дом, в нем я и родился. Вначале это был небольшой дом в четыре комнаты, с огромным садом. Но по мере того как росла семья, сзади к дому делались все новые и новые пристройки, под конец в доме было уже тринадцать – четырнадцать комнат. Отец был врач, притом много интересовался санитарией; но комнаты, – особенно в его пристройках, – были почему-то с низкими потолками и маленькими окнами.
Сад вначале был, как и все соседние, почти сплошь фруктовый, но папа постепенно засаживал его неплодовыми деревьями, и уже на моей памяти только там и тут стояли яблони, груши и вишни. Всё росли и ширились крепкие клены и ясени, всё больше ввысь возносились березы большой аллеи, всё гуще делались заросли сирени и желтой акации вдоль заборов. Каждый кустик в саду, каждое деревцо были нам близко знакомы; знали мы, что в мрачном углу под стеною соседней конюшни Бейера растет кустик канупера, что на кривой дорожке – неклен, а на круглой куртине – конский каштан. Да не только кусты и деревья и не только в саду. Все закоулки в саду, на дворе и на заднем дворе были близко знакомы, обгляжены до всякой щели в заборе, до всякой трещины в бревне. И были превосходнейшие места для всяких игр; под папиным балконом, например: темное, низкое помещение, где нужно было ходить нагнувшись, где сложены были садовые лопаты, грабли, носилки, цветочные горшки и где в щели меж досок ярко светило с улицы солнце, прорезывая темноту пыльно-золотыми пластинами. Много в этом подземельи было совершено злодейств, много укрывалось разбойничьих шаек, много мучений пережито пленниками…
* * *
Это все – для общего понимания последующего. А теперь прекращаю связный рассказ. Буду в хронологическом порядке передавать эпизоды так, как они выплывают в памяти, и не хочу разжижать их водою для того, чтобы дать связное повествование. Мне нравится, что говорит Сен-Симон: «То здание наилучшее, на которое затрачено всего менее цемента. Та машина наиболее совершенна, в которой меньше всего спаек. Та работа наиболее ценна, в которой меньше всего фраз, предназначенных исключительно для связи идей между собою».
Кажется, самое раннее из моих воспоминаний, – вкусовое. Пью с блюдечка чай с молоком, – несладкий и невкусный: я нарочно не размешал сахара. Потом наливаю из кружки остатки с пол блюдечка, – густые и сладкие. Ярко помню острое, по всему телу расходящееся наслаждение от сладкого. «Царь, наверное, всегда пьет такой чай!» И я думаю: какой счастливец царь!
* * *
Очень смутно помню старушку-немку, Анну Яковлевну. Низенькая, полная, с особенными какими-то пукольками на висках. Я ее называл Анакана.
Сижу у себя в кроватке и реву. Она подходит и унимает меня:
– Ну, не плачь, не плачь; ты мой барин!
– А-на-ка-на!.. Я твой барин!
– Ты мой барин, ты мой барин!
– Я твой барин, – повторяю я, успокаиваясь и всхлипывая.
– Мой барин, мой барин… Спи!
Когда со старшим моим братишкой Мишей мы садились завтракать, Анна Яковлевна ставила перед нами тарелку с манной кашей и говорила Мише:
– Mishenka, Mishenka, iss schneller, sonst wird dieser пузырь alles aufessen![1 - Мишенька, Мишенька, ешь поскорее, а то этот пузырь все съест! (нем.)]
* * *
В доме у нас большим почетом и уважением пользовался дедушка Викентий Михайлович; он иногда приезжал к нам в Тулу из своего имения, села Теплого. Был он вдовец, штабс-капитан в отставке, с очень длинною и совершенно седою бородою, худощавый. Он был не родной нам дедушка, а папин дядя, брат его отца. У него папа воспитывался в детстве. По отдельным, случайно вырывавшимся у отца признаниям я заключаю, что жилось ему там очень несладко; жена дедушки, Елизавета Богдановна, была с самым бешеным характером; двух родных своих сыновей, сверстников отца, баловала, моего же отца жестоко притесняла, – привязывала, в виде наказания, к ножке стола и т. п. А дедушка, сколько мог, заступался за отца, ласкал его и шептал на ухо:
– Ты не обращай внимания на эту ведьму!
Папа относился к дедушке с глубокою почтительностью и нежною благодарностью. Когда дедушка приезжал к нам, – вдруг он, а не папа, становился главным лицом и хозяином всего нашего дома. Маленький я был тогда, но и я чувствовал, Что в дом наш вместе с дедушкою входил странный, старый, умирающий мир, от которого мы уже ушли далеко вперед.
Папа, – взрослый человек, доктор, отец большой семьи, – перед тем, как ехать на практику, приходил к дедушке и почтительно говорил:
– Дядя, мне нужно ехать к больным. Вы позволите?
И дедушка разрешал:
– Поезжай, мой друг!
Вообще он держался во всем не как гость, а как глава дома, которому везде принадлежит решающее слово. Помню, как однажды он, в присутствии отца моего, жестоко и сердито распекал меня за что-то. Не могу припомнить, за что. Папа молча расхаживал по комнате, прикусив губу и не глядя на меня. И у меня в душе было убеждение, что, по папиному мнению, распекать меня было не за что, но что он не считал возможным противоречить дедушке.
Иногда из Теплого приезжала толстая и румяная экономка, Афросинья Филипповна. У нее была дочь со странным именем Католя. По почтительному отношению папы и мамы к Афросинье Филипповне мы чувствовали, что она – не просто служащая у дедушки. Но когда мы добивались узнать, кто же она такая, мы не получали ответа. Чувствовалось, что в отношениях к ней дедушки есть что-то неладное и стыдное, о чем папа с мамой, уважая и любя дедушку, не могли и не хотели рассуждать. И потом, когда дедушка умер. Теплое было продано наследниками, и Афросинья Филипповна переселилась с дочерью в Тулу, отношение к ней осталось по-прежнему родственным и теплым.
* * *
В детстве я был большой рева. Дедушка дал мне пузырек и сказал:
– Собирай слезы в этот пузырек. Когда будет полный, я тебе за него дам двадцать копеек.
Двадцать копеек? Четыре палки шоколаду! Сделка выгодная, Я согласился.
Но не удалось собрать в пузырек ни одной капли. Когда приходилось плакать, я забывал о пузырьке; а случалось вспомнить, – такая досада: слезы почему-то сейчас же переставали течь.
* * *
Кто-то меня однажды обидел, я длинно и нудно ревел. Подали обедать. Мама деловым тоном сказала:
– Ну, Витя, перестань плакать и садись обедать. А пообедаешь, – можешь, если хочешь, продолжать.
Я перестал и сел обедать. После обеда заревел опять. Мама удивленно спросила:
– Чего ты, Витя?
– Ты же сама сказала, что после обеда можно.
Так эта история фигурировала в семейных наших преданиях и так всегда рассказывалась. Но мне помнится, дело было иначе. После обеда братья и сестры со смехом обступили меня и стали говорить:
– Ну, Витя, теперь можно, – реви!
Мне стало обидно, что они смеются надо мною, и я заревел, а они еще пуще захохотали.
* * *
Были мы на елке у Свербеевых, папиных пациентов. Помню, была у них очень хорошенькая дочь Эва, с длинными золотыми волосами по пояс. Елка была чудесная, мы получили подарки, много конфет. Мне досталась блестящая медная складная труба, лежавшая среди стружек в белой коробке.