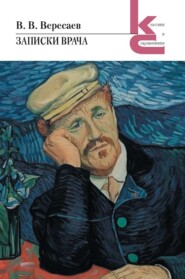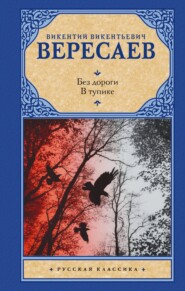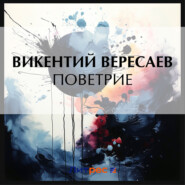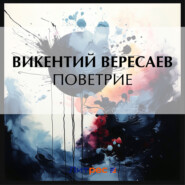По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воспоминания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Только что кончились переходные экзамены из пятого класса в шестой. Было то блаженство свободы, отсутствия нависшей угрозы, заслуженного права на отдых, какое бывает только после экзаменов. Да еще в первый раз я получил награду первой степени. До тех пор я переходил из класса в класс с наградой второй степени, – похвальным листом. Теперь я должен был получить какую-нибудь хорошую книгу в красивом переплете.
Стоял май, наш большой сад был, как яркое зеленое море, и на нем светлела белая и лиловая пена цветущей сирени. Аромат ее заполнял комнаты. Солнце, блеск, радость. И была не просто радость, а непрерывное ощущение ее.
Под вечер сидел я на балконе и читал. Вдруг горничная:
– Викентий Викентьевич, пришла какая-то дама с барышнями, спрашивают вас.
Я разом задохнулся, сердце екнуло от радости и смущения. Я сейчас же догадался, что это – Конопацкие. Они еще на святках обещались мне прийти к нам в сад, когда кончатся экзамены. Я бросился в переднюю, неприятно чувствуя, что совершенно красен от смущения.
Да! Девочки Конопацкие с их тетей, Екатериной Матвеевной. И Люба, и Катя, и Наташа! Я повел гостей в сад… Не могу сейчас припомнить, были ли в то время дома сестры, старший брат Миша. Мы гуляли по саду, играли, – и у меня в воспоминании я один среди этой опьяняющей радости, милых девичьих улыбок, блеска заходящего солнца и запаха сирени.
У Конопацких не было сада. Я наломал им в нашем саду огромные букеты сирени. В сумерках очи собрались уходить. Я пошел их проводить. Прозрачные, слабо светящиеся майские сумерки, тихие белые улицы, запах душистых тополей из садов. Давно исчезло смущение, которое было вначале, чувствовалось с Катею легко и свободно. Она продела свою руку мне за локоть, и я повел ее под руку; это у нас не было принято, это была как будто игра, и в то же время было доверчиво-интимно. У их ворот, на углу Площадной и Старо-Дворянской, мы долго еще стояли, прощаясь. Я разговаривал с Екатериной Матвеевной, а Катя лукаво смеющимися глазами смотрела на меня и не выпускала из своих ручек моей правой руки, изредка пожимая ее.
Долго я ходил по улицам, пьяный светлым, блаженным хмелем. Благодарный и торжествующий смех подступал к груди, когда я вспоминал Катин взгляд и как она держала в своих руках мою руку. Была в этом рукопожатии детская, товарищеская чистота – и в то же время пробуждавшаяся девичья любовь. Так полна была душа, так радостно все в ней сверкало, билось и пело, что хотелось кому-то принести эту невместимую радость, благодарственного жертвою сложить к чьим-то ногам и молиться и широко простирать руки… Как хорошо! Как все хорошо в мире!
Сошел я вниз, в комнату, где жил с братом Мишею. Зажег лампу. И вдруг со стены, из красноватого полумрака, глянуло на меня исковерканное мукою лицо с поднятыми кверху молящими глазами, с каплями крови под иглами тернового венца. Хромолитография «Ecce homo!»[5 - «Вот человек!» (лат.)] Гвидо Рени. Всегда она будила во мне одно настроение. Что бы я ни делал, чему бы ни радовался, это страдающее божественною мукою лицо смотрело вверх молящими глазами и как бы говорило:
«Отче! Прости ему! Не ведает бо, что творит!»
И становилось стыдно, блекнул блеск, обесцвечивалась радость, глаза виновато опускались. Чтоб это лицо не укоряло, нужно было быть серьезным, строгим и скорбным.
И теперь, из окутанного тенью угла, с тою же мукою глаза устремлялись вверх, а я искоса поглядывал на это лицо, – и в первый раз в душе шевельнулась вражда к нему… Эти глаза опять хотели и теперешнюю мою радость сделать мелкою, заставить меня стыдиться ее. И, под этими чуждыми земной радости глазами, мне уже становилось за себя стыдно и неловко… Почему?! За что? Я ничего не смел осознать, что буйно и протестующе билось в душе, но тут между ним и много легла первая разделяющая черта.
* * *
У дедушки Викентия Михайловича, папиного дяди, – я об нем уже рассказывал, – было два сына. Один, Николай, получил от отца в наследство село Теплое, вскоре продал его и жил где-то в Минской губернии. Его и семью его мы почти не знали. Другой, Гермоген Викентьевич, жил в Рогачеве Могилевской губернии, служил там в акцизе. У него была тетка по матери, Ольга Богдановна Курбатова, богатая тульская помещица, он был ее любимый племянник. Она оставила ему в наследство два из своих многочисленных имений, разбросанных по Тульской губернии, – Зыбино и Щепотьево, верст за восемь одно от другого, в общей сложности десятин пятьсот. В Зыбкие – огромный барский дом, где жила и умерла она сама.
Известно, что у нас на Руси было два дела, для которых не считалась нужною никакая предварительная подготовка, – воспитание детей и занятие сельским хозяйством, Гермоген Викентьевич подал в отставку и приехал в Зыбино хозяйничать. Он был хорошим и исполнительным чиновником, но хозяином оказался никуда не годным. На наших глазах все постепенно ветшало, ползло, разваливалось. Оборотного капитала не было: чтобы жить, приходилось продавать на сруб лес и – участками – саму землю.
С его семьею жизнь наша переплелась самым тесным и многообразным способом, и долгие годы мы жили почти как одна семья.
Закрываю глаза, – и так мне представляется тогдашнее Зыбино. Прежде всего – ярко-солнечная зелень огромного сада; вся она полна птичьим стрекотанием, свистом чириканьем; особенно выдается своею необычностью (у нас в Туле я никогда не слыхал) гулкое воркование горлинок. Почему-то их всегда было в Зыбине очень много. Липовые аллеи, густые черемуховые и вишневые заросли, древние плакучие березы-великаны с какою-то особенною травою под ними, – длинною, редкою и шелковистою. Тихая речка Вашана под горой, полная до краев: за полверсты ниже нее – плотина и мельница.
Огромный старинный барский дом с несчетным количеством комнат. Полы некрашеные, везде грязновато; в коридоре пахнет мышами. На подоконниках огромных окон бутылки с уксусом и наливками. В высокой и большой гостиной – чудесная мебель стиля ампир, из красного дерева, такие же трюмо, старинные бронзовые канделябры. Но никто этому не знает цены, и мы смотрим на все это, как на старую рухлядь.
В просторном кабинете, за широким письменным столом, сгорбившись, сидит в халате Гермоген Викентьевич, дядя Геша, – очень толстый, с выпуклыми близорукими глазами. На стене портреты в рамках, среди них много дагерротипов: слепое серебряное поле, и только если смотреть сбоку, то видны дамы в буклях и кринолинах, мужчины во фраках, с маленькими бачками. Стекла больших окон – пыльные, засиженные мухами. Посмотреть в окно, – за кучами валежника треплется под ветром крапива, а дальше – кирпичные развалины. Работник Николашка, рассчитанный за пьянство, поджег службы, сгорели амбар, сарай, конюшни, остались от них только кирпичные стены; внутри – груды кирпичей, густая крапива и кусты бузины.
Звонко по дому и по двору разносится голос тети Марии Тимофеевны, – всегда ока кого-нибудь распекает, и за горелым сараем четко отдается: та-та-та-та-та!
Семья у них тоже, как у нас, была большая – семь человек детей. Две старшие девочки, Оля и Инна, были года на три, на четыре моложе меня, потом шел сын Викентий, мой тезка; меня звали Витя-Большой, его Витя-Малый. Дальше шла мелюзга, которою я еще не интересовался.
В 1880 году Оля и Инна поступили в тульскую женскую гимназию. Родители продали на сруб щепотьевский лес и купили в Туле двухэтажный дом на Старо-Дворянской улице, за угол от нас кварталом выше, наискосок от дома бабушки. В нижнем этаже поселились сами, верхний отдавали внаймы.
С этой поры началось тесное сближение двух наших семей. Родственники мы были довольно отдаленные, – троюродные друг другу братья и сестры, но росли почти как одной семьей и чувствовали себя друг с другом ближе, чем с многочисленными двоюродными братьями.
У нас больше были блондины, у них брюнеты. И прочно установилось название: Смидовичи белые – мы; Смидовичи черные – они. Различались мы не только цветом волос: дух семей, темпераменты, жизнеотношение – все было совершенно различное. Характерные семейные особенности: у черных – бесстрашие перед жизнью, большая активность, всегда ожидание всего самого лучшего, организаторские способности, уменье легко сближаться с людьми; с другой стороны, – неразборчивость в средствах, грубость в обращении с людьми, самоуверенность. У белых Смидовичей: культурность и корректность, щепетильная честность, большая деликатность, – даже выражение у нас было: «чисто-белая деликатность!» С другой стороны, – отсутствие активности и инициативы, полное неверие в свои силы, ожидание от жизни всего самого худшего, поэтому робость перед нею, тугость в сближении с людьми, застенчивое стремление занять везде местечко подальше и поскромнее. Несмотря на такое различие, мы жили очень тесно и дружно. Влияние друг на друга было сильное и многообразное.
Летом мы жили у них в Зыбине, зимою постоянно видались в Туле. Основная наша компания была: Оля и Инна, мои родные сестры – Юля, Маня, Лиза и Витя-Малый. В этой, преимущественно девичьей, компании я был самым старшим, самым развитым и властвовал над нею безраздельно. Был организатором игр, прогулок, состязаний, – как старший, везде, конечно, первенствовал, и во всех играх все рвались быть в моей партии, – в городках, в крокете, в лапте. Я очень любил рассказывать, а они слушать меня. Во время летних прогулок – на копне сена или на обрыве над речкой Выконкой, в дождливые дни – в просторной гостиной, на старинных жестких диванах красного дерева, – я им долгие часы рассказывал или читал, сначала сказки Гоголя и Кота-Мурлыки, «Тараса Бульбу», исторические рассказы Чистякова, потом, позже, – Тургенева, Толстого, «Мертвые души», Виктора Гюго. Все жадно теснились ко мне, старались сесть поближе, ловили каждое мое слово. Это было сладко и радостно. И часто я недоумевал: почему так легко и вдохновенно говорятся мне в нашей зыбинской компании, – и часто так трудно, так напряженно вяжется разговор у Конопацких. Когда я приезжал в Зыбино, я с головою окунался в атмосферу общей любви, признания и скрытого восхищения. И я очень любил бывать в Зыбине. Раз шел с купанья домой, с простыней на плече. Сгущались зеленоватые июньские сумерки, чаща сада темнела, сквозь ветки горела вечерняя звезда; дом сиял огромными освещенными окнами, смех, звон посуды, звуки рояля из гостиной. Бодрая крепость в теле, ощущение прочной чистоты от частого купанья, сейчас вкусный ужин, все тебя любят, все тебе рады. И странно мне стало: как это Фауст не нашел в своей жизни ни одного мгновенья, чтобы сказать: «Остановись, ты прекрасно!»
* * *
Больше всего в то время я дружил с Витькою-Малым. Он был на пять лет моложе меня, – мальчишка приземистый, очень сильный, с насупленными бровями.
Если стать на дворе перед домом, то слева и справа высились белые каменные столбы ворот. Левые ворота вели в широкую липовую аллею сада. Правые тоже вели в сад, – он назывался Телячий сад, потому что в нем пасли телят. Не было тут ни аллей, ни дорожек; только разбросанные группы деревьев и огромные одиночные липы с ветками, спускавшимися до земли. От двора Телячий сад отгораживали кирпичные развалины горелого сарая, под растрескавшимися его стенами росла темнолистная бузина и высоченнейшая крапива; густые армии этой же крапивы тянулись от развалин в глубину Телячьего сада.
Сколько тут было боев с поляками, сколько посечено казацкими шашками ляшских голов! Я был Тарас Бульба, Витя-Малый – Кукубенко, невидимо присутствовали и Остап, и Андрий, и Мосий Шило, и Демид Попович. У нас были вырезанные мною из дерева шашки, ружья, кинжалы. Мы бешено врубались в крапиву и прокладывали себе дорогу сквозь гущу ляхов и лихо сбивали головы их начальникам, – красноголовым репейникам-татарникам.
Потом мы решили построить себе курень. Выбрали укромное место в канаве старого сада, густо заросшее лозняком и черемухой. Расчистили дно и стенки, устроили стол, в откосах канавы вырыли сиденья и погреб для припасов, развесили по сучкам свое оружие. Отсюда мы делали набеги на ляхов, сюда скрывались от их преследования.
За обедом мы потихоньку заворачивали в бумагу куски еды. Девочки это заметили, заметили также, что мы на целые часы исчезаем куда-то. И вот однажды сидим мы в своем курене, распиваем горилку, – сахарную воду с малиновым соком, – вдруг слышим невдалеке говор, треск сучьев. Подкрались: в десяти шагах от нас, в нашей же канаве, Инна и Маня лопатами расчищают себе совсем такое же убежище, как наше. Мы на них налетели: какое они имеют право? Здесь мы играем! «Мы вам не мешаем, – играйте, пожалуйста! А канава не ваша!»
Долго мы препирались, подошли другие девочки. Я требовал, чтоб они тут не делали дома, – стройте в Телячьем саду или на другом конце сада. Но девочки видели наш прекрасный дом и не могли себе представить, как можно такой дом построить и другом месте, а не в этой же канаве. Меня разъярило и то, что наше убежище открыто, и еще больше, что задорные Инна и Маня не исполняют моих требований, а за ними и другие девочки говорят:
– Кто же вам подарил всю канаву? Я разозлился и сказал угрожающе:
– Ну, вот что! Подарил кто или не подарил, а знайте, – заранее вас предупреждаю: если мы кого из вас застанем здесь, в канаве, то поднимем той юбочку и всыплем таких горячих, что долго будет помнить!
Девочки не испугались и стали строить свой дом. Мы тогда охладели к своему и бросили его. Тогда и девочкам стало неинтересно, и они перестали строить дом. Я их обличал и стыдил и обливал презрением:
– Видите! Только, чтоб назло! Добились своего, заставили нас бросить – и сами перестали… Никогда вам за это не стану ничего рассказывать!
И часто нарочно, чтоб они слышали, вставал и говорил Вите:
– Ну, Витька, пойдем дальше рассказывать. Мы, значит, остановились на том, как пан Данило ехал с хлопцами по Днепру на лодке и как мертвецы на кладбище поднимались из могил…
И мы уходили, и девочки с горем и завистью провожали нас глазами.
Наконец, мы помирились с девочками и в той же канаве сообща стали строить большой дом. Выстроили, целых две недели пользовались им, до нашего отъезда.
Сестры уехали в Тулу раньше, а я после них через три дня. Приехал домой. Как всегда после Зыбима, комнаты нашего дома показались мне странно маленькими, потолки низкими, давящими душу. Бросился целоваться с папой, – он сухо ответил на мой поцелуй и молча отвернулся. Мама тоже встретила холодно. В чем-то, значит, проштрафился! Всегда, когда я откуда-нибудь приезжал домой, я мог неожиданно встретить строгое, укоризненное осуждение, потому что нигде к нам не предъявляли таких несгибающихся моральных требовании, как дома.
На следующий день мама с возмущением заговорила со мною об угрозе, которую я применил к девочкам в нашей ссоре за дом. Рассказывая про Зыбино, сестры рассказали маме и про это. А папа целый месяц меня совсем не замечал и, наконец, однажды вечером жестоко меня отчитал. Какая пошлость, какая грязь! Этакие вещи сметь сказать почти уже взрослым девушкам!
– Да я бы этого, правда, не сделал. Я только попугать. Зачем же они…
– Правда, не сделал бы! Да если бы ты это, правда, сделал, я бы тебя сейчас же выгнал вон из дома, навсегда бы отрекся от тебя. Так позволить себе обращаться с девушкой! Ни минуты не потерпел бы у себя такого негодяя.
* * *
Как я начал курить. – Отец мой курил. Сколько мне приходилось наблюдать, легче всего привыкают курить и труднее всего отвыкают от курения люди, родители которых курили. Может быть, тут уже наследственно, с кровью, передается склонность к курению (передается же склонность к пьянству); несомненно, что организм детей приучается с раннего детства к никотину, потому что они все время вдыхают табачный дым курящего отца. И, наконец, – для ребенка в большинстве случаев именно отец его является олицетворением «взрослости», а ребенку всегда нравится казаться взрослым.
Был я тогда, помнится, в шестом классе. Многие мои товарищи давно уже курили. На переменах, в уборных, торопливо затягивались раз за разом и пускали дым в отдушники и возвращались с противным запахом дешевого табаку. Мне очень хотелось курить. Во-первых, потому что это запрещалось и у того, кто курил, был особый оттенок лихости. А главное, это делало взрослым. Голос у меня уже ломался, на верхней губе, если внимательно вглядеться, пушок был гуще и длиннее, чем на лбу или щеках. Но это все еще можно было оспаривать. Папироса же во рту, – это был факт, против него ничего уж не возразишь.
Стояла поздняя осень, когда балконные двери уже законопачены и обмазаны замазкою и когда в сад можно пройти только через кухню и двор. В саду холод, безлистный простор, груды шуршащих листьев под ногами, не замеченная раньше пара красных китайских яблочек на высокой ветке, забытая репа в разрытой огородной грядке. Есть это было особенно вкусно.
Мы с товарищем Фомичевым ушли подальше в большую аллею, чтоб нас нельзя было увидеть из окон дома. Я вынул из кармана коробочку папирос, – сегодня купил: «Дюбек крепкий. Лимонные». Взяли по папироске, закурили, Фомичев привычно затягивался и пускал дым через нос. У меня кружилась голова, слегка тошнило, я то и дело сплевывал. Фомичев посмеивался:
– Ишь, как побледнел!
Стоял май, наш большой сад был, как яркое зеленое море, и на нем светлела белая и лиловая пена цветущей сирени. Аромат ее заполнял комнаты. Солнце, блеск, радость. И была не просто радость, а непрерывное ощущение ее.
Под вечер сидел я на балконе и читал. Вдруг горничная:
– Викентий Викентьевич, пришла какая-то дама с барышнями, спрашивают вас.
Я разом задохнулся, сердце екнуло от радости и смущения. Я сейчас же догадался, что это – Конопацкие. Они еще на святках обещались мне прийти к нам в сад, когда кончатся экзамены. Я бросился в переднюю, неприятно чувствуя, что совершенно красен от смущения.
Да! Девочки Конопацкие с их тетей, Екатериной Матвеевной. И Люба, и Катя, и Наташа! Я повел гостей в сад… Не могу сейчас припомнить, были ли в то время дома сестры, старший брат Миша. Мы гуляли по саду, играли, – и у меня в воспоминании я один среди этой опьяняющей радости, милых девичьих улыбок, блеска заходящего солнца и запаха сирени.
У Конопацких не было сада. Я наломал им в нашем саду огромные букеты сирени. В сумерках очи собрались уходить. Я пошел их проводить. Прозрачные, слабо светящиеся майские сумерки, тихие белые улицы, запах душистых тополей из садов. Давно исчезло смущение, которое было вначале, чувствовалось с Катею легко и свободно. Она продела свою руку мне за локоть, и я повел ее под руку; это у нас не было принято, это была как будто игра, и в то же время было доверчиво-интимно. У их ворот, на углу Площадной и Старо-Дворянской, мы долго еще стояли, прощаясь. Я разговаривал с Екатериной Матвеевной, а Катя лукаво смеющимися глазами смотрела на меня и не выпускала из своих ручек моей правой руки, изредка пожимая ее.
Долго я ходил по улицам, пьяный светлым, блаженным хмелем. Благодарный и торжествующий смех подступал к груди, когда я вспоминал Катин взгляд и как она держала в своих руках мою руку. Была в этом рукопожатии детская, товарищеская чистота – и в то же время пробуждавшаяся девичья любовь. Так полна была душа, так радостно все в ней сверкало, билось и пело, что хотелось кому-то принести эту невместимую радость, благодарственного жертвою сложить к чьим-то ногам и молиться и широко простирать руки… Как хорошо! Как все хорошо в мире!
Сошел я вниз, в комнату, где жил с братом Мишею. Зажег лампу. И вдруг со стены, из красноватого полумрака, глянуло на меня исковерканное мукою лицо с поднятыми кверху молящими глазами, с каплями крови под иглами тернового венца. Хромолитография «Ecce homo!»[5 - «Вот человек!» (лат.)] Гвидо Рени. Всегда она будила во мне одно настроение. Что бы я ни делал, чему бы ни радовался, это страдающее божественною мукою лицо смотрело вверх молящими глазами и как бы говорило:
«Отче! Прости ему! Не ведает бо, что творит!»
И становилось стыдно, блекнул блеск, обесцвечивалась радость, глаза виновато опускались. Чтоб это лицо не укоряло, нужно было быть серьезным, строгим и скорбным.
И теперь, из окутанного тенью угла, с тою же мукою глаза устремлялись вверх, а я искоса поглядывал на это лицо, – и в первый раз в душе шевельнулась вражда к нему… Эти глаза опять хотели и теперешнюю мою радость сделать мелкою, заставить меня стыдиться ее. И, под этими чуждыми земной радости глазами, мне уже становилось за себя стыдно и неловко… Почему?! За что? Я ничего не смел осознать, что буйно и протестующе билось в душе, но тут между ним и много легла первая разделяющая черта.
* * *
У дедушки Викентия Михайловича, папиного дяди, – я об нем уже рассказывал, – было два сына. Один, Николай, получил от отца в наследство село Теплое, вскоре продал его и жил где-то в Минской губернии. Его и семью его мы почти не знали. Другой, Гермоген Викентьевич, жил в Рогачеве Могилевской губернии, служил там в акцизе. У него была тетка по матери, Ольга Богдановна Курбатова, богатая тульская помещица, он был ее любимый племянник. Она оставила ему в наследство два из своих многочисленных имений, разбросанных по Тульской губернии, – Зыбино и Щепотьево, верст за восемь одно от другого, в общей сложности десятин пятьсот. В Зыбкие – огромный барский дом, где жила и умерла она сама.
Известно, что у нас на Руси было два дела, для которых не считалась нужною никакая предварительная подготовка, – воспитание детей и занятие сельским хозяйством, Гермоген Викентьевич подал в отставку и приехал в Зыбино хозяйничать. Он был хорошим и исполнительным чиновником, но хозяином оказался никуда не годным. На наших глазах все постепенно ветшало, ползло, разваливалось. Оборотного капитала не было: чтобы жить, приходилось продавать на сруб лес и – участками – саму землю.
С его семьею жизнь наша переплелась самым тесным и многообразным способом, и долгие годы мы жили почти как одна семья.
Закрываю глаза, – и так мне представляется тогдашнее Зыбино. Прежде всего – ярко-солнечная зелень огромного сада; вся она полна птичьим стрекотанием, свистом чириканьем; особенно выдается своею необычностью (у нас в Туле я никогда не слыхал) гулкое воркование горлинок. Почему-то их всегда было в Зыбине очень много. Липовые аллеи, густые черемуховые и вишневые заросли, древние плакучие березы-великаны с какою-то особенною травою под ними, – длинною, редкою и шелковистою. Тихая речка Вашана под горой, полная до краев: за полверсты ниже нее – плотина и мельница.
Огромный старинный барский дом с несчетным количеством комнат. Полы некрашеные, везде грязновато; в коридоре пахнет мышами. На подоконниках огромных окон бутылки с уксусом и наливками. В высокой и большой гостиной – чудесная мебель стиля ампир, из красного дерева, такие же трюмо, старинные бронзовые канделябры. Но никто этому не знает цены, и мы смотрим на все это, как на старую рухлядь.
В просторном кабинете, за широким письменным столом, сгорбившись, сидит в халате Гермоген Викентьевич, дядя Геша, – очень толстый, с выпуклыми близорукими глазами. На стене портреты в рамках, среди них много дагерротипов: слепое серебряное поле, и только если смотреть сбоку, то видны дамы в буклях и кринолинах, мужчины во фраках, с маленькими бачками. Стекла больших окон – пыльные, засиженные мухами. Посмотреть в окно, – за кучами валежника треплется под ветром крапива, а дальше – кирпичные развалины. Работник Николашка, рассчитанный за пьянство, поджег службы, сгорели амбар, сарай, конюшни, остались от них только кирпичные стены; внутри – груды кирпичей, густая крапива и кусты бузины.
Звонко по дому и по двору разносится голос тети Марии Тимофеевны, – всегда ока кого-нибудь распекает, и за горелым сараем четко отдается: та-та-та-та-та!
Семья у них тоже, как у нас, была большая – семь человек детей. Две старшие девочки, Оля и Инна, были года на три, на четыре моложе меня, потом шел сын Викентий, мой тезка; меня звали Витя-Большой, его Витя-Малый. Дальше шла мелюзга, которою я еще не интересовался.
В 1880 году Оля и Инна поступили в тульскую женскую гимназию. Родители продали на сруб щепотьевский лес и купили в Туле двухэтажный дом на Старо-Дворянской улице, за угол от нас кварталом выше, наискосок от дома бабушки. В нижнем этаже поселились сами, верхний отдавали внаймы.
С этой поры началось тесное сближение двух наших семей. Родственники мы были довольно отдаленные, – троюродные друг другу братья и сестры, но росли почти как одной семьей и чувствовали себя друг с другом ближе, чем с многочисленными двоюродными братьями.
У нас больше были блондины, у них брюнеты. И прочно установилось название: Смидовичи белые – мы; Смидовичи черные – они. Различались мы не только цветом волос: дух семей, темпераменты, жизнеотношение – все было совершенно различное. Характерные семейные особенности: у черных – бесстрашие перед жизнью, большая активность, всегда ожидание всего самого лучшего, организаторские способности, уменье легко сближаться с людьми; с другой стороны, – неразборчивость в средствах, грубость в обращении с людьми, самоуверенность. У белых Смидовичей: культурность и корректность, щепетильная честность, большая деликатность, – даже выражение у нас было: «чисто-белая деликатность!» С другой стороны, – отсутствие активности и инициативы, полное неверие в свои силы, ожидание от жизни всего самого худшего, поэтому робость перед нею, тугость в сближении с людьми, застенчивое стремление занять везде местечко подальше и поскромнее. Несмотря на такое различие, мы жили очень тесно и дружно. Влияние друг на друга было сильное и многообразное.
Летом мы жили у них в Зыбине, зимою постоянно видались в Туле. Основная наша компания была: Оля и Инна, мои родные сестры – Юля, Маня, Лиза и Витя-Малый. В этой, преимущественно девичьей, компании я был самым старшим, самым развитым и властвовал над нею безраздельно. Был организатором игр, прогулок, состязаний, – как старший, везде, конечно, первенствовал, и во всех играх все рвались быть в моей партии, – в городках, в крокете, в лапте. Я очень любил рассказывать, а они слушать меня. Во время летних прогулок – на копне сена или на обрыве над речкой Выконкой, в дождливые дни – в просторной гостиной, на старинных жестких диванах красного дерева, – я им долгие часы рассказывал или читал, сначала сказки Гоголя и Кота-Мурлыки, «Тараса Бульбу», исторические рассказы Чистякова, потом, позже, – Тургенева, Толстого, «Мертвые души», Виктора Гюго. Все жадно теснились ко мне, старались сесть поближе, ловили каждое мое слово. Это было сладко и радостно. И часто я недоумевал: почему так легко и вдохновенно говорятся мне в нашей зыбинской компании, – и часто так трудно, так напряженно вяжется разговор у Конопацких. Когда я приезжал в Зыбино, я с головою окунался в атмосферу общей любви, признания и скрытого восхищения. И я очень любил бывать в Зыбине. Раз шел с купанья домой, с простыней на плече. Сгущались зеленоватые июньские сумерки, чаща сада темнела, сквозь ветки горела вечерняя звезда; дом сиял огромными освещенными окнами, смех, звон посуды, звуки рояля из гостиной. Бодрая крепость в теле, ощущение прочной чистоты от частого купанья, сейчас вкусный ужин, все тебя любят, все тебе рады. И странно мне стало: как это Фауст не нашел в своей жизни ни одного мгновенья, чтобы сказать: «Остановись, ты прекрасно!»
* * *
Больше всего в то время я дружил с Витькою-Малым. Он был на пять лет моложе меня, – мальчишка приземистый, очень сильный, с насупленными бровями.
Если стать на дворе перед домом, то слева и справа высились белые каменные столбы ворот. Левые ворота вели в широкую липовую аллею сада. Правые тоже вели в сад, – он назывался Телячий сад, потому что в нем пасли телят. Не было тут ни аллей, ни дорожек; только разбросанные группы деревьев и огромные одиночные липы с ветками, спускавшимися до земли. От двора Телячий сад отгораживали кирпичные развалины горелого сарая, под растрескавшимися его стенами росла темнолистная бузина и высоченнейшая крапива; густые армии этой же крапивы тянулись от развалин в глубину Телячьего сада.
Сколько тут было боев с поляками, сколько посечено казацкими шашками ляшских голов! Я был Тарас Бульба, Витя-Малый – Кукубенко, невидимо присутствовали и Остап, и Андрий, и Мосий Шило, и Демид Попович. У нас были вырезанные мною из дерева шашки, ружья, кинжалы. Мы бешено врубались в крапиву и прокладывали себе дорогу сквозь гущу ляхов и лихо сбивали головы их начальникам, – красноголовым репейникам-татарникам.
Потом мы решили построить себе курень. Выбрали укромное место в канаве старого сада, густо заросшее лозняком и черемухой. Расчистили дно и стенки, устроили стол, в откосах канавы вырыли сиденья и погреб для припасов, развесили по сучкам свое оружие. Отсюда мы делали набеги на ляхов, сюда скрывались от их преследования.
За обедом мы потихоньку заворачивали в бумагу куски еды. Девочки это заметили, заметили также, что мы на целые часы исчезаем куда-то. И вот однажды сидим мы в своем курене, распиваем горилку, – сахарную воду с малиновым соком, – вдруг слышим невдалеке говор, треск сучьев. Подкрались: в десяти шагах от нас, в нашей же канаве, Инна и Маня лопатами расчищают себе совсем такое же убежище, как наше. Мы на них налетели: какое они имеют право? Здесь мы играем! «Мы вам не мешаем, – играйте, пожалуйста! А канава не ваша!»
Долго мы препирались, подошли другие девочки. Я требовал, чтоб они тут не делали дома, – стройте в Телячьем саду или на другом конце сада. Но девочки видели наш прекрасный дом и не могли себе представить, как можно такой дом построить и другом месте, а не в этой же канаве. Меня разъярило и то, что наше убежище открыто, и еще больше, что задорные Инна и Маня не исполняют моих требований, а за ними и другие девочки говорят:
– Кто же вам подарил всю канаву? Я разозлился и сказал угрожающе:
– Ну, вот что! Подарил кто или не подарил, а знайте, – заранее вас предупреждаю: если мы кого из вас застанем здесь, в канаве, то поднимем той юбочку и всыплем таких горячих, что долго будет помнить!
Девочки не испугались и стали строить свой дом. Мы тогда охладели к своему и бросили его. Тогда и девочкам стало неинтересно, и они перестали строить дом. Я их обличал и стыдил и обливал презрением:
– Видите! Только, чтоб назло! Добились своего, заставили нас бросить – и сами перестали… Никогда вам за это не стану ничего рассказывать!
И часто нарочно, чтоб они слышали, вставал и говорил Вите:
– Ну, Витька, пойдем дальше рассказывать. Мы, значит, остановились на том, как пан Данило ехал с хлопцами по Днепру на лодке и как мертвецы на кладбище поднимались из могил…
И мы уходили, и девочки с горем и завистью провожали нас глазами.
Наконец, мы помирились с девочками и в той же канаве сообща стали строить большой дом. Выстроили, целых две недели пользовались им, до нашего отъезда.
Сестры уехали в Тулу раньше, а я после них через три дня. Приехал домой. Как всегда после Зыбима, комнаты нашего дома показались мне странно маленькими, потолки низкими, давящими душу. Бросился целоваться с папой, – он сухо ответил на мой поцелуй и молча отвернулся. Мама тоже встретила холодно. В чем-то, значит, проштрафился! Всегда, когда я откуда-нибудь приезжал домой, я мог неожиданно встретить строгое, укоризненное осуждение, потому что нигде к нам не предъявляли таких несгибающихся моральных требовании, как дома.
На следующий день мама с возмущением заговорила со мною об угрозе, которую я применил к девочкам в нашей ссоре за дом. Рассказывая про Зыбино, сестры рассказали маме и про это. А папа целый месяц меня совсем не замечал и, наконец, однажды вечером жестоко меня отчитал. Какая пошлость, какая грязь! Этакие вещи сметь сказать почти уже взрослым девушкам!
– Да я бы этого, правда, не сделал. Я только попугать. Зачем же они…
– Правда, не сделал бы! Да если бы ты это, правда, сделал, я бы тебя сейчас же выгнал вон из дома, навсегда бы отрекся от тебя. Так позволить себе обращаться с девушкой! Ни минуты не потерпел бы у себя такого негодяя.
* * *
Как я начал курить. – Отец мой курил. Сколько мне приходилось наблюдать, легче всего привыкают курить и труднее всего отвыкают от курения люди, родители которых курили. Может быть, тут уже наследственно, с кровью, передается склонность к курению (передается же склонность к пьянству); несомненно, что организм детей приучается с раннего детства к никотину, потому что они все время вдыхают табачный дым курящего отца. И, наконец, – для ребенка в большинстве случаев именно отец его является олицетворением «взрослости», а ребенку всегда нравится казаться взрослым.
Был я тогда, помнится, в шестом классе. Многие мои товарищи давно уже курили. На переменах, в уборных, торопливо затягивались раз за разом и пускали дым в отдушники и возвращались с противным запахом дешевого табаку. Мне очень хотелось курить. Во-первых, потому что это запрещалось и у того, кто курил, был особый оттенок лихости. А главное, это делало взрослым. Голос у меня уже ломался, на верхней губе, если внимательно вглядеться, пушок был гуще и длиннее, чем на лбу или щеках. Но это все еще можно было оспаривать. Папироса же во рту, – это был факт, против него ничего уж не возразишь.
Стояла поздняя осень, когда балконные двери уже законопачены и обмазаны замазкою и когда в сад можно пройти только через кухню и двор. В саду холод, безлистный простор, груды шуршащих листьев под ногами, не замеченная раньше пара красных китайских яблочек на высокой ветке, забытая репа в разрытой огородной грядке. Есть это было особенно вкусно.
Мы с товарищем Фомичевым ушли подальше в большую аллею, чтоб нас нельзя было увидеть из окон дома. Я вынул из кармана коробочку папирос, – сегодня купил: «Дюбек крепкий. Лимонные». Взяли по папироске, закурили, Фомичев привычно затягивался и пускал дым через нос. У меня кружилась голова, слегка тошнило, я то и дело сплевывал. Фомичев посмеивался:
– Ишь, как побледнел!