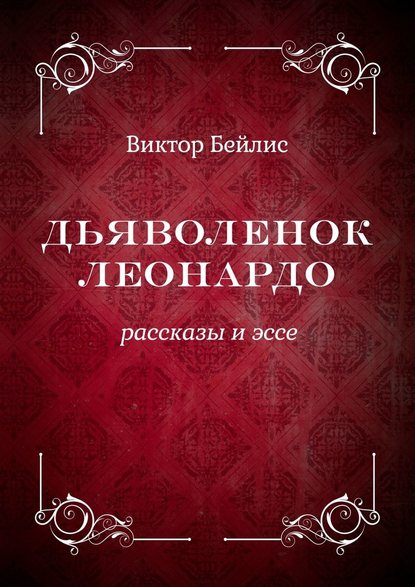По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дьяволенок Леонардо. Рассказы и эссе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Море смотрело на меня. И горы смотрели на меня. Castello Molo смотрел на меня. И море уплывало от меня. И горы отодвигались от меня. И деревья махали мне ветками. Все уходили от меня. Я стоял один – спокойный и один, а они теряли цвет, размеры, объемы, формы, приличия, правила, законы, привязанности. Они выходили из себя, волновались, совершали ошибки, а я был равнодушен, и один, и непогрешим.
Я еще хотел было что-то сказать, но передумал, потому что я…
12.05.06.
Souvenir de Florence,
или Кое-что о жанре мемуаристики
Во Флоренции я гостил в русском доме, у Галины Х. По-итальянски начальная буква ее фамилии не произносится, и она всегда, называя свое имя, добавляет: «Кон прима леттера акка» (то есть инициалия – латинское «Н»), – иначе ни в каком компьютере не найдут. Так я и стану называть ее: «Акка». Я много знал о ней понаслышке – от друзей, из бесчисленных мемуаров о Бродском, где можно почерпнуть детали ее биографии и замужеств, а также из книг о знаменитых русских во Флоренции, где она упоминается в связи с чудесной флорентийкой русского происхождения, оставившей Акке в наследство свои квартиру и фамилию.
Мы сразу же понравились друг другу, о чем немедленно и громко оповестили всех, кто был рядом, – нам показалось (и справедливо), что мы можем обсуждать все что угодно без какого-либо изъятия, как если бы в предыдущей жизни, в том числе и на территории Советского Союза, где мы, впрочем, проживали в разных городах, мы уже затронули все темы, и нам нужно лишь досказать что-то, пусть и очень важное, но к моменту последнего (хотя, по-настоящему, первого) разговора ни для кого из нас не новое.
Помимо достопримечательностей квартиры – дивного узорчатого мраморного пола (почему-то с могендовидом, – вероятно, первым хозяином дома был еврейский негоциант), любопытных картин и фотографий на стенах (от академика Сахарова до каких-то мне не известных, но симпатичных бородачей-шестидесятников), многоязычной библиотеки, – здесь можно было насладиться обществом двух котов, проживающих вместе с Аккой и ничего против нее не имеющих, поскольку она никогда не покушалась на их свободу, но не всегда разделяющих ее доброжелательность по отношению к гостям. Коты Вася и Ваня (имена, по понятным причинам, я изменил), обладающие совершенно разными характерами, считали, что все радости жизни они уже испытали и ничего экстраординарного в грядущем не ожидали, полагая, что надо теперь лишь достойно встретить неизбежное и, главное, не потерять независимости. Никакой особой мудростью они не обладали, порою вели себя, как последние эгоисты, и застенчивости никогда не выказывали. О своем здоровье они заботились, выполняя упражнения утренней гимнастики неодинаковой трудности: Ваня явно щадил себя и часов в десять приходил слегка поободрать обшивку дивана, на котором я спал, Вася же в восемь утра врывался в мою комнату, чтобы как следует поточить когти об антикварную мебель. Враждебности по отношению ко мне коты не испытывали, но рассчитывать на их дружбу не приходилось, и они не упускали случая, чтобы сделать мне то или иное критическое замечание, а то и выговор за какой-нибудь faux pas, и я всякий раз вынужден был признать реприманд справедливым и поспешно обещал исправиться, чему они никогда не верили, ни в грош не ставя нравственные способности человеческой породы вообще и моей персоны в частности. С моей женой отношения у котов были проще: они, в зависимости от настроения, принимали или не принимали ее ласки, обходясь без нравоучений.
На следующий после приезда день мы отправились побродить по городу, не задаваясь никакими целями, не захватив ни карт, ни путеводителей. Заблудимся – тем лучше: это один из самых верных способов узнать не слишком знакомый город. Мы прошли через центр, добрались до Понте Веккио и решили погулять вдоль Арно, который был в этот день особенно золотист. Мы почти не разговаривали, думали каждый о своем, но при этом ничего не упускали из виду. Во время нашей прогулки – мы подходили к какой-то площади – внутри меня словно бы включилась тихая музыка, и я долго не мог узнать ее; стал прислушиваться к голосам и не мог разобрать, звучит ли камерный оркестр или это секстет. Хотел было спросить у жены, но вспомнил, что играют только для меня. Я все же взглянул на Лену и увидел, что она, сама того не понимая, напевает именно то, что в настоящий момент исполняют для меня.
– Что ты поешь? – поинтересовался я.
– Я пою? – удивилась Лена.
– Ну да, – настаивал я.
Она неуверенно насвистала.
– Это?
– Вот-вот!
– Я не помню.
Тут меня осенило: Чайковский! Мы оба думали о Чайковском.
– А знаешь, почему мы вспомнили о нем?
– ?
– Вот в этом отеле на углу площади, к которой мы подходим, он жил около двух месяцев, в течение которых он полностью сочинил «Пиковую даму». Здесь ему хорошо работалось и жилось, все казалось дешево и удобно, здесь он любовался красивым мальчиком-посыльным с чудесным певческим голосом, отсюда он направлялся гулять в сад с почти русским названием «Кашино» (на самом деле – Cascine).
– Откуда ты все это знаешь, мы ведь здесь впервые?
– Я это чувствую. Ты знаешь, как я не люблю посещать дома умерших знаменитостей, куда люди стремятся, чтобы увидеть, например, кресло, в которое поэт погружал свои телеса. Но я очень живо ощущаю среду обитания интересных мне творческих личностей. Помнишь, когда мы вот так же гуляли по Риму, я вдруг сказал: «Где-то здесь, должно быть, жил Гете», и оказалось, что мы стоим прямо напротив его дома на Корсо, хотя мы не собирались отыскивать это место в Риме.
Короче, как мы выяснили позже (никаких памятных досок на стенах гостиницы не было), Чайковский жил именно в этом отеле. Оставалось узнать, что за музыка звучала для нас, и я докопался до этого далеко не сразу, в отличие, вероятно, от возможного читателя, который тотчас же поймает уже имеющуюся здесь подсказку и не станет, как я, долго ломать над этим голову. Скажу лишь, что изначально этот опус задуман и сочинен как секстет, но я знаком с ним в аранжировке для камерного оркестра, – именно в этом исполнении кто-то мне его и транслировал.
Мы продолжали прогулку и дошли, как и предполагали, до парка, который уже навсегда назывался для нас по-русски: Кашино. (Так по имени какой-нибудь деревни мог бы называться район одного из крупных российских городов, да хоть бы и Москвы. Легко представить себе разговор москвичей: «Вы где живете?» – «Недалеко от метро „Кашино“»). В этом парке, кстати, любил гулять и Достоевский.
В тот день мы так же совершенно случайно, уже возвращаясь домой, набрели на русскую церковь, закончив на ней знакомство с русской Флоренцией, неизвестно кем для нас подстроенное. Неправославные русские, каковы мы с Леной (да простят мне этот эвфемизм подлинные патриоты), мы все же испытали что-то вроде умиления (не эстетического восторга, а именно умиления, почти религиозного), глядя на эти, столь диковинные среди зданий и церквей 12—15 веков русские купола.
Акка вскорости поинтересовалась, не собираюсь ли я написать мемуары, и очень удивилась моему нежеланию этим заниматься.
– Ну, хочешь, я попробую прямо сейчас, – собрался с мыслями я. – Вот послушай: тебе первой – до сих пор никому не рассказывал. (Почему-то заинтересовался Ваня и сел рядом с Аккой, внимательно глядя на меня).
– В начале шестидесятых я часто наезжал в Ленинград, где был вхож в одну филологическую компанию. Имен не называю – нынче это самые известные люди Санкт-Петербурга. Да вот, некоторые из них тут у тебя на фотографиях. Устраивались домашние вечера с авторским чтением только что написанного. Многие опасливо глядели на меня: я имел репутацию скептика и сурового критика, и, надо сказать, по молодости, бывал свиреп в своих суждениях, полагая, что для работы в такой литературе, какова русская, нужна несравненная отвага, потому что сопоставлять себя следует не с тем говном, которое пускает в печать советская власть, а с классической литературой, и уж если взял в руки стило, то будь добр оглянуться на Хлебникова или Мандельштама.
Однажды как-то особенно нетерпеливо ждали одного поэта, который оказался рыжим картавым красавцем и который мне сразу не понравился своей самоуверенной повадкой и просто-таки нескрываемой наглостью в обращении с едва знакомыми людьми. Он тотчас вышел на середину комнаты и гнусаво-монотонно завыл: «Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик нелюдимый из Александровского сада». Стихотворение было длинное, а на второй строфе я уже не помнил о гнусавости и несколько комической выспренности декламации и не представлял, что эти слова можно произнести другим голосом и иной интонацией, более того, я потерял смысловую нить и даже не пытался ее восстановить, довольствуясь самопроизвольно возникающей семантикой, не отягощенной значением, а это был первейший признак: стихи сохраняли первоначальный и первозданный гул, из которого только и возникает поэзия.
Закончив чтение, он сразу подошел ко мне, не обращая внимания на слова, к нему со всех сторон обращенные.
– Гениально, да? – скорее утвердительно, чем со знаком вопроса, произнес он, и я понял, что никакое это не нахальство, а просто восхищение тем, что ему дано было зафиксировать, уловить, записать диктант без ошибок и описок. – Пойдем со мной, – сказал он, – я хочу тебе кое-что показать.
Мы пошли по ночному Ленинграду. Он мог рассказать что-то практически о каждом доме, а когда мы дошли до Васильевского острова, он вдруг топнул ногой и пропел: «Вот сюда, вот на это самое место я притащусь, если хватит сил, чтобы последний раз выдохнуть. Конечно, хорошо бы увидеть Венецию и умереть, но что выбирать страну, да и все равно не выпустят, нет, умирать я приду на Васильевский остров».
Галя, как знаменательна даже эта его пророческая ошибка: похоронили-то его в Венеции.
– Ну-с, как тебе мемуар? – спросил я.
Ваня освещал своими глазами кухню и странно выгибал шею, Вася еще раньше покинул помещение, Акка же в голос хохотала. Отсмеявшись, она проронила:
– Милый друг, а ты вообще-то встречался с Осей?
– Нет, а что, – забеспокоился я, – что-нибудь ложное в моих воспоминаниях? Я ведь могу еще много нарассказать. Не хуже других. Разве необходимо знакомство?
– Но ты же не станешь отрицать, что существуют мемуары, в которых можно отыскать драгоценнейшие детали и которые лишь данный рассказчик способен преподнести?
– Слово «преподнести» ты употребила весьма уместно. Мемуаристы главным образом себя и преподносят.
– Но подчас и беспощадно по отношению к самим себе. Раз уж ты заговорил об Осе, припомни хотя бы то место в книге Анатолия Наймана, где Бродский говорит автору: «Что это вы мне все время тычете своего Христа?» Не всякий отважился бы зафиксировать такую реплику.
– Галя, да ведь нет на земле человека – от Евгения Рейна до Папы Римского, который не мог бы сказать это Найману.
– Но диалог продолжается приблизительно так: «Были люди и получше вашего Христа». – «Кто, например?». – «Например, Сократ или Моцарт».
– Дорогая Галя, не было человека – от Бродского и Довлатова до футболиста Эдуарда Стрельцова, – за которого Найман не сумел бы придумать остроумного ответа.
– Ты и сам что-то расточаешь сарказмы.
– А ты освежи в памяти, как все эти люди из окружения Ахматовой и Надежды Яковлевны Мандельштам взвились и завелись сполоборота, когда до России дошли мемуарные рассказики Георгия Иванова. А ведь тот даже не скрывал, что это всего лишь беллетристика, имя для него было только усилителем, попыткой сохранить образ на вымышленном материале. Откровенное художественное завирательство несравненно благороднее и интереснее попытки представить истину в последней инстанции. Какова, например, явно придуманная история о Шилейко! Украденная Шилейко рука египетской мумии, которая оживает и шевелится от слов какого-то невзрачного заклинателя. При этом понятно, что ничего бы такого не произошло, если бы до этого сеанса с чтением заговора Шилейко сам не прошипел, не просвистел, не нашептал, не выдохнул вместе с бешеной слюной «Заклинание» Пушкина так, чтобы всем стало страшно и волосы зашевелились бы на голове, как змеи на голове Медузы. Дальше все очень просто: Георгию Иванову для достижения поставленной цели остается лишь процитировать всем известные строки, и действительно становится страшно.
О, если правда, что в ночи
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы…
Явись, возлюбленная тень…
– Прекрати, – вдруг сказала Акка, – и я, опомнившись, понял, что невольно стал подражать описанной манере чтения и произносил стихотворные строки именно как магический заговор, я всерьез вызывал из небытия возлюбленную тень, и от пушкинского «Заклинания» способна разверзнуться чья угодно могила – и гораздо естественнее, чем от невнятного «Бегут по земле три кобеля, растут на земле три гриба…»