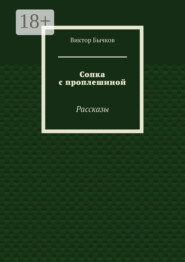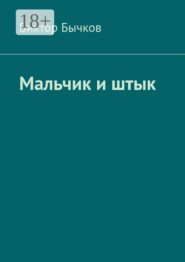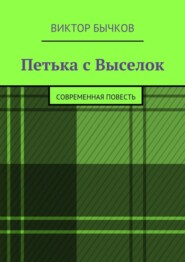По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Когда поёт жаворонок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тело сержанта уложил на дно неглубокой ямки, прикрыл плащ-палаткой и только потом присыпал землей. Долго, с любовью выравнивал могильный холмик, обстукивал ладонями, заглаживал. Еще дольше провозился, пока соорудил что-то похожее на крест из двух палок, соединенных между собой корою лозы, установил.
Нашёл в сидоре сержанта клочок бумажки, химический карандаш. Печатными буквами вывел фамилию, имя и отчество товарища, дату гибели, прикрепил к кресту.
Отыскал незнакомый ему цветок с голубыми лепестками, сорвал, воткнул в изголовье, рядом положил пилотку дяди Толика, потом все же снял с нее звездочку, немного подержал в руке, прикрепил к своей гимнастерке. На память. Подобрал с земли разбросанный бритвенный прибор Сизова, замотал в тряпицу опасную бритву и помазок, бритвенный стаканчик, забрал с собой. Очистил от земли и мусора несколько сухарей, бросил в вещмешок.
Постоял, склонив голову у могилы однополчанина, потом посмотрел вверх, определил направление по солнцу и решительно зашагал на восток.
На краю болота в зарослях кустарника, что тянулся вдоль небольшой поляны, отыскал твёрдое дно, разделся, снял знамя, сполоснул в чистой воде, разложил высыхать на траве. Сам зашел в воду, смыл с себя торфяную жижу, потом простирнул исподнее, брюки, гимнастерку, развесил все на кустах, остался нагишом, подставляя тело под последние лучи заходящего солнца. Прочистил и промыл винтовку, протер, пересчитал патроны – осталось восемнадцать штук. То же проделал и с пистолетом: две целые неизрасходованные обоймы остались лежать с начала войны, не пришлось воспользоваться. В бою больше доверял винтовке, в рукопашных – штыку. А пистолет так и находился в кобуре как обязательный атрибут офицера для ближнего боя и последний аргумент, последнее средство не сдаться врагу живым.
Долго выдержать голышом не смог: комары не давали покоя, пришлось натягивать на себя волглое белье.
Для ночлега облюбовал ельник с невысокими, но густыми елочками, что плотно прижались друг к дружке. Забрался вовнутрь, под лапы, улегся на мягкий слой иголок. Отложил клапана пилотки, натянул на голову как можно глубже, закрыв уши, щеки, уткнул лицо в расстегнутый ворот гимнастерки, уснул мгновенно, даже не успев почувствовать назойливый писк комаров.
…Отныне ориентировался только по всходящему солнцу, и каждый день намечал направление на ночь. В светлое время суток предпочитал укрываться, пережидать, чтобы потом наверняка пройти десяток-другой километров, но и не упускал возможности, если местность позволяла идти и днем. Иногда за дневной переход, по его подсчетам, удавалось преодолеть и все пятьдесят километров.
Вот и сегодня решил обойти большое село днем. Для этого пришлось передвигаться по оврагу, что тянулся строго на восток вдоль грейдера в обход населенного пункта.
Глубокий, заросший по сторонам мелким кустарником и редким березняком, он надежно скрывал Ивана от посторонних глаз. Тропинки, протоптанные по самому дну стадами коров, позволяли передвигаться без видимых усилий.
Уже ближе к полудню со стороны дороги услышал громкие голоса, команды на немецком языке. Взобравшись на кромку обрыва, спрятавшись за густые заросли чернобыла, увидел, как понуро брела огромная толпа мужчин, женщин, стариков и детей под конвоем немецких солдат. Унылая процессия шла вдоль оврага, что метрах в ста от Ивана подходил почти к самой дороге.
Прошкин увидел вдруг, как из толпы полетел сверток, покатился по склону, мелькнул меж небольших березок и исчез из поля зрения. В этот момент охрана почему-то начала оттеснять людей от оврага, громче, резче стали команды.
Лейтенант ужом скользнул вниз, на дно, метнулся в то место, где должен был упасть таинственный предмет.
Еще не добежал до изгиба, как услышал детский плач, больше похожий на писк, чем на голос ребенка. Однако то, что плакал малыш, сомнений не было – это был детский плач.
Над обрывом, зацепившись за березку, лежал орущий темный сверток.
Судорожно хватаясь руками за небольшие выступы, корни деревьев, Ваня полз наверх к этому странному объекту, который кричал, не переставая.
– Господи, только бы не услышали немцы.
Взяв его на руки, огляделся вокруг. Колонна уже скрылась из виду. И дорога была пуста.
А ребенок, оказавшись на руках, сразу затих, успокоился.
Спустившись опять на дно оврага, и почувствовав себя в относительной безопасности, Прошкин дрожащими руками приподнял уголок одеяльца, что прикрывал лицо младенца. Из свертка на него смотрели темные глазки-миндалинки на смуглом личике.
– Странно, очень странно, но кто и зачем выбросил дитё? – сам себе задавал вопросы и не находил ответа, недоуменно озираясь вокруг.
– Оставить его здесь? – что-то подсказывало, что так и надо сделать. Личная безопасность превыше всего.
Но тут же кто-то другой внутри него даже не допускал такой возможности, корил того, первого, за жестокость:
– Ты что, дурак, что ли? Это ж… это ж… но что же делать? Вот влип, так влип!
А ребенок опять захныкал, слышно было, как заворочался на руках лейтенанта, недовольно закряхтел.
«Не было печали, черти накачали», – откуда-то на ум пришла вдруг поговорка Ваниной мамы.
– Что же делать? – сам говорил, а руки уже непроизвольно качали находку, убаюкивали, однако ребенок продолжал хныкать, готовый вот-вот сорваться на плач.
– Тихо, тихо, маленький, все будет хорошо, – другие слова не приходили на память. – Успокойся, мой хороший, успокойся.
Поднялся, перекинул за спину винтовку, взял ребенка на руки и медленно, тихонько стал уходить по дну оврага подальше от дороги. Пока шел, малыш молчал, хлопал глазками-бусинками, но стоило только остановиться, как сразу же начинал крутиться, хныкать.
– Что ж тебе надо? – бубнил под нос Прошкин. – Наверное, мамкину сиську, да только где ж я ее тебе возьму? Молочка бы раздобыть, мой хороший.
Это мысль понравилась ему, и вдруг осенило: там, где будет брать молоко, там же и оставит ребеночка. Вот и выход! Значит, надо идти к людям. Как же он об этом раньше не догадался?
Ваня повеселел и уже придумывал способ, как пробраться до какой-нибудь ближайшей деревушки с сердобольными и щедрыми старушками. Почему-то казалось, если кто и заберет ребенка, так только кто-то старенький, из пожилых, обязательно какая-нибудь бабушка.
Теперь его находка уже не молчала, а снова плакала не переставая. Не помогали укачивания, уговоры.
– Что ж тебе надо? Может, раскрутить тебя?
Недолго думая, выбрал местечко, хорошо освещаемое солнцем, положил сверток на траву, развернул: мокрые пеленки сразу поставили все на свои места.
– Не хочешь мокрым ходить, мой хороший? – разговаривал с ребенком, как с взрослым. – О! Девочка! – то ли удивился, то ли обрадовался Иван. – Надо же! А я думал, что пацан. Хотя, какая разница?
Распеленатая малышка лежала, смотрела вокруг, смешно болтала ручками и ножками, пыталась что-то гукать, тянула пальчики в рот. Прошкин развесил на кусты мокрые пеленки, молча смотрел на ребенка, обхватив голову руками.
«Куда это годится, что ж это такое – с таким довеском выходить к своим? Самому не знать, как пройти, а тут дитенок? Да-а, история, скажи кому – не поверят. Но зачем выбросили ребенка, вот вопрос? Постой, а куда гнали толпу? Кажись, военных среди них не было? Точно, не было. И ребятенок смугленький, на нерусского похож. Что ж это значит? А чем кормить его? Еще час-другой, и он потребует поесть. А что ему дать? С ума сойти! Вот влип, так влип!», – в который раз корил себя Прошкин.
– Надо к людям выходить, факт.
На всякий случай нащупал оставшиеся сухари в кармане, вспомнил, как кормила на вокзале цыганка своего ребенка. Тогда она завернула кусочек хлеба в марлю, смочила в воде, сунула в рот малышу. К удивлению Ивана, тот не выбросил, с аппетитом зачмокал.
И мучительно пытался вспомнить, как же называется такая соска, такой способ кормления детей. То ли сусла, то ли ещё как.
– Да Бог с ним, с названием. Главное, чтобы помогло.
Не стал откладывать такое дело на потом, а оторвал от исподней рубашки кусок тряпки, помял в руках сухарь, плотно закрутил. Смочил водой из фляжки, дал время сухарю размякнуть.
Кое-как запеленал девочку, она уже не плакала, а все водила и водила глазками вокруг, пока они не стали слипаться, и малышка уснула.
– А как же соска? – Прошкин вертел в руках свое изобретение, не зная, куда его можно приспособить. Потом аккуратно засунул под одеяльце, опять закинул винтовку за спину, взял ребенка на руки и снова зашагал по оврагу. Ношу свою нес бережно, аккуратно, стараясь не задеть ненароком за куст, не уронить. Босые ноги ступали мягко, неслышно, и опять настроение вернулось к Ивану.
«Не все так уж и плохо, черт побери! Из любой ситуации есть выход. Надо только найти его».
Радужные мысли Прошкина прервали вдруг раздавшиеся впереди выстрелы. Они слышались впереди по курсу, из лога, оттого были четкими, резкими, эхом отдавались по всему оврагу. Хорошо различал звонкие винтовочные, глухие хлопки пистолета, татаканье пулеметов, дробь немецких автоматов.
Девочка захныкала, заворочалась, Иван тут же достал самодельную соску с сухарями, сунул ей в рот. Она сначала крутила головкой, морщила личико, капризничала, выбрасывала её изо рта, потом все-таки зачмокала, засосала, глазки опять стали слипаться, и ребенок уснул, не выпуская соску.
– Ну, вот, и успокоилась, моя хорошая. Спи, спи, красавица.
Выстрелы прекратились, только нет-нет да прозвучит хлопок пистолета. Лейтенант осторожно прошел еще немного вперед до поворота оврага, где тот круто менял свое направление, уходил вправо, расширялся настолько, что края его были на достаточно большом расстоянии друг от друга. Прижался к обрыву, выглянул из-за куста: чуть впереди прямо по дну лога был вырыт длинный ров. На его краю стояла толпа совершенно голых людей. Достав бинокль, Прошкин разглядел и мужчин, и женщин. Вокруг них суетились немцы, пулеметные расчеты лежали у обрыва, человек пятнадцать-двадцать солдат с винтовками и автоматами стояли напротив обнаженных смертников. По бокам, заложив руки за спину, в фуражках с высокими тульями расположились офицеры. Дальше просматривался и еще один ров с длинным земляным бруствером вдоль него. Пустой.