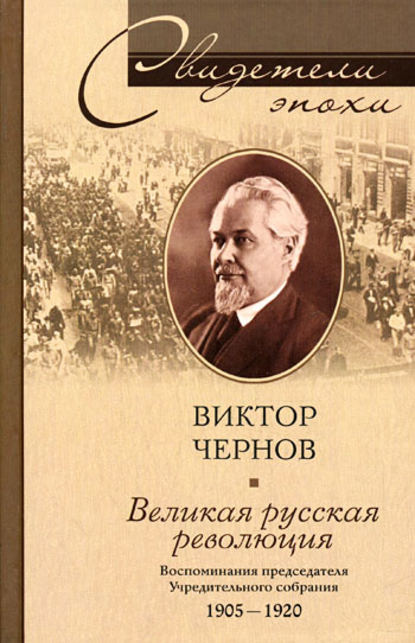По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Великая русская революция. Воспоминания председателя Учредительного собрания. 1905-1920
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шидловский с горечью ответил:
– Какой смысл жалеть его, если он уничтожает Россию?
Многие члены Думы согласились с Шингаревым и Шидловским. Процитировали слова Брусилова: «Если мне придется выбирать между царем и Россией, я последую за Россией».
Самым неумолимым и резким оказался Терещенко, который очень меня огорчил. Я прервал его и сказал:
– Вы не думаете о том, что случится после отречения царя... Я никогда не присоединюсь к перевороту. Я дал клятву... Если армия может обеспечить его отречение, пусть это решает ее командование, но я до последней минуты буду действовать убеждением, а не силой».
Картина «заговора» получается не слишком приглядная. Военное крыло, которое представляет Крымов, говорит штатскому: «Если вы решитесь, мы вас поддержим». Но штатское крыло в лице Родзянко отвечает: «Если вы, армия, сумеете заставить царя отречься, мы этим воспользуемся». Иными словами, это был не столько заговор, сколько болтовня о нем. Каждый выталкивал вперед другого. Согласно отчетам тайной полиции, после убийства Распутина «люди много и серьезно говорили о националистической партии, сконцентрировавшейся вокруг Пуришкевича; говорили, что эта партия решилась на дворцовый переворот, чтобы спасти Россию от революции»; однако жандармерия признавалась, что все это может быть «лишь досужими слухами». Родзянко говорит: «Многие люди были абсолютно и искренне уверены, что я готовил переворот и что мне помогали многие гвардейские офицеры и британский посол Бьюкенен; конечно, это была полная чушь».
Именно таким был странный «заговор», о котором говорили во дворцах великих князей и апартаментах депутатов Думы, в модных салонах и кабинетах командующих армиями, в докладах политической полиции и на совещаниях Совета министров. «Я считал это досужей болтовней», – писал Шульгин, и он был близок к истине. Последним фрагментом этого плана было совещание, на котором присутствовали Родзянко, его помощник Некрасов, секретарь Думы Дмитрюков, депутат Савич и великий князь Михаил Александрович. Оно состоялось 27 февраля 1917 г., когда уличная демонстрация уже перерастала в победоносную революцию. «Великому князю сказали, что ситуацию еще можно спасти: он должен немедленно принять на себя диктаторскую власть в Петрограде, заставить министров подать в отставку и по прямому проводу потребовать от Его Величества манифеста о создании правительства народного доверия». Но даже такой половинчатый дворцовый переворот закончился одними разговорами: «нерешительность великого князя» испортила все. Изо всех пунктов программы он выполнил только один: поговорил с царем по прямому проводу, получил решительный отказ и «сложил бессильные руки на пустой груди».
Глава 4
ДУМА ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БУРИ
Как мы уже убедились, Дума пыталась всеми силами избежать революции. С первых шагов триумфального марша революции по улицам Петрограда Дума игнорировала ее. Рабочих, которые наводнили улицы, постепенно увлекал водоворот. То же происходило и с солдатами, стихийно объединившимися вокруг двух лозунгов: «Хлеба!» и «Долой войну!». Последний лозунг делал демонстрацию не просто чуждой Думе, но положительно враждебной ей. Дума знала, что осенний набор 1916 г. уже довел число рекрутов до тринадцати миллионов, что четыре миллиона жертв означали двадцать миллионов вдов, сирот и беспомощных стариков, поскольку среднестатистическая русская семья состояла из пяти человек. Она знала, что беженцы из оставленных губерний увеличивали бремя тех, кто был занят в производстве. Она знала, что финансы страны расстроены и концы с концами удается сводить только с помощью инфляции, которая дезорганизует производство и торговлю. Она знала, что оборудование военной промышленности и транспорт изношены; иными словами, что экономика России трещит по швам, напрягает все общественные связи и зловеще обостряет все социальные антагонизмы. Но Дума имела дело только с одной формой стремления к миру: дворцовыми интригами, целью которых была сепаратная сделка между Николаем II и Вильгельмом II, означавшая для России лишь тупик реакции и вассальную зависимость русской Голштин-Готторпской династии, переименовавшейся в Романовых, от победивших Гогенцоллернов. Дума, боровшаяся с этой сепаратной сделкой, мобилизовала против нее общественное мнение, добавила к этому лозунги либерализма и патриотизма и не могла собственными руками уничтожить то, что создавала таким трудом, идя на все мыслимые и немыслимые моральные и политические жертвы. Настроение масс делало требование мира революционным лозунгом, призывавшим рабочих всех стран объединиться и положить конец «военным забавам» их правителей. Для Думы это стало новой утопией, непостижимой и неожиданной. Данное движение не могло вдохновить депутатов; оставалось только не обращать на него внимания.
Поэтому Думе предстояло остаться на мелководье, забытой всеми, не способной на союз с народом, отвергнутой самодержавием и никому не приносящей пользы. Но тут ей на выручку нечаянно пришло правительство. Когда уличные демонстрации достигли своего пика, правительство издало указ о роспуске Думы. Внезапно петроградские улицы облетела весть: Дума отказалась «распуститься»! Для всех недовольных, которые еще колебались, и всех тех, кто начинал сомневаться в прочности правительства, которое они защищали, это стало последней каплей. Первые благодаря стадному инстинкту присоединились к движению в поддержку Думы, а вторые, парализованные отсутствием веры, покинули тонущий корабль государства.
Однако отказ Думы «распуститься» был всего лишь легендой. Да, левые депутаты призывали к такому отказу. Но «отказ подчиниться монарху означал бы, что Дума разворачивает знамя мятежа и возглавляет этот мятеж со всеми вытекающими отсюда последствиями, – писал Шульгин. – Родзянко и подавляющее большинство думцев, включая кадетов, были абсолютно не способны на такое». Это стало ясно во время собрания руководящего комитета «прогрессивного блока», на котором «никто не предложил ничего стоящего внимания» .
Дума решила подчиниться царскому указу о роспуске и признать, что она прекратила существование. Однако члены Думы договорились не расходиться, а тут же провести «частную конференцию». Чтобы не путать «частную конференцию» с официальной сессией Думы, они перешли из большого Белого зала в меньший Полукруглый. Все радикальные предложения были отвергнуты подавляющим большинством голосов. Общую резолюцию торпедировал Милюков. Он рекомендовал очень осторожно относиться к каждому поспешному решению, особенно в обстановке, когда еще неизвестно, пало ли прежнее правительство и насколько серьезным будет народное движение. Этой «конференции» едва хватило времени, чтобы избрать «временный комитет», который позже, стремясь придать ему большее значение, стали называть «Временным (а иногда даже Исполнительным) комитетом Государственной думы». На самом деле такого органа не существовало в природе. Был только «комитет частной конференции». Он носил более длинное и неуклюжее название – «Временный комитет для связей с отдельными лицами и учреждениями по вопросу восстановления общественного порядка и спокойствия в столице» или что-то в этом роде.
Однако когда распространилась новость о роспуске Думы и ее отказе подчиниться царскому указу, к Таврическому дворцу устремились тысячи людей, если не десятки тысяч. По словам Милюкова, Думе было достаточно стать «центром, знаменем и лозунгом» движения, чтобы это «бесформенное и беспредметное движение» превратилось в настоящую революцию. Согласно Шульгину, члены Думы, которым выпала эта миссия, «были встревожены, возбуждены и, если так можно выразиться, духовно сплотились... Даже многолетние враги внезапно почувствовали, что всем им грозит что-то опасное, зловещее и одинаково отвратительное... Этим «чем-то» была... уличная толпа!»
Толпа. О да, конечно, смотреть на нее неприятно. Крестьянские армяки, солдатские шинели, кожаные куртки, кепки, грязные сапоги... Толпа пахнет не духами, а смолой, овчиной и потом. Ароматный дым турецких сигарет и гаванских сигар перешибает едкая вонь плебейской махорки. Но зато в этой толпе нет ни болтунов, ни высокомерных политиков, ни изнеженных трусов, способных лишь на то, чтобы с царского разрешения пересесть из кресла депутата на министерскую скамью. Эту толпу неделю с лишним полиция расстреливала из пулеметов, разгоняла ее шашками и выстрелами из револьверов, но та собиралась вновь и вновь. Она уже доказала, что может приносить себя в жертву. Теперь она прошла новое крещение в купели революции. Эта «чернь» была святой чернью, способной на бессмертные подвиги. Она хотела, чтобы ею руководил кто-то мудрый, добрый, знающий и опытный. Но горе тому, кто пытался обмануть ее или с презрением отставить в сторону, как ненужную лестницу.
И как же Дума приветствовала эту толпу?
«Я помню миг, – пишет Шульгин, – когда Думу затопил черно-серый осадок, нескончаемым потоком валивший во все двери. С первого момента этого вторжения моя душа наполнилась отвращением... Я чувствовал себя беспомощным и оттого злился еще сильнее. Пулеметы!»
Если Дума не желала идти к революции, то революция сама пришла к Думе в виде вооруженных людей. Это были организованные представители революции, Советы рабочих депутатов, избранные на фабриках после 21 февраля и сами явившиеся в Таврический дворец. Думе оставалось лишь делать хорошую мину при плохой игре. Легенда об отказе подчиниться указу о роспуске постепенно привела к беспрецедентной и двойственной ситуации. Прибывали военные отряды, открыто бросившие того самого царя, которому Дума решила подчиняться даже после декрета о собственном роспуске. Они подтвердили свою преданность революции, представленной Думой, которая дрожала от ужаса, сталкиваясь с ней. Толпа приветствовала Родзянко громкими криками.
И тут настал момент, когда Родзянко сказал себе:
«Я не хочу восставать. Я не мятежник, я не делал и не желаю делать революцию. Если она произошла, то лишь потому, что люди не пошли за нами... Я не революционер. Но с другой стороны... Правительства нет. Министры бежали. Найти их невозможно. Ко мне со всех сторон спешат люди. Что я должен делать? Отступить? Оставить Россию без правительства?»
Правые, даже думская фракция националистов, призывали Родзянко принять решение: «Берите власть. Это не восстание. Берите ее как лояльный верноподданный. Есть только два выхода: либо все закончится, император назначит новое правительство и мы передадим ему власть. Но если мы не возьмем власть, она достанется этим малым, которые уже выбрали на своих фабриках каких-то мерзавцев».
«Революционер поневоле», камергер двора, горько оплакивавший весть о том, что министр внутренних дел князь Голицын бросил борьбу и подал в отставку, пытался взять власть, чтобы прийти к какому-то соглашению с царем и остановить революцию.
Нет ничего более красноречивого, чем документы из архива генерала Рузского, описывающие переговоры Родзянко с царем и ставкой.
27 февраля Родзянко телеграфировал командующему Северным фронтом генералу Рузскому о волнениях в столице, неспособности властей восстановить порядок и необходимости, чтобы царь немедленно создал новое правительство под руководством «того, кому могла бы доверять вся страна». «Промедление невозможно, промедление – это смерть, – написал Родзянко в таком же послании к царю и добавил: – Я молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на правителя». Прочитав телеграмму, царь сказал: «Опять этот толстяк Родзянко пишет всякую чушь, на которую я даже отвечать не стану». Родзянко послал ему вторую телеграмму: «Ситуация ухудшается. Необходимо принять меры, потому что завтра будет уже поздно. Пришел последний час, решается судьба родины и династии». 27 февраля к Николаю II обратился и его брат Михаил. Ответ был таков: «Спасибо за совет, но я сам знаю, что должен делать». Наконец военный министр Беляев, который до того обещал заставить подчиниться всех и вся, мрачно сообщил из Петрограда, что «с несколькими полками, которые еще верны своему долгу», он ничего не может сделать и что «многие части уже присоединились к восставшим». Он требовал «скорейшего прибытия необходимого количества действительно боеспособных частей». Генерал Рузский почтительно обратился к царю со следующим предложением: «Репрессивные меры лишь обострят ситуацию», потому что армия на фронте «отражает настроения страны» и ее смогут удовлетворить только «немедленные меры». В ответ царь послал в Петроград ставленника Распутина и императрицы генерала Иванова с двумя батальонами георгиевских кавалеров. Северному и Западному фронтам было приказано выделить в распоряжение генерала Иванова пулеметную бригаду, два пехотных и два кавалерийских полка, «на которые можно положиться», во главе с «решительными генералами»[10 - «27 февраля командир батальона георгиевских кавалеров генерал Пожарский собрал своих офицеров и сказал им, что по прибытии в Петроград не выполнит приказа стрелять в людей, даже если этого потребует генерал Иванов» (Блок. Указ. соч. С. 41). Обмен телеграммами Родзянко и Рузского показывает, что первые два эшелона солдат, посланных с Северного фронта в Петроград, восстали и решили не пропускать даже царский поезд. С другими частями дело обстояло не лучше.].
На следующий день, 28 февраля, начальник штаба главнокомандующего генерал Алексеев сообщил командующим фронтами, что царь (который волновался за императрицу и детей и нуждался в ее совете) отбыл в Царское Село и что хотя Петроград полностью или почти полностью в руках восставших, тем не менее важно, чтобы «части сохраняли верность своему долгу и присяге». В тот же день Алексеев прислал другую срочную телеграмму. Ему показалось, что обстановка в Петрограде меняется к лучшему:
«Временное правительство под председательством Родзянко, собравшееся в Государственной думе, предложило командирам воинских частей выполнять его приказы, направленные на восстановление порядка. В обращении к народу, распространенном Временным правительством, подчеркивается важность сохранения монархии для России, указывается на необходимость новых выборов и назначения правительства. Я с нетерпением жду прибытия Его Величества, чтобы подать рапорт с просьбой удовлетворить желание народа. Если эта информация верна, то способ ваших действий меняется; умиротворение будет достигнуто с помощью переговоров».
Однако информация оказалась неверна. Никакого Временного правительства еще не существовало. Благие намерения думских лидеров были восприняты как факт. 1 марта прибыла совсем другая новость. Начались беспорядки в Кронштадте. Контр-адмирал Курош был беспомощен и «не мог поручиться ни за одну часть». Адмирал Непенин не сумел помешать Балтийскому флоту присягнуть Думе. Москва была охвачена восстанием, войска перешли на сторону мятежников. Ставка тревожилась за царский поезд. В тот же день Северный фронт по прямому проводу сообщил в ставку: великий князь Сергей Михайлович настаивает, чтобы царь назначил Родзянко премьер-министром, пока не стало слишком поздно. Генерал Алексеев набрался мужества обратиться к царю с тем же предложением, так как «лидеры Думы во главе с Родзянко еще могут предотвратить общую катастрофу, но каждый час уменьшает последний шанс на сохранение и восстановление порядка и способствует захвату власти крайне левыми элементами». 2 марта Алексеев узнал, что «гарнизон Луги перешел на сторону комитетчиков», а потому придется вернуть части генерала Иванова обратно на фронт. Но хуже всего то, что «вся семья императора находится в руках мятежных солдат, которые захватили Царскосельский дворец>. Царь телеграфировал Иванову, чтобы тот не предпринимал никаких мер до получения его личного приказа. Николай согласился вернуть части на фронт и разрешил генералу Рузскому начать телеграфные переговоры с Родзянко, которого царь ждал для личной аудиенции.
Телефонные разговоры Рузского и Родзянко были очень любопытными. Сначала Рузский спросил, почему Родзянко отказался от поездки в Псков и личных переговоров с царем. Родзянко отговорился тем, что он «не мог оставить возбужденный народ без своего присутствия... Люди доверяют только мне и выполняют только мои приказы».
Однако на самом деле все обстояло куда прозаичнее. Железнодорожники отказались выделить Родзянко поезд без специального разрешения Исполнительного комитета (Совета рабочих депутатов). Когда Родзянко обратился к комитету, левая секция последнего ответила:
«Родзянко нельзя позволять ехать к царю. Мы еще не знаем намерений ведущих групп буржуазии, «прогрессивного блока» и думского комитета, и никто не может их гарантировать... Если на стороне царя еще есть какие-то силы, то «революционная» Дума, которая «перешла на сторону народа», наверняка договорится с царем задушить революцию. А то, чего царь не сможет сделать в одиночку, он легко достигнет с помощью Думы и Родзянко – иными словами, соберет войска и двинет их на Петроград, чтобы установить там «порядок»
.
Сначала Исполнительный комитет отказал Родзянко, но после вмешательства Керенского все же выделил ему поезд. Однако было уже слишком поздно.
Заявление Родзянко «они доверяют только мне и выполняют только мои приказы» было чудовищным искажением истины. Возникает только один вопрос: хотел ли он таким способом увеличить свои шансы на пост премьер-министра или просто хвастался? Позже в воспоминаниях Родзянко описал свою неудачу с поездом и множество других подобных случаев. Когда группа солдат Преображенского полка привела к нему реакционного царского министра Щегловитова, Родзянко, «ошарашенный этой произвольной акцией, любезно пригласил Щегловитова пройти в кабинет». Изумленные дружелюбным отношением председателя «революционной» Думы к лидеру махровых реакционеров, «солдаты наотрез отказались освободить его», а когда Родзянко попытался «употребить власть», солдаты «тесно окружили своего пленника и чрезвычайно дерзко показали на свои винтовки». На следующий день экипаж Второго флота «нахально заявил», что Родзянко «нужно расстрелять как буржуя» и что «матросы приведут этот акт в исполнение без всякого сожаления».
Родзянко и другие лидеры Думы могли только мечтать о том, что они в состоянии руководить революцией и поймать ее в свои дипломатические сети. Рыба была слишком велика для рыбаков.
Часть лидеров «прогрессивного блока» собралась на тайное совещание без участия вновь избранных членов Чхеидзе (отклонившего приглашение) и Керенского[11 - Возглавлявшиеся ими группы социал-демократов и трудовиков не входили в «прогрессивный блок».]. Гучков сразу приступил к делу:
«В этом хаосе мы должны прежде всего думать о спасении монархии. Видимо, нынешний монарх править больше не должен. Но можем ли мы спокойно ждать, пока этот революционный сброд уничтожит монархию? А это неминуемо случится, если мы выпустим инициативу из своих рук... Поэтому мы должны действовать тайно, быстро, не задавая вопросов и не слушая ничьих советов. Мы должны поставить их перед свершившимся фактом. Мы должны дать России нового монарха... Под этим знаменем мы должны собрать всех, кого можно... Сопротивляться! Мы должны действовать быстро и решительно!»
Он предложил отправиться к царю и убедить его отречься. Резоны Гучкова были просты:
«Я знал, что если он передаст судьбу династии в наши руки, это будет означать, что никакой революции нет. Император отречется от престола добровольно, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная дума, которая подчинилась указу о роспуске и взяла власть только потому, что старые министры бежали, передаст власть новому правительству. Так что с точки зрения закона революции не будет...»
Сказано – сделано. На рассвете, когда «революционный народ еще спал», Гучков и Шульгин сумели убедить начальника вокзала дать им поезд и поехали добиваться «добровольного отречения».
Тогда генерал Рузский попросил Родзянко о новой услуге: сначала предложить Николаю доверить Родзянко сформировать правительство, которое будет отчитываться только перед самим царем, но постепенно добавить новое требование: правительство будет подчиняться законодательным органам.
«Его Величество и вы, – ответил Родзянко, – видимо, не понимаете, что происходит. Началась одна из самых страшных революций на свете, и справиться с ней будет очень нелегко... Возникла такая анархия, что Дума и я попытались взять власть в свои руки и руководить этим движением. К несчастью, добиться успеха мне не удалось. Страсти разгорелись так, что обуздать их нет никакой возможности. Войска полностью деморализованы. Ненависть к Ее Величеству Императрице достигла предела. Династический вопрос стоит очень остро. Чтобы избежать кровопролития, мне пришлось посадить всех министров, за исключением военного и морского, в Петропавловскую крепость, и я очень боюсь, что та же судьба ожидает меня самого».
Родзянко уже забыл свое предыдущее заявление: «Люди доверяют только мне и выполняют только мои приказы». Он забыл неприятный инцидент с солдатскими винтовками. Он приписывает народу собственную ненависть к царице, погубившей династию, и говорит не правду, а только то, что служит его целям. Когда генерал Рузский спросил, что означает фраза об «остроте династического вопроса», Родзянко «с болью в сердце» ответил: «Ненависть к династии дошла до предела... Слышны грозные требования, чтобы царь отрекся от престола в пользу сына, регентом при котором будет Михаил. В случае такой смены весь народ поддержит войну до победного конца... Я сообщаю вам это с искренней скорбью, но что делать! Прекратите отправку частей, потому что они не станут действовать против народа... У меня сжимается сердце, когда я вижу, что происходит».
Рузского это не убедило; впрочем, слова Родзянко вряд ли могли убедить кого бы то ни было. Если ненависть к династии «дошла до предела», то кто предъявляет «грозные требования» о замене Николая Алексеем и Михаилом? «На самом деле царь, царица, Алексей и Михаил были для восставших на одно лицо. «Хрен редьки не слаще», – говорили солдаты»
. Династия в целом так же, как самодержавие и война, вызывали у народа не равнодушие, а ненависть. Либо Родзянко не понимал этого, либо не хотел расстраивать умеренно либерального генерала такими новостями. На вопрос о том, удастся ли успокоить людей обещанием создать правительство народного доверия, Родзянко ответил еще одной путаной речью: «Я сам вишу на волоске... Анархия зашла так далеко, что прошлой ночью я был вынужден назначить Временное правительство... Смена власти может быть добровольной и абсолютно безболезненной для всех, и тогда все кончится через несколько дней; я могу сказать только одно – кровопролития и ненужных жертв не будет. Я этого не позволю».
Здесь Родзянко выглядит настоящим диктатором, даже сверхдиктатором, якобы «назначившим» Временное правительство (на самом деле он был всего лишь кандидатом в премьер-министры, которого вскоре отвергли не только левые, но даже кадеты, предпочтя ему князя Львова), и в то же время человеком, «висящим на волоске». Однако даже в этой «висячей» позиции он все еще верит (или притворяется, что верит), будто может кому-то что-то «позволить» или «не позволить».
Военные власти в ставке и на разных фронтах не знают, что делать. Ставка больше не осмеливается сообщать новости о том, что происходит в Петрограде. Генерал Данилов сообщает генералу Лукомскому: «Вы с генералом Алексеевым хорошо знаете характер императора и то, с каким трудом от него можно добиться определенного решения; весь вчерашний вечер и часть ночи ушли на то, чтобы убедить его принять требование о назначении правительства народного доверия. Его согласие было получено только в два часа ночи». Теперь все эти усилия пошли прахом; царю предстояло принять еще более ответственное решение.
Генерал Алексеев спрашивает командующих армиями, какого те придерживаются мнения. Он напоминает, что «все перемещения и снабжение армии по железной дороге находятся в руках петроградского Временного правительства» и что лучше избежать «соблазна принять участие» в этом перевороте, поскольку оно не приведет ни к чему, кроме краха армии. «Независимость России и династию» нужно спасти любой ценой, «даже если уступки окажутся очень большими». Первым откликается великий князь Николай Николаевич. Он «коленопреклоненно» обратится к царю, заклиная его «святой любовью к России и цесаревичу», и скажет: «Другого пути нет: осени себя крестом и вручи свое наследство ему». Генерал Брусилов также собирается просить царя «избежать неминуемых катастрофических последствий» и «спасти династию, передав престол законному наследнику». Генерал Эверт сообщает, что «армия в ее нынешнем состоянии не может подавлять внутренние беспорядки», что «прекратить революцию в столицах невозможно», а потому остается только один выход: принять предложение председателя Думы.
Выдержать этот перекрестный огонь Николай II был не в состоянии. Будучи не в силах связаться с женой, которая являлась его неизменным советчиком, и особенно узнав, что его сын и наследник находится в руках восставших и является заложником, царь впал в типичное для него состояние «манекена» и с каменным лицом подготовил ответ Родзянко. Ради России он готов на любые жертвы, а потому «согласен отречься от престола в пользу моего сына при условии, что тот останется со мной до совершеннолетия, а его регентом станет мой брат Михаил Александрович».
Именно в таком состоянии нашли Николая посланцы Думы Гучков и Шульгин. Когда Гучков начал объяснять необходимость отречения, генерал Рузский прошептал: «Этот вопрос уже решен. Вчера был трудный день. Была буря».
Гучкова ошеломила легкость, с которой Николай согласился отречься от престола. Вся сцена произвела на него «болезненное впечатление своей банальностью», и он заподозрил, что имеет дело «с ненормальным человеком, у которого понижены сознание и чувствительность». Придворные бормотали, что царь расстался с троном так, словно речь шла «о передаче эскадрона солдат». Шульгин внезапно почувствовал, что «это была маска, а не настоящее лицо императора, что его настоящее лицо видели либо очень немногие, либо вообще никто». Беседа была краткой. «Спокойно, просто и точно», с «легким иностранным акцентом гвардейского офицера» Николай уладил проблему: