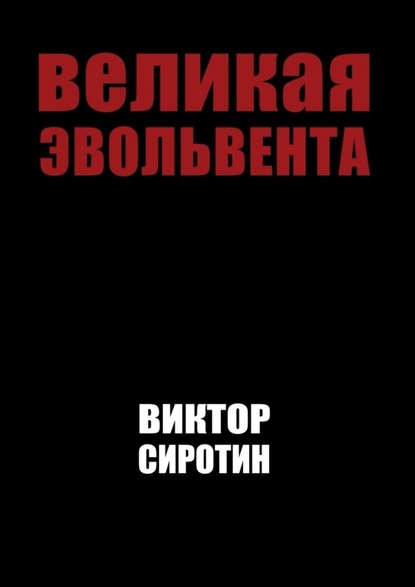По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Великая эвольвента
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тем не менее, и «уподобление себе» и расширение границ не везде происходило бесконфликтно, поскольку, задевая интересы и ущемляя племенные связи, в корне меняло стиль жизни аборигенов, ведших «дикий образ жизни, переходя с места на место и не имея ни домов, ни земли, которые принадлежали кому-либо одному из них в особенности», – писал английский дипломат Джильс Флетчер. Отход от древнего, тянувшегося как бы вне времени, уклада и безличностных отношений был затруднён ввиду племенной тяги к вольности «без краёв», привычно бесприютному и за века ставшему естественным, существованию.
Впрочем, «неудобства» приобщения к иному типу и принципам бытия происходили всегда, когда общественная формация заявляла о своём превосходстве в духовном, культурном, военном или политическом отношении. Терпимость пришельцев к самобытностям туземцев предоставляла им несложный выбор – «…оставаться в своей племенной отчуждённости или сливаться с русским народом» (Данилевский). Это обусловило начало этно- культурной эвольвенты, с каждым веком всё больше заявлявшей о своей «кривизне», благо, что места для её «разворота» было более чем достаточно. Причём, характер и содержание цивилизацион- ной эвольвенты во многом определялся мировосприятием пере- селенцев, вписавшихся в уклад жизни далёких регионов.
Итак, не уничтожая племена и не превращая их в своих рабов, как то делали германцы в завоёванных ими территориях,5 – Русь дала пример духовного приятия и равенства по жизни, к которому (правда, на несколько иной основе и очень неохотно) Европа шла не одно столетие. Само освоение новых земель происходило параллельно наметившемуся росту национального и бытийного самоосознавания русского народа, некогда заявленного ратными подвигами под водительством князя Александра Невского и подтверждённого Куликовской битвы. Вернув себе смысл существования и обретя содержание Отечества, – будущая Держава готовилась к новым формам политического существования. Духовный подъём русского народа выразил себя – провидчески выразил – в смелом, властном и непоколебимом стремлении объять соответствующую видению себя в мире территорию. Понятно, что это было освоение «незанятых» Севера и Востока. В каждом случае действуя в своих интересах, переселенцы в совокупности своих инициатив осваивали столько земель, сколько необходимо было для единосущности Державы. И, если выход к близлежащим Балтийскому и Чёрному морям, включая проливы, по ряду причин был малодоступен, то путь к Тихому океану упорно пробивался через необъятные просторы лесов и степей. Уже ко времени царствования Алексея Михайловича (1645—1676) Тихоокеанское и Индийское побережья представлялись естественными границами геополитических, деловых и хозяйственных устремлений Московской Руси.
Несмотря на мягкие, по сравнению с «западом», методы освоения новых земель, становление Страны, размахнувшейся далеко на север и восток – от степей Средней Азии до ущелий Кавказского хребта – в исторической перспективе таило в себе драматичные коллизии. В затянувшейся борьбе «леса со степью» сказывались малая психическая и этическая сопоставимость пришельцев и туземного населения. По факту совместное, бытие выявляло силу одних и слабость других, оставляя в памяти «зарубки» несходства. Именно тогда, укореняясь в сознании и приводя к психо-соматическим рецидивам, заронилась дисгармония политически объединённых туземных ареалов и метрополии. Априори «закреплённая» предполагаемой ассимиляцией, внутренняя несовместимость предопределила шаткость метрополии. Дисбаланс так и не разрешённых во времени разноразвивающихся этнических «единиц» наметил трещины, по которым впоследствии пошло размежевание духовной, социальной и хозяйственной жизни России. О себе заявил постордынский период существования России, но не без условных ордынцев. Этот несобытийный период отдалённой России отмечен был кажущейся тишью, «в омуте» которой происходило самоузнавание внеструктурной и бесформенной «степной» массы. Между тем, её бытие имело свою динамику. Говоря стихом Николая Майорова: «Скакали взмыленные кони, /Ордой сменялася орда – /И в этой бешеной погоне /Боялись отставать года»… К «бешеной погоне… годов» мы ещё вернёмся.
По-иному проходило становление Западной Европы. В достаточно ограниченных земельных пространствах обосновались мощные культурные и экономические общности. Исторически сложившееся вынужденное соседство сформировывало взаимоотношения, которые определяли большие амбиции и способность воплотить их в жизнь. С XIV столетия в Европе наметился пассионарный взрыв, сопровождавшийся активным ростом населения. Определился рост ремёсел, но техническая неразвитость производства определяла низкую производительность труда, ведя к неудобствам в экономической и социальной жизни. За отсутствием развитых законов, во взаимоотношениях между крупными земельными владельцами доминировало «право сильного». По поводу или без оного рождалось недоверие к установившимся границам владений феодалов. Великие географические открытия, приведшие к образованию колоний, были ещё впереди, поэтому энергия завоеваний была направлена «внутрь себя». Возникали ожесточённые споры относительно прав на спорные территории. Усиление системы княжения выводило на первый план сильных и богатых сюзеренов, что вело к дроблению «стран» на княжеские уделы и повсеместно усиливало политическую напряжённость. Государи, где они были, – целиком зависели от хаотически создававшихся коалиций из крепких феодалов. Немалую путаницу в духовном развитии стран Европы вносили (с VIII в.) «религиозные» войны, которые сменяли «обыкновенные». В своей совокупности факторы становления государственности мешали стабилизации внутренних рынков и усложняли внешние политические и торговые отношения, в которые позднее вмешались колониальные амбиции. В этих условиях европейские государства (как слагающиеся, так и сложившиеся) не имели другого выхода, кроме как договариваться между собой и внутри себя. Войны, как оно выяснилось, были попросту невыгодны, а потому происходили тогда, когда «разговоры» не помогали.
В Московской Руси, внешняя дипломатия, не имея давних традиций, не отличалась особой изощрённостью (об этом, в частности, красноречиво свидетельствуют письма Ивана IV шведскому и датскому королям), так как Страна большей протяжённостью своих восточных и южных границ соприкасалась с исторически беспамятными племенами, единственно понятным языком общения с которыми была сила. Потому «договорные отношения» среди них, отражая реальное соотношение сил, выражались в кабальных для более слабой стороны условиях. В самой Руси, трудности, нередко возникавшие между жителями и местными властями, решались проще простого – «бёгом». Необъятные пространства Северо-Востока и Сибири открывали широкие возможности и беглому, и предприимчивому люду. Таким образом, каждый по-своему избегая трений с властями, – и те и другие вольно или невольно участвовали в освоении «ничейных» земель. Ясно, что в этих условиях распоряжения Правительства, не имея субъекта приложения, повисали в воздухе. Становясь ненужными и бесполезными, они не имели реальной силы, что накладывало свою специфику на внутреннюю жизнь Руси.
Иностранцы, меряя всё на свой лад, в первую очередь, естественно, отмечали то, что особенно или «дико» отличалось от их миропонимания. К примеру, Дж. Флетчер, подолгу живший в Московии в период правления Ивана IV, изумлялся тому, что у московитов «жизнь человеческая считается нипочём…». На это заметим, что напряжение внутренней жизни Московской Руси не всегда можно было снять путём приложения законов, как то было принято в европейских обществах. В первую очередь потому, что наличие, отсутствие и степень действенности законов в государстве во многом зависит от окружающих его племенных ареалов.
Каковы были их качественные характеристики?
Немецкий дипломат и путешественник Сигизмунд Герберштейн, в первой трети XVI в. дважды бывший в Московии, писал о судопроизводстве, в частности, заволжских орд: «У них нет никакой справедливости, потому что если кто нуждается в какой-нибудь вещи, то безнаказанно может похитить её у другого. Если тот жалуется судье на насилие и нанесённую ему обиду, то виновный не отпирается, но говорит, что он не мог обойтись без этой вещи. Тогда судья обыкновенно произносит следующее решение: «Если ты в свою очередь будешь нуждаться в какой-нибудь вещи, то похищай её у других». 6 Схожее «естественное право» с незапамятных времён укоренилось в племенах Северного Кавказа. В середине XVII в. турецкий географ и писатель Эвлия Челеби писал о них в «Книге путешествий»: «…эти племена… воюя между собою, похищают детей и жён, продают в неволю и этим живут. По мнению, бытующего у этого народа, человек, не занимающийся грабежом, – жалкий неудачник. Потому они и не допускают таких в общество и не дают им в жёны девушек».
Историческая перспектива внеэволюционного существования наиболее полно раскрывает себя в Ногайской Орде, скоро вошедшей в состав Московской Руси. Русский посланник Е. Мальцев писал Ивану IV: «А нагай государь изводятца, людей у них мало добрых. Да голодни государь необычно нагаи. И пеши. Много з голоду людей мрёт. А друг другу не верят меж себя и родные братья. Земля их пропала, друг друга грабят». 7 Взаимоотношения, личные свойства и племенные черты характера этически закрепляли себя в досуге. О тех же ногайцах, Флетчер, очевидно, не разобравшись в их тяжкой доле, – писал в книге «О государстве Русском»: «…когда же поют, то можно подумать, что ревёт корова или воет большая цепная собака». 8
Конечно, английскому дипломату можно было бы попенять за чрезмерную строгость в оценке крика души ногайцев.
Флетчеру, скорее всего, не приходилось, ни выть с тоски и голода, ни отнимать у соседа шкуру, стрелу или кусок мяса. В своих пенатах елизаветинская знать, поглощая десертные лангеты с роскошными пирогами (типа любимого всеми «шепердспай» – Shepherd’s pie), критское вино и испанское шерри, ублажала слух свой пени- ем под мелодичное звучание пальцевой лютни в исполнении Д. Дауленда, Ф. Россетера, и других знаменитостей. Впрочем, и московскому бытию, правленному христианской этикой, чужд был заволжско-ногайский дух. Если отвратить внимание от ногайских серенад в сторону судных дел и поведенческой этики Руси, то уже в «Изборнике Святослава», составленном дьяком Иоанном в 1076 г., мы найдём принципы, на века определившие мироощущение Древней и последующей Руси.
В соответствии с текстами «грешного Иоанна» мудрым считается лишь тот, кто идёт путём добродетели. Гармония личности заключена в чистоте помыслов и непричастности к греху, а мудрая жизнь – это гармоничная богоугодная жизнь. «Равных тебе с миром встречай, меньших тебя с любовью прими, стань перед тем, кто честью выше тебя. Будь таким для своих рабов, каким просишь быть к тебе Бога». «Ладони сожми на стяжанье греховных богатств сего света, но простри их на милость к убогим». «Отверзи слух свой к страдающим в нищете… С надёжным советом сердца своего изучай нравы окружающих тебя людей…». Стремление к нравственной чистоте пронизывает княжеский «Изборник», но оно было характерно и для «низов» Древней Руси. Очевидно, отношение к морали, нравственности и христианской вере, поддерживаемое всеми слоями общества, и стало причиной того, что Русь в свято-отечественном наследии стала называться святой.
Для обыкновенных жителей Древней Руси была характерна, помимо декларируемой в «Изборнике» нравственности, высокая правовая культура, чёткость и ясность в ведении дел. Об этом свидетельствуют берестяные грамоты XI – XV вв., в частности, «сведение счетов» новгородцев Якова с Гюргием и Харитоном: «Вот расчёлся Яков с Гюргием и с Харитоном по бессудной грамоте, которую Гюргий взял (в суде) по поводу вытоптанной при езде пшеницы, а Харитон по поводу своих убытков. Взял Гюргий за всё то рубль и три гривны и коробью пшеницы, а Харитон взял десять локтей сукна и гривну. А больше нет дела Гюргию и Харитону до Якова, ни Якову до Гюргия и Харитона. А на то свидетели Давыд, Лукин сын, и Степан Тайшин» (вторая половина XIV в.). Не всё было гладко на Руси. И тогда ищущий правду истец мог послать обидчику вызов на испытание водой: « [Ты дал (?)] Нес- дичу четыре с половиной резаны, а (мне) ты дал две куны. Что же ты утверждаешь, будто за мной восемь кун и гривна? Пойди же в город – могу вызваться с тобой на испытание водой». Деловитость, самообладание и внутреннюю культуру являет письмо новгородца Петра: «Поклон от Петра Марье. Я скосил луг, а озеричи у меня сено отняли… Спиши копию с купчей грамоты да пришли сюда, чтобы было понятно, как проходит граница моего покоса». Заметим, при «наезде» на него Петр и не думает обращаться к «крутым парням» (как это за отсутствием правосудия сделал бы сейчас), а спокойно готовит «бумаги» для третейского суда. Письмо это свидетельствует ещё и о «круговой» образованности, ибо, помимо самого Петра, – предполагает компетентность Марьи (его жены?) и ответчиков, не говоря уже о местной власти.
Итак, берестяные грамоты являют собой исключительно важную летописть деловых и бытовых отношений, счёт упоминаний которых идёт на тысячи.9 Связь духа, нравов и закона несёт в себе «Домострой», составленный в середине XVI в.: «И всех, кто в скорби и бедности, и нуждающегося, и нищего не презирай… И этим милость Бога заслужишь и прощение грехов». Были, однако, реалии, о которых мы вскользь упомянули и от которых весьма трудно было уберечься. Сопредельное и отнюдь не желанное соседство, прорастая в Русь, вынуждало московитов не редко закрывать глаза на прегрешения чуждых общественным правилам, а подчас и вовсе диких «новых русских».
Без сомнения, «природные западники» не могли принимать всерьёз общество, основанное не на чётких гражданских законах, а на принципах и по сию пору не вполне ясного внутреннего «законоуложения», которое имело поддержку в странных с точки зрения чужеземцев обычаях и традициях. Этическая ценность последних ставилась под сомнение чужеземцами главным образом потому, что они не походили на принятые ими у себя и, уж конечно, – никак не совпадали с «ихними» законами и правилами. Впрочем, и без иностранных путешественников становится ясно, что сложившаяся на Руси практика, нагнетая противоречия бытийного характера и не ведя к развитию законоположений, – порождала в России закононеуважение в принципе. Не исполняясь на местах, княжеские «распоряжения на бересте» на бересте и оставались, по неприятию их «уходя в песок» бескрайних степей. Аморфное даже и в крупных городах социальное устройство почти не развивалось в дальних поселениях, ослабляя и без того мало действенные правовые звенья.
II
Куда хуже обстояли дела в на территории бывшей Киевской Руси.
В Приднепровье ещё во времена Древней Руси обитали различные кочевые и полукочевые тюркские племена, признавав- шие власть русских князей: торки, берендеи, коуи, турпеи, известные под общим названием «чёрных клобуков» (чёрных шапок). По летописцу они также назывались «черкасами» – именем, которое позже перешло на ядро малороссийских казаков в московских документах. Начиная с XIV в. территория нынешней Украины оказалась разделённой между Великим княжеством Литовским, королевством Польским, Молдавским княжеством и Золотой Ордой. В XV в. от Орды обособилось Крымское ханство, перешедшее под власть Османской империи. С тех пор Северное Причерноморье стало для крымских татар своего рода плацдармом для набегов и разорений южно-русских земель.
Несколько иную судьбу испытали на себе юго-западные территории, в частности, русское княжество династии Рюриковичей Галицко-Волынская Русь (1199—1392).
Ослабленная в начале XIV в. вследствии обострившихся отношений с Золотой Ордой, она в конце века была разделена и отошла к Польше (1387), а обширные поселения вместе с крестьянами были отданы «для кормления» шляхте (польским дворянам). Кревская уния (1385), согласно которой великий князь Литовский Ягайло крестился по католическому обряду и ввёл католичество в качестве государственной религии в Литве, усилила польские и католические влияния в Великом княжестве Литовском. В результате, на Востоке Европы возникло обширное польско-литовское государство. Уже при Ягайле началось ущемление православного населения захваченных поляками русских земель. После Люблинской унии (1569) под власть Польши перешли земли Волыни, Подляшья, Подолья, Брацлавщины и Киевщины. Брестская церковная уния (1596) довершила духовное закабаление Западной Руси. Ряд епископов православной западнорусской Киевской митрополии во главе с митрополитом Михаилом Рогозой заявили о принятии католического вероучения и переходе в подчинение римскому папе с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке.
Таким образом Ватикан в 1596 г. одержал бесспорно крупную победу и над православием и над русским народом. Победу латинской стороны обусловила завсегда промагнатская политика польского короля, не прекращавшиеся усилия иезуитского ордена и сильное давление шляхты в сословной Польше. В тот период политика Речи Посполитой являла собой классический пример занятия «с Божьей помощью» не своей территории. Поскольку религия (в данном случае католическая) была задействована в качестве выверенного в веках «духовного инструмента» присоединения чужих земель. Надо сказать, что со стороны влиятельных украинских феодалов особого противодействия этому не наблюдалось. Более того, ополяченные в соответствии с политической и хозяйственной конъюнктурой, они презирали своих соотечественников не меньше польской шляхты. Последняя, издеваясь над малороссами, презрительно называла их «холопами» и «быдлом». Из великого множества приведу лишь несколько свидетельств.
Папский нунций Руггиери отмечал, что паны, «казня и истязая крестьян ни за что, остаются свободны от всякой кары… можно смело сказать, что в целом свете нет невольника более несчастного, чем польский кмет (зависимый крестьянин. – В. С.)». Ксёнз Пётр Скарга – иезуит, ярый гонитель православия и ненавистник украинского крестьянства, всё же, не скрывает правды:
«Нет государства, где бы подданные и земледельцы были угнетены так, как у нас, под беспредельной властью шляхты. Разгневанный земянин (землевладелец. – В. С.) или королевский староста не только отнимает у бедного холопа всё, что он зарабатывает, но и убивает его самого, когда захочет и как захочет, и за то ни от кого дурного слова не услышит». Еврейский религиозный деятель Натан Ганновер в своих мемуарах (1648) о жизни крестьян Галиции писал о том же: «Вышеупомянутый король (Сигизмунд) стал возвышать магнатов и панов польской веры и унижать магнатов и панов греческой веры, так что почти все православные магнаты и паны (т. е. русские дворяне. – В. С.) изменили своей вере и перешли в панскую, а православный народ стал всё больше нищать, сделался презираемым и низким и обратился в крепостных и слуг поляков и даже – особо скажем – у евреев». Современник раввина французский инженер Гильом де Боплан так же свидетельствует о том, что польские магнаты и шляхта считали украинских крестьян (ибо городских украинцев в то время попросту не было) «быдлом», т. е. скотом. Семнадцать лет наблюдая бесправие жителей прежней Волынской Руси, Боплан приходил к выводу, что их положение хуже галерных рабов. Непокорных польские паны приказывали вешать и сажать на кол. Известный магнат Станислав Конецпольский предлагал шляхте программу, по сути, умерщвления малороссов: «Вы должны карать их жён и детей, и дома их уничтожать, ибо лучше, чтобы на тех местах росла кра- пива, нежели размножались изменники его королевской милости Речи Посполитой»! Наряду с «милостью» и дабы предотвратить «измену», паны продолжали проводить ассимиляцию и окатоличивание украинского и белорусского народов, для чего была введена уния православной и католической церквей.
Итак, оказавшись под властью Речи Посполитой, окраинная Русь вплоть до присоединения (по решению Земского Собора в Москве в 1653 г.) её к России влачила ничтожное и крайне унизительное существование. В те же годы на украинских землях, остававшихся под владычеством Польши, Молдавии и Венгрии, продолжал господствовать неограниченный произвол польских магнатов и шляхты. Невыносимый гнёт со стороны последних вызвал переселение во второй половине XVII в. десятков тысяч украинцев из Правобережья, Волыни и Галичины, на Левобережную Украину – в Харьков, Чугуев, Сумы, Мерефу, Лебедь, Ахтырку, Богодухов, Гайворон, Золочёв, Змиев и ряд других городов и селений.
Помимо Польши, постоянную угрозу для народа представляли крымские татары, из года в год опустошавшие города и селения Малороссии. Сотни тысяч уведённых в полон христиан пополняли собой невольничьи рынки Малой Азии и базары Стамбула. Уже более двух веков бывшая столица христиан, слов- но в насмешку, служила одним из мировых центров, в котором продавался «ясырь» – пленные христиане, захваченные во время набегов на окраины России, где татары творили, как говорит летопись, «многие пакости». 10 Проданные в рабство, мужчины гибли в каменоломнях, строительствах дорог и на галерах. Женщин ждал гарем, мальчики забывали своё отечество в янычарах.
В самой Украине творились свои «пакости». 11 Простой люд, как мы знаем, обращался в холопов, а украинские феодалы, перерождались в польских магнатов и шляхтичей. Борясь против социального гнёта, наиболее отчаянный народ отказывался выполнять повинности, жёг панские имения, сотнями сбегал в низовье Днепра. К началу XVI в. бродячие ватаги образовали Запорожскую Сечь, куда мог прийти всякий, даже «бусурманин». Там – в подвижных вольных поселениях под началом выборных ата- манов и старшин – они создавали воинское братство, основанное на товариществе, пронизанном разбойно-милитаристским духом.
«Толпы избежавших виселицы, заблудившихся людей», со страхом, неприязнью, но и не без восхищения говорит Челеби о вольном народе, создали «племя неустрашимых кяфиров». «Из-за страха перед казаками (турки), – признаётся Челеби, – совершенно не знали ни сна, ни отдыха». Но ложкой дёгтя в «меду» казацкой вольницы было то, что в качестве наёмного войска казаки могли переходить со службы московскому царю к польскому королю и даже к турецкому султану. Свидетельствуя о политической беспринципности, такого рода вольность говорит ещё о неразвитости и неустойчивости моральных норм казаков.
За вольность «без краёв» казаки подчас жестоко расплачивались. Так, в 1651 г. Сечь вместе с крымскими татарами выступила против польского короля Яна Казимира, но в середине сражения «крымчане» покинули поле боя, захватив в плен предводителя казаков Богдана Хмельницкого. После кровопролитного сражения войско казаков было разгромлено. Тогда же часть казачьих старшин, напуганные влиянием Москвы, отшатнулась от неё и попыталась вновь наладить отношения с Речью Посполитой. Преемник Хмельницкого Иван Выговский, пытаясь вернуть Украину в состав Речи Посполитой, вступил в союз с поляками и татарами. В Конотопской битве 1659 г., имея огромный численный перевес, казаки Выговского захватили в плен русский отряд численностью 5000 человек под предводительством кн. С. Р. Пожарского; князя казнили а остальных пленных вывели на поле и перерезали.
Это было время, писал анонимный автор-современник, когда «отец воюет с сыном, сын с отцом, и у всех одно в голове: не быть ни под королем, ни под царем». Именно тогда появилось знаменитое украинское выражение: «Нехай гiрше, або iнше» («Пусть хуже, лишь бы по-другому»).
Благодаря пременчивым и неустойчивым настроениям казаков поляки вернули себе Белоруссию и Правобережную Украину. Впрочем, в соответствии с Андрусовским перемирием (1667), Польша потеряла Киев и все районы восточнее Днепра.
События «по-казачьи лихих» лет понуждают сделать вывод: воплощённое в бескрайней хаотической воле, по принципу: «власть азиатская, воля – степная», – этнически пёстрое полувоенное общественное образование оказалось ущербной формой, в которую отлилось стремление к свободе некоторой части укра- инского народа. Изначально не имея идей, способных сплотить «братство» в нечто большее, ни далеко идущих целей, – Сечь не имела исторических перспектив. Несмотря на чаяния украинского народа, его борьба за суверенное историческое бытие была прои- грана, по существу не начавшись… Помимо прочего, тому виной было внутреннее несоответствие формам государственности. Вкупе с политической девственностью и отсутствием социального укла- да, это не позволило малороссам ни настоять на своей самости, ни организованно противостоять внешним силам. Не позволило ещё и потому, что отсутствие навыков к дисциплине отнюдь не означает тягу к свободе. Народ коснел в затянувшемся унижении и духовной несвободе, проявляя инициативу лишь в иррациональной воле, которая время от времени вспыхивала спорадическими восстаниями. Порождённая в одинаковой мере гнётом и стихийным мировосприятием, Запорожская Сечь не могла (да и не ставила такую задачу) иметь выстраданной городом структуры многоярусного социального устроения. Будучи нелигитимным образованием, а потому оторванная от остального мира, Сечь заведомо исключала внутри себя становление и развитие гражданских законов, которые ведут общество к упорядоченным правовым отношениям и образованию государства. Хаотический быт казаков лишь отчасти выравнивала дисциплинарная ответственность, которая реализовала себя в пределах «свободной воли» предводителей Сечи. При таких условиях Сечь никак не могла послужить ядром для развития общественного и, тем более, государственного образования.
Остановимся на этом подробнее.
Исторически сложившийся «внутренний контекст» окраины был не самым лучшим для потенциального выстраивания общества, которое взращивается при общей тенденции к соблюдению правил, стремлении к упорядоченности и уважении законов. Именно эти свойства, посредством выстраданной самоорганизованности обуславливая психологическое единство племенного союза и его социальную предсказуемость, содержат предпосылки для создания ясного для всех жизненного уклада. Именно такого рода ясность, определяя цель в бытии народа, в конечном итоге ведёт его к суверенному существованию.
Этих свойств у подневольных малороссов не было. Долгий период социального бесправия, духовного оцепенения и физического унижения не мог не наложить свой отпечаток на их характер. Отсутствие духовной опоры породило феномен духовной подвешенности и выработало в украинских крестьянах психологически устойчивый тип поселенца без государства. Тип, в котором доминировала безинициативность, а тотальная (то есть – и внутренняя) зависимость от своих мучителей сделала хроническим ощущение собственной вторичности и малой причастности к исторической жизни. В вилке неэволюционной народной жизни складывался характер, на века определивший духовную вялость, боязнь и недоверие к свободным людям, социальную апатию, мировоззренческую замкнутость и жажду реванша любой ценой. Беспомощные при тотальном бесправии, лишь изредка взрываемом хаотической волей, – народы окраины с начала польского плена стояли перед плохим и худшим выбором: жить без прав и достоинства или гибнуть в неравной борьбе за освобождение. Ясности относительно методов борьбы не было. Поэтому, оставшись в привычном состоянии, народ коснел в унижении.
Трагедия духовной неволи и социального бесправия галичан и волынцев видится в том, что сумма вековых ущемлений развила в них особый род миросознания, в которым тогдашний «запад» устаивался психологическим хозяином. Неким платоновским демиургом – «творцом» и «мастером», в котором помимо реальной сильной власти крылось несовершенное, «злое» начало – пугающее и завораживающее, а потому требующее подчинения и почитания… Таковое состояние не было случайным, и, как в том убеждает бытие народов, относится не только к Сечи, не только к украинцам, но ко всякой общности, если она, не сумев настоять на своей самости или не имея её, – выпадает из эволюционного бытия.12
Таким образом, реализуясь в пределах анархической вольности («як Бог на душу покладэ»), – свободолюбие Сечи было лишено исторического содержания, морального оправдания и, что трудно оспаривать, – законного статуса. После присоединения Крыма к России при Екатерине II, Запорожская Сечь, потеряв своё значение во всех смыслах, – перестала существовать. К этому добавлю, что даже в период наибольшей свободы Сечь не была и не могла быть носителем и выразителем воли (всего) украинского народа.
Сделаем общий политический вывод:
Если народ, стремясь к свободе, за века не создаёт Страну, если, мечтая о независимом существовании, за время исторической жизни не выстраивает государство, значит у него нет для этого достаточных оснований. Ему не о чём заявить о себе в масштабе цивилизации и нечего сказать на региональном уровне. У него попросту нет (внутренних) ресурсов, способных выстроить необходимые для этого «благоприятные политические обстоятельства».
Таковую историческую беспомощность усугубляет вошедшее в традицию презрение к законам и правилам. Свидетельствуя об отсутствии природной тяги к социальному порядку – гаранту исторического бытия – это утверждает неспособность к государственности в принципе. Поскольку не административное установление государства и не инициативы неких пассионарных единиц способствуют расцвету Отечества, а сам, созревший для государственности народ добивается независимого существования.
Потенциально государственная общность при любой политической системе заявляет о себе в качестве охранной и организующей силы, облекающей имеющуюся уже целостность. Истоки государственности коренятся лишь в том народе, который сознаёт необходимость регуляторов бытия. Разбой, убийства и грабёж удел государств племенного типа, по этой причине имеющих слабую социальную структуру, сомнительную самостоятельность, куцее историческое будущее и совсем уж мизерное признание со стороны социально и культурно развитых стран. К тому же «борьба за независимость» ещё не означает понимания для чего она, собственно, нужна. Поскольку между независимостью от… и независимостью для… огромная дистанция. Как желание сказать ещё не говорит об уме, так и «борьба за свободу» не тождественна видению исторического содержания свободы. Внешние помехи (и тем более спекуляции на эту тему) не играют здесь существенной роли, ибо борьба народа за свою свободу и победа в ней в принципе исключает «спонсорство» каких-либо стран. Каждый народ добивался независимости в жёсткой, а порой и беспощадной – не на жизнь, а на смерть – борьбе. Так создавались государства Европы, так утверждала своё право на политическое, культурное и историческое бытие духовная преемница Византии Московская Русь. Но подобная судьба не была уготована исторически малоинициативным народам. Ибо, как уже отмечалось, – неспособность к дисциплине не имеет ничего общего со стремлением к свободе.
Вернёмся к «настоящим степнякам».
Мы уже говорили, что на политически неблагоприятном, неустроенном и в перспективе взрывоопасном историческом фоне в Россию устремилась стихия дальних регионов, наполняя Страну энергией бесформенной внеисторической жизни. Это было неизбежное движение тяга малой развитости к большей, что не раз случалось в истории и не всегда предвещало упадок более развитой формации. Однако в России феномен эвольвенты явил собой этнокультурное смещение со знаком минус, так как производственные отношения в метрополии были недавними, а в новоприобретённых территориях отсутствовали вовсе. Социальные, бытийные и деловые связи, изначально будучи неравноправными, неравнокачественными, а значит и неравнозначными, формировались в «новой» России в узкой амплитуде приятия их ответной миграцией. Плотность взаимосвязей, умаляясь в качестве, увеличивалась. Заполоняя окраинные, «стихия» со временем приступила к освоению центральных земель России. Создавались предпосылки к тому, что, обречённое на гигантскую территорию, – бытие Страны погрязнет в вялотекущем, застойном существовании. Таковая перспектива усугублялась тем, что на Руси народ не придавал писаным законам верховного значения. Подчинённый религиозному состоянию души, он больше опирался на духовно-нравственные основы. Но, если неуважение к закону, замедлявшее развитие законодательных процессов в России, гипотетически можно было избежать, а уважение привить, то хаотического переселения племён в метрополию избежать было невозможно.
Никаким другим положение дел не могло быть и, замечу, – никогда не было.
Исторически в то же время и по такому же принципу происходила ассимиляция колонистов из Европы в Северной и Южной Америке, как и ответная «адаптация» в европейских странах сотен тысяч рабов и слуг, привозимых «отважными мореплавателями» из завоёванных ими колоний во всех Частях Света. С той лишь разницей, что потомки европейских и американских колонистов назывались на местах не испанцами, португальцами, ирландцами, и прочее, а – креолами; т. е. равенство даже и не предполагалось. Отношение последних к своим «предкам» в лице белых было стабильно враждебным, что понятно и психологически объяснимо. То же имело место на островах Океании, Алеутских островах и Аляске в XVIII – XIX вв. Для уяснения и последующего устранения общественной, социокультурной и этической «разницы» девственным по ряду показателей племенам необходимо было пройти определённый путь исторического развития. Оно подразумевало не пассивно-созерцательное (повторяющееся в вечности, а потому обречённое на «вечную» же вторичность) существование во вселенской плоскости, но инициативное, духовно-осмысленное, поэтапно-рациональное освоение природы.
Увы, для пересоздания огромных ареалов у истории «не было времени». У людей же были другие заботы. Между тем устроение ареалов, не разрушающее их органичное единство и внутренние взаимосвязи, могло облегчить перетекание цивилизаторских форм в эволюционные, ведя от эксплуатации природы к её целесообразному использованию. Таковое проявление человеческой инициативы разумнее как безынициативно-вялого существования, принимающего всё таким, как оно есть, так и нещадной эксплуатации (цивилизаторский путь Запада) того, что есть, что по этой причине рано или поздно перестаёт быть. Однако видение себя в качестве самостоятельной формообразующей части природы, способной развить высокое индивидуальное, коллективное и социальное сознание, не было свойственно девственно-степным регионам и хищ- ным горским племенам, как не было характерно для народностей великой тундры, безвестным племенным образованиям и «лесным жителям» по ту сторону Уральских гор. Рациональным осмыслением сущего и способностью к общественному развитию не особенно отличались народы и племена средневосточного и южного «подбрюшья» России. Покуда следовали наиболее продвинутым культурам (к примеру, фарси), они были на определённой высоте, но, позабыв внутренние связи, прошли мимо культуры и политической уверенности в себе. Словом, Россия была охвачена широкой «подковой» ареалов, малоспособных к социальной жизни, не говоря уже о государственном бытии.
Здесь возьму на себя грех привести формулу Карла Густава Юнга, смягчая «общую» вину тем обстоятельством, что психо- аналитик имел в виду «этнографически чистого» дикаря: «Дикарь живёт в такой „participation mistique“ (мистической сопричастности. – фр.) миру, что для него просто не существует ничего похожего на то разграничение субъекта и объекта, которое имеет место в наших умах. Что происходит вовне, то происходит и в нём самом, а что случается в нём, то случается вовне». 13 Мысль Юнга косвенно подтверждает отчасти затронутый уже нами «фольклорный» мотив, передающий характер и специфику мировосприятия пасущихся на ниве природы племён: «что вижу – о том и пою…».
Но, говоря о «наших умах», Юнг (уж не подсознательно ли?!) в известной степени отчуждает их от глубокого прочувствованного восприятия природы в её первозданности и неповторимой красоте, что подтверждает не вполне осознанная в своих последствиях тенденция «западного ума» изменять природный мир по своему усмотрению. Эта тенденция прямо свидетельствует о том, что в произволе ослабленного духа созерцательное мировосприятие уступило прагматичному.
Тем не менее, девственные кланы и родовые общества ареалов тундры и дальнего Востока умели находить ресурсы «социальной защиты» в своём грубом уме и незамутнённой никакими общественными отношениями «природной душе». Обладая сопричастной их быту самодостаточностью, племенные общности проявляли немалую изобретательность в средствах выживания в условиях суровой таёжной или степной жизни, что во многом объясняется нераздельностью существования с природными особенностями регионов. Ощущение дикой свободы и страсть к безначальной жизни, за незнанием никакой другой, формировали её стиль. И это естественно: то, что привычно и что ты не в силах изменить, всегда кажется более приемлемым, нежели загадочное и непонятное чужое – пусть даже и лучшее. И если общество, поняв, принимает эту акси- ому сознательно, то племя разделяет её на уровне подсознания.
Австрийский психолог Вильгельм Вундт несколько рискованно объяснял этот психосоматический феномен тем, что дух является «внутренним бытиём, лишённым всякой связи с внешним бытиём». Уязвимость этой острой, но не имеющей универсального значения мысли Вундта в том, что, если «внешнее бытиё» не входит в контакт с духовным бытиём, тогда (если уж быть последовательным) надо поставить под сомнение не только духовное развитие, но и осмысленность существования… «европейского человечества», что, может, не было бы большой бедой, если бы не перечёркивало усилия остального человечества с его глубоко и истинно духовными проявлениями. Надо ли специально оговаривать, что это означало бы устранение (к счастью, лишь в умозрении) самой истории в её наиболее сущностных проявлениях?! Соотношение «внутреннего» и «внешнего», пожалуй, выглядело бы яснее, если определить внешнее бытиё условным производным от желающих материализовать себя структурированных начал «внутреннего бытия», которое Вундт называет «духом». Но не будем отвлекаться. Вернёмся к временам, когда создавалась «имперская ткань» Страны.
Другие электронные книги автора Виктор Иванович Сиротин
Бездна




 0
0