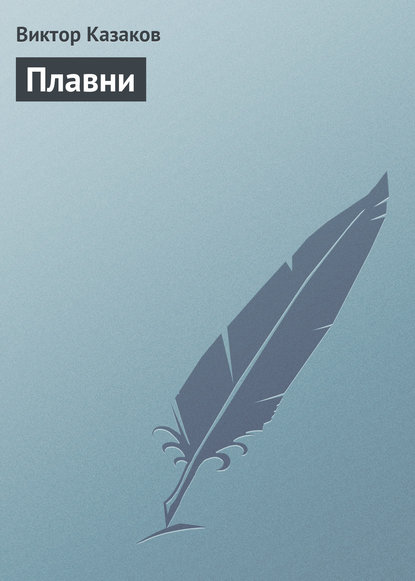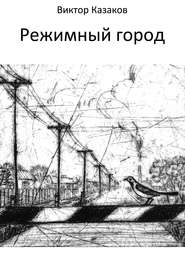По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Плавни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3
К этому времени на центральной улице Прутска уже открылись двери парикмахерской. Оба ее мастера, вовсе не похожие друг на друга ни по внешнему облику, ни по характерам (Рубинштейн – высокий, худой, всегда гордый, серьезный; Мулярчик – толстенький коротышка, болтун, вертопрах и, по словам своей сестры Розы, «страшный бабник, сексуальный бандит»), отличались общей склонностью к философскому осмыслению окружающей их действительности. Процесс осмысления протекал у них без отрыва от производства, производству не мешал и, в отличие от академических аудиторий, где, как известно, истина всегда рождается в споре, в коллективе прутских брадобреев носил мирный и взаимоуважительный характер.
Разговор сегодня начал Мулярчик, сообщивший коллеге важную новость:
– Моя сестра Роза вчера вечером, когда мы за ужином ели жареный картофель, сказала: «Хочется съесть что-нибудь остродефицитное». Как тебе нравится такое нахальство?
Рубинштейн поддержал разговор:
– А мой брат привез из Москвы высокачественные ботинки. Французские.
– Свободно лежат?!
– «Лежат…» – Рубинштейн многозначительно посмотрел в потолок. – Там тоже надо попасть на момент.
Известие о покупке братом Рубинштейна высококачественных французских ботинок обострило в Мулярчике гражданское самосознание, в результате чего он произнес фразу, которая потребовала от него некоторого мужества:
– Там, где производят импорт, работают за валюту, а у нас, – мастер скосил глаза на широко открытую, занавешенную (от мух) марлей дверь, – за победу в социалистическом соревновании.
Рубинштейн в ответ промолчал. И не только потому, что боялся поддержать политически неблагонадежное суждение коллеги; он заподозрил в нем второй, косвенно касавшийся его, Рубинштейна, смысл: Рубинштейну, первому среди тружеников Прутска, недавно присвоили звание «ударник коммунистического труда», а Мулярчик, который, в дополнение к уже отмеченным, со слов его сестры Розы, слабостям, был еще и честолюбив, красный вымпел пока не получил. В его словах Рубинштейн и предположил зависть и намек на эту социальную несправедливость.
Диалог прервал вошедший в парикмахерскую сотрудник местной газеты «Шаги к коммунизму» Евгений Васильевич Ковалев – человек стройный, средних лет и высокого роста; на нем были отутюженные белые брюки и легкая льняная сорочка с короткими рукавами; черную шевелюру газетчика с правого бока уже серебрила седая прядь, что усиливало важность и солидность Евгения Васильевича, а всегда серьезные карие глаза выдавали в нем постоянную работу ума и ослабленное чувство юмора.
Ковалев был взволнован и хмур, и Рубинштейн, человек чувствительный и неравнодушный к страданиям ближних, искренне вздохнул про себя: «Что ж это за личная жизнь, если человеку уже в такой ранний час плохо?»
Намыливая щеки Ковалева, участливо спросил:
– Женя, что – опять осложнения на Ближнем Востоке?
Ковалев в ответ что-то невнятно проворчал, и парикмахер, будучи человеком деликатным, застыдился своего нетерпеливого желания, подняв для приличия меж– дународную тему, обсудить с газетчиком главное – судьбу прутских плавней (он уже сочинил витиеватую фразу, с которой собирался завязать об этом разговор: «Женя, – вертелось на языке Рубинштейна, – что нового говорят в высших сферах о нашей святыне?»).
…А Ковалеву было не до вопросов парикмахера. Он размышлял над разговором, случившимся два часа назад (этот разговор, а не очередная ссора с женой, как было предположил Рубинштейн, и был причиной его плохого настроения).
Ранним утром – свет нового дня едва обозначился на востоке – Евгений Васильевич бежал трусцой по пустым, еще погруженным в плотный мрак улицам. Был он по пояс гол, в длинных шортах и старых кедах, надетых на толстые шерстяные носки; лоб прикрывал длинный пластмассовый козырек, резинка козырька стягивала на голове мокрые от пота волосы. Неслышно касались тротуара старые резиновые подошвы; глубоко и жадно дышала остывшим за ночь воздухом грудь…
В последние годы Ковалев испытывал глубокую неудовлетворенность жизнью – душу терзали постоянные разлады с женой Екатериной Ивановной, женщиной на редкость ленивой и глупой. Когда-то учившаяся медицине, она теперь целыми днями сидела на скамейке во дворе дома, где жила с мужем в двухкомнатной квартире, и колупала палочкой землю. На вопросы соседей, почему она не устроится на работу, Екатерина Ивановна объясняла: «В высшем обществе жены не работают».
Весной Евгений Васильевич совсем было собрался уйти из дома. В маленький кожаный саквояж, в котором, по семейному преданию, еще дед Ковалева, генерал, врач царской армии, возил по манжурским сопкам свои медицинские инструменты, он сложил опасную бритву, смену белья, зубную щетку и рукописи неоконченных произведений. И ушел бы через минуту, если бы на пороге квартиры вдруг не появилась Екатерина Ивановна. Увидев мужа с саквояжем в руках, она сразу все поняла и поступила так, как в таких случаях обычно поступают женщины, в роду которых никогда не было генералов: тяжелыми шагами подошла к мужу и влепила ему звонкую и унизительную оплеуху. И намертво заперла двери.
Екатерина Ивановна очень гордилась своим поступком. «Я спасла семью», – говорила она соседкам, при случае вспоминая об инциденте.
А Ковалев, окончательно смирившись с существованием в его жизни Екатерины Ивановны (за десять лет так и не родившей ребенка), стал спасать собственную душу.
Бег трусцой был одним из элементов системы самоусовершенствования, придуманной Евгением Васильевичем (кое-что, не без этого, он позаимствовал у восточных народов), и сегодня утром наш герой отрабатывал на бегу одно из сложнейших упражнений этой системы – учился усилием воли «уходить в пуп». Кажется, он уже смог вызвать в себе необходимые для этого импульсы – как будто ощутил их в тот момент, когда пересек площадь у педучилища и, заложив крутой вираж возле магазина хозяйственных товаров, вышел на центральную улицу. Но тут… Когда по заасфальтированной прямой он уже набрал необходимую скорость, по его разгоряченному телу вдруг ударила мощная струя холодной воды. И хотя тело на этот душ отозвалось с благодарностью, купание было непрошенным, и Ковалев, остановившись на тротуаре, в сторону, откуда ударила струя, бросил взгляд, полный оскорбленного достоинства.
На противоположной стороне улицы, у райкома партии, под густой старой липой стояла трехтонная поливалка и шофер ее, уже знакомый читателю Валентин Унгурян, выглядывал из кабины и, не боясь разбудить город, весело хохотал.
– Привет защитнику униженных и оскорбленных!
Узнав приятеля, Ковалев майкой, которую держал в руке, вытер лицо и сердито огрызнулся:
– Французы говорят: если хочешь представить себе понятие бесконечности, подумай о человеческой глупости.
– Браво, Женя! И как ты узнаешь, что говорят французы? – Унгурян не скрывал удовольствия от встречи. – Не сердись, кроме этой водометной установки, – он похлопал ладонью по крыше кабины, – у меня не было ничего другого, способного остановить твой целеустремленный бег.
– А тебе обязательно надо было меня останавливать?
– Обязательно! Я придумал и спешу подарить тебе несколько замечательных фраз, литературных, можно сказать, шедевров!
Валентин втянул голову в кабину и вытащил из «бардачка» грязную тетрадь. Махнул рукой:
– Подходи.
Ковалев пересек улицу и сел на подножку поливалки.
– «Шире размах прыжков в воду!» – открыв тетрадь, торжественно, как на митинге, прочитал Унгурян. – Прекрасный заголовок для спортивных обозрений! А это – реалистическая по форме и социалистическая по содержанию реклама: «Не будь, товарищ, дураком, купи в рассрочку дырокол!» Каково сказано, Женя, а? Еще один шедевр, познакомь с ним своего редактора Рошку – он ему пригодится для сочинения очередного наболта: «Кадры решают все, даже кроссворды!»
Ковалев, подозревая, что «шедеврами» исписана не одна страница тетради Валентина и чтение всех их закончится не раньше восхода солнца, остановил все более воодушевлявшегося водителя поливалки:
– Как к тебе приходит вся эта чушь, Валя?
Валентин почесал за ухом:
– Фразы навеяны нашей светлой действительностью. Вчера идеологическая работа в городе – и до этого, как ты знаешь, пребывавшая на небывалой высоте, получила дальнейшее развитие: в Прутске обновилась наглядная агитация. На воротах рынка, до этого безыдейных, теперь объявлено: «СССР – наша Родина!»; у входа в парк на алом кумаче – от имени миллионов: «Все наши мысли – о тебе, партия!» Я решил попробовать в том же жанре, и если ты одобришь…
– Одобрю. А теперь скажи мне: среди идеологических шедевров, которые ты так старательно вызубрил, не попадался тебе плакат, призывающий в рекордные сроки осушить наши плавни?
Валентин втянул голову в кабину и уже без балагурства ответил:
– Такого плаката в городе пока нет, Женя. Пока.
– Думаешь, повесят?
Унгурян пожал плечами:
– Город гудит; говорят, техника на озерах появится уже осенью.
Помолчали.
– А я не верю, – Ковалев встал с подножки. – Преступления совершаются, когда они кому-то выгодны. А кому нужны осушенные плавни? Колхозам? Помидоры выращивать? Их уже сейчас в районе убирать некому.
– В действиях властей ты ищешь логику…
– Конечно, не в дурдоме же мы!
– В дурдоме было бы проще: там Наполеон думает исключительно об интересах общественных. А настоящий Наполеон, имею на этот счет глубокое убеждение, никогда не забывал и об интересах собственных, шкурных, тайных, и еще большой вопрос, о каких из этих двух интересов он вспоминал чаще и с большим удовольствием. Так и наши власти: думают они не только о колхозных помидорах, значит, и логику их действий надо искать не только на общественных нивах.
…Слух, к которому они еще вчера относились как к пустой болтовне, кажется, сегодня впервые стал пробуждать тревогу.