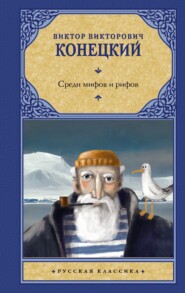По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Солёный лёд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она покрутила свою машину в обратную сторону, и я имел удовольствие выслушать собственную речь. Мой голос после длительной стоянки в Архангельске был почему-то хриплым.
– Счастливого плавания, товарищ Капецкий, – сказала она в микрофон. – Товарищи, вы слышите, как шумит волна у бортов кораблей? Это корабли уходят в море. – Здесь она высунула микрофон в иллюминатор. Там действительно плюхала вода.
На этом эпизоде наша связь с цивилизацией прекратилась.
В 05.00 20 августа мы снялись с якорей и вышли на Салехард из Мурманского рукава реки Северная Двина, имея на борту десять человек экипажа, 24 тонны топлива, 700 килограммов машинного масла и две с половиной тонны пресной воды. Если говорить честно, пресной воды у нас было больше. Исходя из опыта, мы зацементировали фекальную цистерну и приняли пресной воды в нее. По своему прямому назначению цистерна еще ни разу не применялась, и вода из нее вполне годилась для мытья посуды и физиономий.
Мы все когда-то вылезли на свет божий из соленой купели, ибо жизнь началась в море. И теперь мы не можем жить без нее. Только теперь мы отдельно едим соль и отдельно пьем пресную воду.
Наша лимфа имеет такой же солевой состав, как и морская вода. Море живет в каждом из нас, хотя мы давным-давно отделились от него. И самый сухопутный человек носит в своей крови море, не зная об этом. Наверное, потому так тянет людей смотреть на прибой, на бесконечную череду валов и слушать их вечный гул. Это голос давней родины, это зов крови в полном смысле слова.
В рейсе со мной была книга «Арабы и море». Вот что я там вычитал: «Великая вода. От хеттского слова для нее – вадар и арабского матар (дождь) совсем близко до нашего матерь, мать, восходящего к индийской древности».
Хорошо бы составить сборник высказываний великих мира сего о воде и о море. Еврипид писал: «Море смывает грязь и раны мира». Неру просил, чтобы часть его праха развеяли над морем. Туда же навсегда ушел Фридрих Энгельс. А это были разные люди.
Море соединяет континенты и людей, море – такое же серьезное понятие, как земля, смерть, жизнь и любовь.
Я привык думать о море как о разумном существе. Всегда кажется, что оно знает мои мысли и ведает мои намерения. Когда в детстве мама приучала меня верить в Бога, мне также казалось, что он, Бог, знает все, что сейчас во мне. И тут не солжешь. И когда много лет назад мне пришлось тонуть на разбитом корабле и страх сжимал душу, я вдруг понял, что море видит мой страх и это не нравится ему. Я ощутил это своей кожей. Как ощущаешь взгляд, который сверлит тебе затылок через замочную скважину. И постарался вытряхнуть из себя страх. И заорал, хлебая соленую холодную воду, какие-то дерзкие и богохульные слова…
Оно умеет заглядывать в душу, это мокрое соленое существо, которое двигается вслед, которое не знает, что такое покой, которое никогда не может удобно улечься в жесткое ложе своих берегов.
Вот почему с глубоким, торжественным почтением снимаешь фуражку, прочитав в газете: «Во время шторма в районе Азорских островов погиб французский мореплаватель Рене Лекомб, который пытался в одиночку переплыть в небольшой лодке Атлантический океан. Рене Лекомб погиб на 68-й день своего путешествия».
В чем смысл его гибели? Человек всегда хотел доказать себе и всей природе свою великую роль и особую миссию. Часто люди даже не думают об этом. Спросите укротителя в цирке, в чем главный смысл его профессии. Он наговорит с три короба, но сам вряд ли понимает, что дело не в красоте зрелища, не в ритме номера, а в том, что человек, заставляя льва пятиться по буму и перебирать лапами на блестящем шаре, утверждает победу всечеловеческого честолюбия.
Когда молодые люди в первый раз выходят в море и оно болтает их и заставляет отдавать за борт макароны и щи, то молодые люди стыдятся этого, стараются изо всех сил не выпустить макароны из себя. И тогда старые моряки утешают их, говорят, что адмирал Нельсон травил всю жизнь, что, командуя в Трафальгарском сражении, он все время имел при себе матроса с ведром. И что здесь нет ничего стыдного.
Но старые моряки лгут.
Нет такого человека, которому по душе поддаться морю хотя бы в такой мелочи, как обыкновенная тошнота. Человек не хочет уступать морю ни в чем. И оно знает это. И потому с ним надо держать ухо востро.
Караван вышел в Белое море и построился в две кильватерные колонны. Впереди нас расправил белые усы пены «Гвардейск», позади дружной компанией пристроились художники «Верещагин», «Левитан» и «Перов». Справа бодал высоким лбом влажный воздух «Суриков» и плавно покачивалась «Гавана».
Верещагин погиб на «Петропавловске», океан стал его могилой, но вот он вышел из нее и опять качается на бледных волнах Белого моря. Ему привычно сейчас.
Левитан, вероятно, несколько удивлен и радостно взволнован. Уходит в акварельную дымку зеленый Мудьюг, и столько света вокруг, такой простор. И отовсюду из каждой точки этого простора струится волнистый утренний, бессолнечный северный свет. И чистота тонов, и нежность переливов, и белоснежность неподвижной чайки.
Перову не хватает вокруг сюжетности. Раннее утро в Белом море чересчур импрессионистично для него, он строго поглядывает вперед, ему больше понравится в Баренцевом.
Суриков – северный человек, он умеет спокойно смотреть и спокойно ждать. Ему хорошо будет в Карском, когда за бортом появятся первые льдины, с густо-сизого неба рванутся к черной воде злые снежинки и караван повернет к Оби, к берегам его родной Сибири.
– Ну, вот и поплыли, – сказал Володя Малышев. – Как мы поделим вахты?
Нас было двое штурманов, а в сутках двадцать четыре часа. И без выходных. Правда, за все эти часы платят деньги, и не маленькие. Поэтому перегонщики не любят третьего штурмана на борту. И еще перегонщики не любят торопиться. Чем длиннее рейс – тем больше заработок. Очень неплохо, если ударит шторм и где-нибудь простоишь несколько суток. В какой-нибудь хорошей бухточке. Если близко нет такой бухточки, то шторма не надо. Совсем тогда его не надо.
– Мне все равно, когда стоять вахту, – сказал я. И мы бросили жребий.
Ему достались все закаты, мне восходы. Он стоял с двадцати часов до двух ночи. Я с двух до восьми утра. Потом опять он шесть часов. И опять я шесть часов. Хватит времени подумать обо всем на свете.
Когда живешь в городе, редко видишь восходы. И забываешь, что они есть.
Утром меня не тянет уйти из дома, а вечером я листаю записную книжку и ищу, кому позвонить, и даже хорошая книга не может удержать меня на месте. Утро – это покой и созерцательность. Вечер – нервное стремление к движению.
Я был рад тому, что много раз увижу, как из ночного мрака будет рождаться день. Правда, около четырех ночи, пока не привыкнешь, очень хочется спать. И кажется, что утро и конец вахты не придут никогда.
В рубке совсем темно и тихо. Редко кто разговаривает. Только кашляют курильщики и потрескивает табак в дрянных сигаретах. И если нет ветра и качки, то как-то совсем не ощущаешь движения судна, потому что давно привык к шуму двигателей и вибрации от винтов…
Около четырех ночи – самое тоскливое время.
Конечно, когда ты плывешь в южном море, это другое дело. Когда небо мерцает звездами, и Млечный Путь мерцает галактиками, и море за бортом впитывает в себя лучи бесконечно далеких миров, тогда другое дело.
Но на Севере слишком редко бывает чистое небо летом. И недостаточно темно. Ночная тьма на Севере летом мутная. И утро вползает незаметно, рассеиваясь в низких тучах. Роса садится на стекла рубки, на сталь палуб, на брезенты шлюпок. И если ты вылезешь на мостик, чтобы взять пеленги маяка, то надо будет рукавом провести по стеклу компаса, ибо на нем тоже будет слабая влага.
И тут ты можешь увидеть большую морскую птицу. И если тебе повезет, она споет тебе песню без слов.
«Я лечу над морем совсем одна, – расскажет птица. – Ветер подпирает мои крылья. Фиолетовые скалы Шпицбергена остались далеко-далеко позади. Я знаю – скоро будет сильный ветер. Очень темным станет море, белая пена зашипит на волнах, серые полосы пены станут качаться на воде. А я буду лететь все дальше и дальше. Я не буду тратить сил. Выпростаю крылья против ветра. И ветер будет держать меня высоко. Очень высоко. Страшное море, огромный океан, пустыня воды и неба будут вокруг меня. А я все буду петь, смотря вниз, выискивая рыбу. Я буду петь, ожидая, когда замечу темный и быстрый извив рыбы. Потом я упаду вниз, бесшумная, и стремительная, и беспощадная. И тело рыбы забьется в моем клюве. И я ударю ее когтями и проглочу, и почувствую тяжесть внутри себя. Огромный океан будет подо мной, и волны в нем будут казаться мне гладкими и слабыми. О, катитесь дальше, волны. Я знаю, вам нет конца. Всегда вы будете бежать все дальше и дальше, синие и голубые, зеленые и серые. Всегда, всегда будет это…»
И ты помашешь вслед птице рукой, вернешься в рубку, зажжешь лампочку над штурманским столиком, желтый круг света плавно заколышется на бело-голубой карте, и вдруг на пустынном тундровом берегу, за сотни миль от ближайших селений, увидишь маленький черный квадратик и прочитаешь: «Изба Никольского». «Кто он? – подумаешь ты. – Жив ли этот упорец и жизнестоец? Или давно умер?» И как-то даже защемит сердце от мысли о нем, об его одиночестве и мужестве.
Интересно на спокойной вахте разглядывать карту. Так много людей оставили на ней свой след. От первых землепроходцев и мореходов до изящной женщины-корректора, которая тронула карту красной тушью еще совсем недавно. Она обязательно кажется тебе изящной – далекая и неизвестная женщина, когда прочтешь внизу карты ее фамилию: Иевлева, Лермогорская… Хорошо, что корректоры чаще всего женщины.
И вот где-нибудь в море представишь, как они утром приходят на работу в гидрографию, поправляют прически, шутят, говорят про вчерашнее кино и садятся к стеклянным столам, включают подстольные лампы, читают «Извещения мореплавателям» и уходят странствовать по всему свету… Они не ссорятся, не завидуют друг другу, не делают гадостей, они довольны работой и зарплатой, и мечта о месте старшего корректора – не главная их мечта. Очень хочется верить во все это, когда вахта перевалила за половину и утро заползает в рубку.
Тишина рассеивается вместе с мраком.
Старший механик Александр Павлович Карев – пожилой, неряшливый толстяк со средним техническим образованием, из кочегаров, уже на пенсии, но пошел в рейс, чтобы подработать; неуверенный в своих знаниях, но нахальный – долго кряхтит и наконец говорит:
– Берешь кастрюлю. В нее – слой тресковой печени, потом слой трески, потом картошечки и сверху – еще печеночки. И в духовку. – Механик чмокает, и у всех нас начинает выделяться слюна.
Есть хотят все. А больше всех – механик. Единственное, что он любит в жизни, – еда. Надо видеть Александра Павловича, когда на борт привозят продукты, и мясо не влезает в холодильник. Тогда он отодвигает в сторону Зою Степановну, засучивает рукава, вытаскивает из холодильника все и начинает укладывать по-своему. Он тискает замерзшие коровьи сердца, он перебирает кости, он подкидывает в воздух свиные головы и хрюкает от наслаждения. Он не торопится уложить мясо, ему жаль расставаться с ним…
Ни я, ни Зоя Степановна его не можем любить хотя бы потому, что он ест не меньше двух тарелок супа за обедом, а продукты нужно экономить, и отвечает за продукты старший помощник, то есть я.
– Когда я плавал в тридцать третьем году на «Донце», ночной вахте какао давали, и пирожки кок пек, – продолжает свою тему стармех.
Он сидит в правом углу рубки на высоком табурете, положив руки на пульт управления машиной. У нас дистанционное управление. Можно менять число оборотов двигателей и реверсировать их прямо из рулевой рубки.
– Смените пластинку, стармех, – миролюбиво говорю я.
– Лучше бы вы, дед, грелку в нашей каюте наладили, – поддерживает меня рулевой матрос Рабов.
– А ты электрический утюг у буфетчицы возьми, – совершенно серьезно и доброжелательно советует стармех. – Он тоже греет.
Александру Павловичу нельзя отказать в известном юморе. И это единственное, что примиряет с ним.
Рабов не выдерживает и смеется. Стармех доволен удачей и развивает ее:
– В двадцать девятом году в Мурманске очень большой мороз был. Идем мы из кабака. Лошадь стоит, извозчичья, в пролетку запряжена. Мужика нет, а лошади холодно. Мы ее выпрягли и на третий этаж общежития завели. Ну конечно, полундру мильтоны подняли: где лошадь? А попробуй, найди лошадь в общежитии на третьем этаже. Утром мы протрезвели, смотрим – лошадь между коек пасется. Что делать? Кормить ее надо. Был у нас такой кочегар – Наполеон Серенький, и дружок у него был, Адам Хорошенький. Мы их в командировку отправили – в ресторан за апельсинами. А она апельсины не ест…
– Счастливого плавания, товарищ Капецкий, – сказала она в микрофон. – Товарищи, вы слышите, как шумит волна у бортов кораблей? Это корабли уходят в море. – Здесь она высунула микрофон в иллюминатор. Там действительно плюхала вода.
На этом эпизоде наша связь с цивилизацией прекратилась.
В 05.00 20 августа мы снялись с якорей и вышли на Салехард из Мурманского рукава реки Северная Двина, имея на борту десять человек экипажа, 24 тонны топлива, 700 килограммов машинного масла и две с половиной тонны пресной воды. Если говорить честно, пресной воды у нас было больше. Исходя из опыта, мы зацементировали фекальную цистерну и приняли пресной воды в нее. По своему прямому назначению цистерна еще ни разу не применялась, и вода из нее вполне годилась для мытья посуды и физиономий.
Мы все когда-то вылезли на свет божий из соленой купели, ибо жизнь началась в море. И теперь мы не можем жить без нее. Только теперь мы отдельно едим соль и отдельно пьем пресную воду.
Наша лимфа имеет такой же солевой состав, как и морская вода. Море живет в каждом из нас, хотя мы давным-давно отделились от него. И самый сухопутный человек носит в своей крови море, не зная об этом. Наверное, потому так тянет людей смотреть на прибой, на бесконечную череду валов и слушать их вечный гул. Это голос давней родины, это зов крови в полном смысле слова.
В рейсе со мной была книга «Арабы и море». Вот что я там вычитал: «Великая вода. От хеттского слова для нее – вадар и арабского матар (дождь) совсем близко до нашего матерь, мать, восходящего к индийской древности».
Хорошо бы составить сборник высказываний великих мира сего о воде и о море. Еврипид писал: «Море смывает грязь и раны мира». Неру просил, чтобы часть его праха развеяли над морем. Туда же навсегда ушел Фридрих Энгельс. А это были разные люди.
Море соединяет континенты и людей, море – такое же серьезное понятие, как земля, смерть, жизнь и любовь.
Я привык думать о море как о разумном существе. Всегда кажется, что оно знает мои мысли и ведает мои намерения. Когда в детстве мама приучала меня верить в Бога, мне также казалось, что он, Бог, знает все, что сейчас во мне. И тут не солжешь. И когда много лет назад мне пришлось тонуть на разбитом корабле и страх сжимал душу, я вдруг понял, что море видит мой страх и это не нравится ему. Я ощутил это своей кожей. Как ощущаешь взгляд, который сверлит тебе затылок через замочную скважину. И постарался вытряхнуть из себя страх. И заорал, хлебая соленую холодную воду, какие-то дерзкие и богохульные слова…
Оно умеет заглядывать в душу, это мокрое соленое существо, которое двигается вслед, которое не знает, что такое покой, которое никогда не может удобно улечься в жесткое ложе своих берегов.
Вот почему с глубоким, торжественным почтением снимаешь фуражку, прочитав в газете: «Во время шторма в районе Азорских островов погиб французский мореплаватель Рене Лекомб, который пытался в одиночку переплыть в небольшой лодке Атлантический океан. Рене Лекомб погиб на 68-й день своего путешествия».
В чем смысл его гибели? Человек всегда хотел доказать себе и всей природе свою великую роль и особую миссию. Часто люди даже не думают об этом. Спросите укротителя в цирке, в чем главный смысл его профессии. Он наговорит с три короба, но сам вряд ли понимает, что дело не в красоте зрелища, не в ритме номера, а в том, что человек, заставляя льва пятиться по буму и перебирать лапами на блестящем шаре, утверждает победу всечеловеческого честолюбия.
Когда молодые люди в первый раз выходят в море и оно болтает их и заставляет отдавать за борт макароны и щи, то молодые люди стыдятся этого, стараются изо всех сил не выпустить макароны из себя. И тогда старые моряки утешают их, говорят, что адмирал Нельсон травил всю жизнь, что, командуя в Трафальгарском сражении, он все время имел при себе матроса с ведром. И что здесь нет ничего стыдного.
Но старые моряки лгут.
Нет такого человека, которому по душе поддаться морю хотя бы в такой мелочи, как обыкновенная тошнота. Человек не хочет уступать морю ни в чем. И оно знает это. И потому с ним надо держать ухо востро.
Караван вышел в Белое море и построился в две кильватерные колонны. Впереди нас расправил белые усы пены «Гвардейск», позади дружной компанией пристроились художники «Верещагин», «Левитан» и «Перов». Справа бодал высоким лбом влажный воздух «Суриков» и плавно покачивалась «Гавана».
Верещагин погиб на «Петропавловске», океан стал его могилой, но вот он вышел из нее и опять качается на бледных волнах Белого моря. Ему привычно сейчас.
Левитан, вероятно, несколько удивлен и радостно взволнован. Уходит в акварельную дымку зеленый Мудьюг, и столько света вокруг, такой простор. И отовсюду из каждой точки этого простора струится волнистый утренний, бессолнечный северный свет. И чистота тонов, и нежность переливов, и белоснежность неподвижной чайки.
Перову не хватает вокруг сюжетности. Раннее утро в Белом море чересчур импрессионистично для него, он строго поглядывает вперед, ему больше понравится в Баренцевом.
Суриков – северный человек, он умеет спокойно смотреть и спокойно ждать. Ему хорошо будет в Карском, когда за бортом появятся первые льдины, с густо-сизого неба рванутся к черной воде злые снежинки и караван повернет к Оби, к берегам его родной Сибири.
– Ну, вот и поплыли, – сказал Володя Малышев. – Как мы поделим вахты?
Нас было двое штурманов, а в сутках двадцать четыре часа. И без выходных. Правда, за все эти часы платят деньги, и не маленькие. Поэтому перегонщики не любят третьего штурмана на борту. И еще перегонщики не любят торопиться. Чем длиннее рейс – тем больше заработок. Очень неплохо, если ударит шторм и где-нибудь простоишь несколько суток. В какой-нибудь хорошей бухточке. Если близко нет такой бухточки, то шторма не надо. Совсем тогда его не надо.
– Мне все равно, когда стоять вахту, – сказал я. И мы бросили жребий.
Ему достались все закаты, мне восходы. Он стоял с двадцати часов до двух ночи. Я с двух до восьми утра. Потом опять он шесть часов. И опять я шесть часов. Хватит времени подумать обо всем на свете.
Когда живешь в городе, редко видишь восходы. И забываешь, что они есть.
Утром меня не тянет уйти из дома, а вечером я листаю записную книжку и ищу, кому позвонить, и даже хорошая книга не может удержать меня на месте. Утро – это покой и созерцательность. Вечер – нервное стремление к движению.
Я был рад тому, что много раз увижу, как из ночного мрака будет рождаться день. Правда, около четырех ночи, пока не привыкнешь, очень хочется спать. И кажется, что утро и конец вахты не придут никогда.
В рубке совсем темно и тихо. Редко кто разговаривает. Только кашляют курильщики и потрескивает табак в дрянных сигаретах. И если нет ветра и качки, то как-то совсем не ощущаешь движения судна, потому что давно привык к шуму двигателей и вибрации от винтов…
Около четырех ночи – самое тоскливое время.
Конечно, когда ты плывешь в южном море, это другое дело. Когда небо мерцает звездами, и Млечный Путь мерцает галактиками, и море за бортом впитывает в себя лучи бесконечно далеких миров, тогда другое дело.
Но на Севере слишком редко бывает чистое небо летом. И недостаточно темно. Ночная тьма на Севере летом мутная. И утро вползает незаметно, рассеиваясь в низких тучах. Роса садится на стекла рубки, на сталь палуб, на брезенты шлюпок. И если ты вылезешь на мостик, чтобы взять пеленги маяка, то надо будет рукавом провести по стеклу компаса, ибо на нем тоже будет слабая влага.
И тут ты можешь увидеть большую морскую птицу. И если тебе повезет, она споет тебе песню без слов.
«Я лечу над морем совсем одна, – расскажет птица. – Ветер подпирает мои крылья. Фиолетовые скалы Шпицбергена остались далеко-далеко позади. Я знаю – скоро будет сильный ветер. Очень темным станет море, белая пена зашипит на волнах, серые полосы пены станут качаться на воде. А я буду лететь все дальше и дальше. Я не буду тратить сил. Выпростаю крылья против ветра. И ветер будет держать меня высоко. Очень высоко. Страшное море, огромный океан, пустыня воды и неба будут вокруг меня. А я все буду петь, смотря вниз, выискивая рыбу. Я буду петь, ожидая, когда замечу темный и быстрый извив рыбы. Потом я упаду вниз, бесшумная, и стремительная, и беспощадная. И тело рыбы забьется в моем клюве. И я ударю ее когтями и проглочу, и почувствую тяжесть внутри себя. Огромный океан будет подо мной, и волны в нем будут казаться мне гладкими и слабыми. О, катитесь дальше, волны. Я знаю, вам нет конца. Всегда вы будете бежать все дальше и дальше, синие и голубые, зеленые и серые. Всегда, всегда будет это…»
И ты помашешь вслед птице рукой, вернешься в рубку, зажжешь лампочку над штурманским столиком, желтый круг света плавно заколышется на бело-голубой карте, и вдруг на пустынном тундровом берегу, за сотни миль от ближайших селений, увидишь маленький черный квадратик и прочитаешь: «Изба Никольского». «Кто он? – подумаешь ты. – Жив ли этот упорец и жизнестоец? Или давно умер?» И как-то даже защемит сердце от мысли о нем, об его одиночестве и мужестве.
Интересно на спокойной вахте разглядывать карту. Так много людей оставили на ней свой след. От первых землепроходцев и мореходов до изящной женщины-корректора, которая тронула карту красной тушью еще совсем недавно. Она обязательно кажется тебе изящной – далекая и неизвестная женщина, когда прочтешь внизу карты ее фамилию: Иевлева, Лермогорская… Хорошо, что корректоры чаще всего женщины.
И вот где-нибудь в море представишь, как они утром приходят на работу в гидрографию, поправляют прически, шутят, говорят про вчерашнее кино и садятся к стеклянным столам, включают подстольные лампы, читают «Извещения мореплавателям» и уходят странствовать по всему свету… Они не ссорятся, не завидуют друг другу, не делают гадостей, они довольны работой и зарплатой, и мечта о месте старшего корректора – не главная их мечта. Очень хочется верить во все это, когда вахта перевалила за половину и утро заползает в рубку.
Тишина рассеивается вместе с мраком.
Старший механик Александр Павлович Карев – пожилой, неряшливый толстяк со средним техническим образованием, из кочегаров, уже на пенсии, но пошел в рейс, чтобы подработать; неуверенный в своих знаниях, но нахальный – долго кряхтит и наконец говорит:
– Берешь кастрюлю. В нее – слой тресковой печени, потом слой трески, потом картошечки и сверху – еще печеночки. И в духовку. – Механик чмокает, и у всех нас начинает выделяться слюна.
Есть хотят все. А больше всех – механик. Единственное, что он любит в жизни, – еда. Надо видеть Александра Павловича, когда на борт привозят продукты, и мясо не влезает в холодильник. Тогда он отодвигает в сторону Зою Степановну, засучивает рукава, вытаскивает из холодильника все и начинает укладывать по-своему. Он тискает замерзшие коровьи сердца, он перебирает кости, он подкидывает в воздух свиные головы и хрюкает от наслаждения. Он не торопится уложить мясо, ему жаль расставаться с ним…
Ни я, ни Зоя Степановна его не можем любить хотя бы потому, что он ест не меньше двух тарелок супа за обедом, а продукты нужно экономить, и отвечает за продукты старший помощник, то есть я.
– Когда я плавал в тридцать третьем году на «Донце», ночной вахте какао давали, и пирожки кок пек, – продолжает свою тему стармех.
Он сидит в правом углу рубки на высоком табурете, положив руки на пульт управления машиной. У нас дистанционное управление. Можно менять число оборотов двигателей и реверсировать их прямо из рулевой рубки.
– Смените пластинку, стармех, – миролюбиво говорю я.
– Лучше бы вы, дед, грелку в нашей каюте наладили, – поддерживает меня рулевой матрос Рабов.
– А ты электрический утюг у буфетчицы возьми, – совершенно серьезно и доброжелательно советует стармех. – Он тоже греет.
Александру Павловичу нельзя отказать в известном юморе. И это единственное, что примиряет с ним.
Рабов не выдерживает и смеется. Стармех доволен удачей и развивает ее:
– В двадцать девятом году в Мурманске очень большой мороз был. Идем мы из кабака. Лошадь стоит, извозчичья, в пролетку запряжена. Мужика нет, а лошади холодно. Мы ее выпрягли и на третий этаж общежития завели. Ну конечно, полундру мильтоны подняли: где лошадь? А попробуй, найди лошадь в общежитии на третьем этаже. Утром мы протрезвели, смотрим – лошадь между коек пасется. Что делать? Кормить ее надо. Был у нас такой кочегар – Наполеон Серенький, и дружок у него был, Адам Хорошенький. Мы их в командировку отправили – в ресторан за апельсинами. А она апельсины не ест…