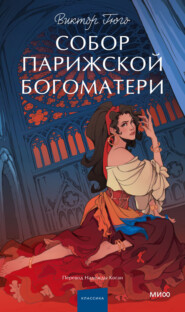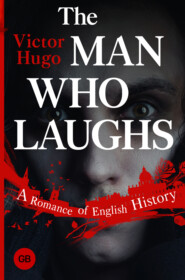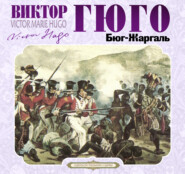По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собор Парижской Богоматери
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Козочка подняла переднюю ножку и стукнула копытцем по бубну один раз. Был действительно январь. В толпе послышались рукоплескания.
– Джали, – снова спросила молодая девушка, перевернув бубен, – какое нынче число?
Джали опять подняла свое маленькое позолоченное копытце и ударила им по бубну шесть раз.
– Джали, – продолжала цыганка, снова перевернув бубен, – который теперь час?
Джали стукнула семь раз. В ту же минуту на часах Дома с колоннами пробило семь. Толпа застыла в изумлении.
– Это колдовство! – проговорил мрачный голос в толпе. Голос принадлежал лысому человеку, не спускавшему с цыганки глаз.
Она вздрогнула и обернулась. Но гром рукоплесканий заглушил зловещие слова и настолько сгладил впечатление от этого возгласа, что девушка как ни в чем не бывало снова обратилась к своей козочке:
– Джали, а как ходит мэтр Гишар Гран-Реми, начальник городских стрелков, во время крестного хода на Сретенье?
Джали поднялась на задние ножки и заблеяла, переступая с такой забавной важностью, что все зрители покатились со смеху при виде этой пародии на ханжеское благочестие начальника стрелков.
– Джали, – продолжала молодая девушка, ободренная все растущим успехом, – а как говорит речь мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор, в духовном суде?
Козочка села и заблеяла, так странно подбрасывая передние ножки, что все в ней – поза, движения, повадка – сразу напомнило Жака Шармолю, не хватало только скверного французского и латинского произношения.
Толпа восторженно рукоплескала.
– Святотатство! Кощунство! – снова послышался голос лысого человека.
Цыганка обернулась:
– Ах, опять этот гадкий человек!
И, выпятив нижнюю губку, она сделала гримаску, которая, по-видимому, была ей привычна, затем, повернувшись на каблучках, пошла собирать в бубен даяния зрителей.
Крупные и мелкие серебряные монеты, лиарды сыпались градом. Когда она проходила мимо Гренгуара, он необдуманно сунул руку в карман, и цыганка остановилась.
– Черт возьми! – воскликнул поэт, найдя в глубине своего кармана то, что там было, то есть пустоту. А между тем молодая девушка стояла и глядела ему в лицо черными большими глазами, протягивая свой бубен, и ждала. Крупные капли пота выступили на лбу Гренгуара.
Владей он всем золотом Перу, он тотчас же, не задумываясь, отдал бы его плясунье; но золотом Перу он не владел, да и Америка в то время еще не была открыта. Неожиданный случай выручил его.
– Да уберешься ли ты отсюда, египетская саранча! – крикнул пронзительный голос из самого темного угла площади.
Молодая девушка испуганно обернулась. Теперь крикнул уже не лысый человек – голос был женский, злобный и исступленный.
Этот окрик, так напугавший цыганку, привел в восторг слонявшихся по площади детей.
– Это затворница Роландовой башни! – неистово хохоча, закричали они. – Это брюзжит вретишница! Она, должно быть, не ужинала. Принесем-ка ей оставшихся в городском буфете объедков!
И вся ватага стремительно бросилась к Дому с колоннами.
Гренгуар, воспользовавшись замешательством плясуньи, ускользнул незамеченным. Возгласы ребятишек напомнили ему, что и он тоже не ужинал. Он побежал за ними. Но у маленьких озорников ноги были проворнее, чем у него, и когда он достиг цели, все уже было ими дочиста подметено. Не оставалось даже жалкого хлебца по пяти су за фунт. Лишь на стенах, расписанных в 1434 году Матье Битерном, красовались стройные королевские лилии, разбросанные среди роз. Но это не могло заменить ему ужин!
Тягостно ложиться спать, не поужинав; еще печальнее, оставшись голодным, не знать, где переночевать. В таком положении оказался Гренгуар. Ни хлеба, ни крова; со всех сторон его теснила нужда, и он находил ее чересчур суровой. Уже давно открыл он ту истину, что Юпитер создал людей в припадке мизантропии и что мудрецу всю жизнь приходится бороться с судьбой, которая держит его философию в осадном положении. Никогда еще эта осада не была столь жестокой; желудок Гренгуара бил тревогу, и поэт находил, что со стороны злой судьбы крайне несправедливо брать его философию измором.
Эти грустные размышления, овладевавшие им все с большей силой, внезапно были прерваны странным, хотя и не лишенным сладости пением. То пела юная цыганка.
И веяло от ее песни тем же, чем и от ее пляски, и от ее красоты: чем-то неизъяснимым и прелестным, чем-то чистым и звучным, воздушным и окрыленным, если можно так выразиться. То было непрестанное нарастание звуков, мелодий, неожиданных рулад; простые музыкальные фразы перемешивались с резкими свистящими звуками; водопады трелей, способные обескуражить даже соловья, хранили вместе с тем верность гармонии; мягкие переливы октав то поднимались, то опускались, как грудь молодой певицы. Ее прелестное лицо с необычайной выразительностью отражало всю прихотливость ее песни, от самого страстного восторга до величавого целомудрия. Она казалась то безумной, то королевой.
Язык этой песни был неизвестен Гренгуару. По-видимому, он не был понятен и самой певице, так мало соответствовали те чувства, которые она влагала в пение, словам песни. Эти четыре стиха:
Un cofre de gran riqueza
Hallaron dentro un pilar,
Dentro del, nuevas banderas
Con figuras de espantar…[20 - Внутри колонны нашли богатый ларь, в котором лежали новые знамена с ужасными изображениями (исп.).] —
в ее устах звучали безумным весельем, а мгновение спустя выражение, которое она придавала словам:
Alarabes de caballo
Sin poderse menear,
Con espadas, у los cuellos,
Ballestas de buen echar…[21 - Арабы верхом на конях, неподвижные, с мечами, и самострелы перекинуты у них через плечо (исп.).] —
исторгало у Гренгуара слезы. Но чаще ее пение дышало радостью, она пела как птица, ликующе и беспечно.
Песнь цыганки встревожила задумчивость Гренгуара – так тревожит лебедь гладь воды. Он внимал ей упоенный, забыв все на свете. Впервые за долгие часы он забыл свои страдания. Но это длилось недолго.
Тот же голос, который прервал пляску цыганки, прервал теперь ее пение.
– Замолчишь ли ты, чертова стрекоза! – послышалось из того же темного угла площади.
Бедняжка-«стрекоза» умолкла. Гренгуар заткнул себе уши.
– О проклятая старая пила, разбившая лиру! – воскликнул он.
Зрители тоже ворчали.
– К черту вретишницу! – возмущались многие.
И старое незримое пугало могло бы дорого поплатиться за свои нападки на цыганку, если бы в эту минуту внимание толпы не было отвлечено процессией шутовского папы, успевшей обежать улицы и перекрестки и хлынувшей теперь с факелами и шумом на площадь.
Эта процессия, которую читатель наблюдал, когда она выходила из дворца, в пути установила порядок и вобрала в себя всех мошенников, бездельников, воров и бродяг Парижа. Таким образом, прибыв на Гревскую площадь, она являла собою зрелище поистине внушительное.
Впереди всех двигались цыгане. Во главе их, направляя и вдохновляя шествие, ехал верхом на коне цыганский герцог в сопровождении своих пеших графов; за ними беспорядочной толпой следовали цыгане и цыганки, таща на спине ревущих детей; и все – герцог, графы и чернь – в отрепьях и мишуре. За цыганами двигались подданные королевства Арго, то есть все воры Франции, разделенные по рангам на несколько отрядов; первыми шли самые низшие по званию. Так, по четыре человека в ряд, со всевозможными знаками отличия соответственно их ученой степени в области этой странной науки, проследовало множество калек – то хромых, то одноруких: карманников, богомольцев, эпилептиков, скуфейников, христарадников, котов, шатунов, деловых ребят, хиляков, погорельцев, банкротов, забавников, форточников, мазуриков и домушников, – перечисление всех утомило бы самого Гомера. В центре конклава мазуриков и домушников можно было с трудом различить короля Арго, великого кесаря, сидевшего на корточках в маленькой тележке, которую тащили две большие собаки. Вслед за подданными короля Арго шли люди царства галилейского. Впереди бежали дерущиеся и выплясывающие пиррический танец скоморохи, за ними величаво выступал Гильом Руссо, царь галилейский, облаченный в пурпурную, залитую вином хламиду, окруженный своими жезлоносцами, клевретами и писцами счетной палаты. Под звуки достойной шабаша музыки шествие замыкала корпорация судебных писцов в черных мантиях, несших украшенные цветами «майские ветви» и большие желтые восковые свечи. В самом центре этой толпы высшие члены братства шутов несли на плечах носилки, на которых было наставлено больше свечей, чем на реке Св. Женевьевы во время эпидемии чумы. А на этих носилках, облаченный в мантию, в митре, с посохом в руке, блистал вновь избранный папа шутов – звонарь Собора Парижской Богоматери Квазимодо-горбун.
У каждого отряда этой причудливой процессии была своя, особая музыка. Цыгане били в свои балафосы и африканские тамбурины. Народ «арго», весьма мало музыкальный, все еще придерживался виолы, пастушьего рожка и старинной рюбебы XII столетия. Царство галилейское не намного опередило их в этом отношении: в его оркестре с трудом можно было различить звук жалкой ребеки – скрипки младенческой поры искусства, имевшей всего три тона. Зато все музыкальное богатство эпохи разворачивалось в великолепной какофонии, звучащей вокруг папы шутов. И все же оно заключалось лишь в ребеках верхнего, среднего и нижнего регистров, если не считать множества флейт и медных инструментов. Увы! Нашим читателям уже известно, что это был оркестр Гренгуара.
Трудно изобразить выражение той гордой и набожной радости, которая все время, пока процессия двигалась от дворца к Гревской площади, освещала безобразное и печальное лицо Квазимодо. Впервые испытывал он восторг удовлетворенного самолюбия. До сей поры он знавал лишь унижение, презрение к своему званию и отвращение к своей особе. Невзирая на глухоту, он, словно истый папа, смаковал приветствия толпы, которую ненавидел за ее ненависть к себе. Нужды нет, что его народ был лишь сбродом шутов, калек, воров и нищих! Все же это был народ, а он его властелин. И он принимал за чистую монету эти иронические рукоплескания, эти озорные знаки почтения, к которым примешивалась, однако следует в этом сознаться, немалая толика подлинного страха. Ибо горбун был силен, ибо кривоногий был ловок, ибо глухой был свиреп – три качества, укрощавшие насмешников.
Но едва ли вновь избранный папа шутов отдавал себе ясный отчет в тех чувствах, которые испытывал он сам, и в тех, какие внушал другим. Дух, обитавший в его убогом теле, был столь же убог и несовершенен. Поэтому все, что переживал горбун в эти мгновения, оставалось для него неопределенным, сбивчивым и смутным. Только радость пронизывала его все сильнее, и все больше овладевало им чувство гордости. Его жалкое и угрюмое лицо, казалось, излучало сияние.
И вдруг, к изумлению и ужасу толпы, в ту минуту, как опьяненного величием Квазимодо торжественно проносили мимо Дома с колоннами, к нему из толпы бросился какой-то человек и гневным движением вырвал у него из рук деревянный позолоченный посох – знак его шутовского папского достоинства.