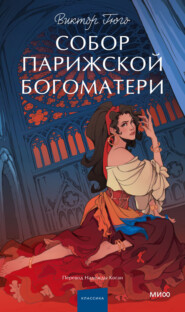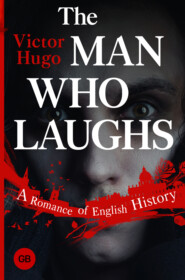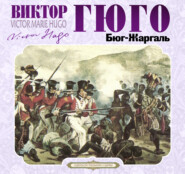По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собор Парижской Богоматери
Автор
Жанр
Год написания книги
1831
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Относились ли эти слова хвалебного гимна к Пречистой Деве или к соломенному тюфяку – это для нас осталось невыясненным.
Едва успел он сделать несколько шагов по этой длинной, отлогой, немощеной и чем дальше, тем все более грязной и крутой уличке, как заметил нечто весьма странное. Улица отнюдь не была пустынна: то тут, то там вдоль нее тащились какие-то неясные, бесформенные фигуры, направляясь к мерцавшему в конце ее огоньку, подобно неповоротливым насекомым, которые ночью ползут к костру пастуха, перебираясь со стебелька на стебелек.
Ничто не делает человека столь склонным к рискованным предприятиям, как ощущение невесомости своего кошелька. Гренгуар продолжал подвигаться вперед и вскоре нагнал ту из этих гусениц, которая ползла медленнее других. Приблизившись к ней, он увидел, что это был жалкий калека, который передвигался, подпрыгивая на руках, словно раненый паук-сенокосец, у которого только и осталось что две ноги. Когда Гренгуар проходил мимо паукообразного существа с человечьим лицом, оно жалобно затянуло:
– La buona mancia, signor! La buona mancia![81 - Подайте, синьор! Подайте! (ит.)]
– Чтоб черт тебя побрал, да и меня вместе с тобой, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты там бормочешь! – сказал Гренгуар и пошел дальше.
Нагнав еще одну из этих бесформенных движущихся фигур, он внимательно оглядел ее. Это был калека, колченогий и однорукий одновременно и настолько изувеченный, что сложная система костылей и деревяшек, поддерживавших его, придавала ему сходство с движущимися подмостками каменщика. Гренгуар, имевший склонность к благородным и классическим сравнениям, мысленно уподобил его живому треножнику Вулкана.
Этот живой треножник, поравнявшись с ним, поклонился ему, но, сняв шляпу, он тут же подставил ее, словно чашку для бритья, к самому подбородку Гренгуара и оглушительно крикнул:
– Senor caballero, para comprar un pedazo de pan![82 - Сеньор, подайте на кусок хлеба! (исп.)] «И этот тоже как будто разговаривает, но на очень странном наречии. Он счастливее меня, если понимает его», – подумал Гренгуар.
Тут его мысли приняли иное направление, и, хлопнув себя по лбу, он пробормотал:
– Кстати, что они хотели сказать сегодня утром словом «Эсмеральда»?
Он ускорил шаг, но нечто в третий раз преградило ему путь. Это нечто или, вернее, некто был бородатый, низенький слепец еврейского типа, который греб своей палкой, как веслом; его тащила на буксире большая собака. Слепец прогнусавил с венгерским акцентом:
– Facitote caritatem![83 - Подайте милостыню! (лат.)]
– Слава Богу! – заметил Гренгуар. – Наконец-то хоть один говорит человеческим языком. Видно, я кажусь очень добрым, если, несмотря на мой тощий кошелек, у меня все же просят милостыню. Друг мой, – и он повернулся к слепцу, – на прошлой неделе я продал мою последнюю рубашку, или, говоря на языке Цицерона, так как никакого иного ты, по-видимому, не понимаешь: vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam chemisam[84 - На прошлой неделе я продал свою последнюю рубашку (лат.). Следовало бы сказать: «camisiam», а не «chemisam».]. это, Гренгуар повернулся спиной к нищему и продолжал свой путь. Но вслед за ним прибавил шагу и слепой; тогда и паралитик и безногий поспешили за Гренгуаром, громко стуча по мостовой костылями и деревяшками. Потом все трое, преследуя его по пятам и натыкаясь друг на друга, завели свою песню:
– Caritatem!..[85 - Милостыню! (лат.)] – начинал слепой.
– La buona mancia!..[86 - Подайте! (ит.)] – подхватывал безногий.
– Un pedazo de pan![87 - Кусок хлеба! (исп.)] – заканчивал музыкальную фразу паралитик.
Гренгуар заткнул уши.
– Да это столпотворение вавилонское! – воскликнул он и бросился бежать. Побежал слепец. Побежал паралитик. Побежал и безногий.
И по мере того как он углублялся в переулок, вокруг него все возрастало число безногих, слепцов, паралитиков, хромых, безруких, кривых и покрытых язвами прокаженных: одни выползали из домов, другие из смежных переулков, а кто из подвальных дыр, и все, рыча, воя, визжа, спотыкаясь, по брюхо в грязи, словно улитки после дождя, устремлялись к свету.
Гренгуар, по-прежнему сопровождаемый своими тремя преследователями, растерявшись и не слишком ясно отдавая себе отчет в том, чем все это может окончиться, шел вместе с другими, обходя хромых, перескакивая через безногих, увязая в этом муравейнике калек, как судно некоего английского капитана, которое завязло в косяке крабов.
Он попробовал повернуть обратно, но было уже поздно. Весь этот легион, с тремя нищими во главе, сомкнулся позади него. И он продолжал идти вперед, понуждаемый непреодолимым напором этой волны, объявшим его страхом, а также своим помраченным рассудком, которому все происходившее представлялось каким-то ужасным сном.
Он достиг конца улицы. Она выходила на обширную площадь, где в смутном ночном тумане были рассеяны тысячи мерцающих огоньков. Гренгуар бросился туда, надеясь, что проворные ноги помогут ему ускользнуть от трех вцепившихся в него жалких привидений.
– Onde vas, hombre?[88 - Куда бежишь, человек? (исп.)] – окликнул его паралитик и, отшвырнув костыли, помчался за ним, обнаружив пару самых здоровенных ног, которые когда-либо мерили мостовую Парижа.
Неожиданно встав на ноги, безногий нахлобучил на Гренгуара свою круглую железную чашку, а слепец глянул ему в лицо сверкающими глазами.
– Где я? – спросил поэт, ужаснувшись.
– Во Дворе чудес, – ответил нагнавший его четвертый призрак.
– Клянусь душой, это правда! – воскликнул Гренгуар. – Ибо я вижу, что слепые прозревают, а безногие бегают. Но где же Спаситель?
В ответ послышался зловещий хохот.
Злополучный поэт оглянулся кругом. Он и в самом деле очутился в том страшном Дворе чудес, куда в такой поздний час никогда не заглядывал ни один порядочный человек; в том магическом круге, где бесследно исчезали городские стражники и служители Шатле, осмелившиеся туда проникнуть; в квартале воров – омерзительной бородавке на лице Парижа; в клоаке, откуда каждое утро вырывался и куда каждую ночь вливался обратно выступавший из берегов столичных улиц гниющий поток пороков, нищенства и бродяжничества; в том чудовищном улье, куда каждый вечер слетались со своей добычей трутни общественного строя; в том своеобразном госпитале, где цыган, расстрига монах, развратившийся школяр, негодяи всех национальностей – испанской, итальянской, германской, всех вероисповеданий – иудейского, христианского, магометанского и языческого, покрытые язвами, сделанными кистью и красками, и просившие милостыню днем, превращались ночью в разбойников. Словом, он очутился в громадной гардеробной, где в ту пору одевались и раздевались все лицедеи бессмертной комедии, которую грабеж, проституция и убийство играют на мостовых Парижа.
Это была обширная площадь неправильной формы и дурно вымощенная, как и все площади того времени. Там и сям на ней горели костры, вокруг которых кишели странные кучки людей. Люди эти уходили, приходили, шумели. Слышался пронзительный смех, хныканье ребят, голоса женщин. Руки и головы этой толпы тысячью черных причудливых силуэтов вычерчивались на светлом фоне костров. Изредка там, где, сливаясь со стелющимися по земле темными гигантскими тенями, дрожал отблеск огня, можно было различить пробегавшую собаку, похожую на человека, и человека, похожего на собаку. В этом городе, как в Пандемониуме[89 - Пандемониум – столица ада в поэме английского поэта Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай» (1667).], казалось, стерлись все видовые и расовые границы. Мужчины, женщины и животные, возраст, пол, здоровье и недуги – все в этой толпе казалось общим, все делалось согласно; все слилось, перемешалось, наслоилось одно на другое, и на каждом лежал какой-то общий для всех отпечаток.
Несмотря на свою растерянность, Гренгуар при колеблющемся и слабом отсвете костров мог разглядеть вокруг всей огромной площади мерзкое обрамление, образуемое ветхими домами, фасады которых, источенные червями, покоробленные и жалкие, пронзенные каждый одним или двумя освещенными слуховыми оконцами, в темноте казались ему собравшимися в кружок огромными старушечьими головами, чудовищными и хмурыми, которые, мигая глазами, смотрели на шабаш.
То был какой-то новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, пресмыкающийся, копошащийся, неправдоподобный.
Все сильнее цепенея от страха, схваченный, как в тиски, тремя нищими, оглушенный блеющей и лающей вокруг него толпой, злополучный Гренгуар пытался собраться с мыслями и припомнить, не суббота ли нынче. Но усилия его были тщетны, нить его сознания и памяти была порвана, и, сомневаясь во всем, колеблясь между тем, что видел, и тем, что чувствовал, он задавал себе неразрешимый вопрос: «Если я существую, существует ли все окружающее? Если существует все окружающее, существую ли я?»
В это время среди шума и гама окружавшей его толпы раздался отчетливый крик:
– Отведем его к королю! Отведем его к королю!
– Пресвятая Дева, – пробормотал Гренгуар, – я уверен, что здешний король – козел.
– К королю, к королю! – повторила толпа.
Его поволокли. Каждый старался вцепиться в него. Но трое нищих не упускали добычу. «Он наш!» – рычали они, вырывая его из рук остальных. Камзол поэта, и без того дышавший на ладан, в этой борьбе испустил последнее дыхание.
Пересекая ужасную площадь, он почувствовал, что его мысли прояснились. Вскоре ощущение реальности вновь вернулось к нему, и он стал привыкать к окружающей обстановке. Вначале фантазия поэта, а может быть, самая простая и прозаическая причина – его голодный желудок породили словно дымку, словно отделивший его от окружающего туман, сквозь который он различал все лишь в несвязных сумерках кошмара, во мраке сновидений, придающих зыбкость контурам, искажающих формы, скучивающих предметы в груды непомерной величины, превращая вещи в химеры, а людей – в призраки.
Постепенно эта галлюцинация уступила место впечатлениям менее сбивчивым и менее преувеличенным. Вокруг него как бы начало светать; действительность била ему в глаза, она лежала у его ног и мало-помалу разрушала всю ту ужасающую поэзию, которая, казалось ему, окружала его. Ему пришлось убедиться, что перед ним не Стикс[90 - Стикс – одна из рек подземного царства, в котором обитали души умерших (др. – гр. миф.).], а грязь, что его обступили не демоны, а воры, что дело идет не о его душе, а попросту о его жизни (ибо у него не было денег – этого драгоценного посредника мира, который столь успешно становится между честным человеком и бандитом). Наконец, вглядевшись поближе и с большим хладнокровием в эту оргию, он понял, что попал не на шабаш, а в кабак.
Двор чудес и был кабак, но кабак разбойников, весь залитый не только вином, но и кровью.
Когда одетый в лохмотья конвой доставил его наконец к цели их путешествия, то представившееся его глазам зрелище отнюдь не было способно вновь вернуть его к поэтическому настроению: оно было лишено даже поэзии ада. То была самая настоящая прозаическая и грубая действительность питейного дома. Если бы дело происходило не в XV столетии, то мы сказали бы, что Гренгуар от Микеланджело спустился до Калло.
Вокруг большого костра, пылавшего на широкой круглой каменной плите и лизавшего своими огненными языками раскаленные ножки порожнего в эту минуту тагана, было кое-как расставлено несколько трухлявых столов, и, очевидно, без участия какого-либо опытного лакея, иначе он позаботился бы о том, чтобы они стояли параллельно или по крайней мере не соприкасались под таким острым углом. На столах поблескивали кружки, мокрые от вина и браги, а вокруг этих кружек собралось множество пьяных физиономий, раскрасневшихся от вина и огня. Тут толстопузый весельчак звонко целовал обрюзгшую, дебелую девку. Там «забавник» – на воровском жаргоне нечто вроде самозваного солдата, – посвистывая, снимал тряпицы со своей фальшивой раны и разминал здоровое крепкое колено, запеленутое с утра в тысячу бинтов, а какой-то хиляк, наоборот, подготавливал для себя назавтра из чистотела и бычачьей крови «христовы язвы» на ноге. Через два стола от них «святоша», одетый в полное облачение паломника, монотонно гнусил «тропарь Царицы Небесной». Неподалеку неопытный припадочный брал уроки падучей у опытного эпилептика, который учил его, как, жуя кусок мыла, можно вызвать пену на губах. Здесь же страдающий водянкой освобождался от своих мнимых отеков, и сидевшие за тем же столом четыре или пять воровок, пререкавшихся из-за украденного вечером ребенка, вынуждены были зажать себе носы.
Все эти чудеса два века спустя, по словам Соваля, казались столь занятными при дворе, что были, для потехи короля, изображены во вступлении к балету «Ночь» в четырех актах, поставленному в театре Пти-Бурбон. «Никогда еще, – добавляет очевидец, присутствовавший при этом в 1653 году, – внезапные метаморфозы Двора чудес не были воспроизведены столь удачно. Изящные стихи Бенсерада подготовили нас к представлению».
Повсюду слышались раскаты грубого хохота и непристойные песни. Люди судачили, ругались, твердили свое, не слушая соседей, чокались кружками, а под их стук вспыхивали ссоры, и тогда драчуны разбитыми кружками рвали друг на друге рубища.
Большая собака, сидя у костра поджав хвост, пристально глядела на огонь. При этой оргии присутствовало несколько детей. Украденный ребенок плакал и кричал. Другой, четырехлетний карапуз, молча сидел на высокой скамье, свесив ножки под стол, доходивший ему до подбородка. Еще один степенно размазывал пальцем по столу оплывающее со свечи сало. Наконец, четвертый, совсем крошка, сидел в грязи, еле видный из-за котла, который он скреб черепицей, извлекая из него звуки, от коих Страдивариус[91 - Страдивариус (Страдивари Антонио, ок. 1643–1737) – знаменитый итальянский мастер смычковых инструментов.] упал бы в обморок.
Возле костра возвышалась бочка, а на бочке восседал нищий. Это был король на своем троне.
Трое бродяг, державших Гренгуара, подтащили его к бочке, и на одну минуту дикий разгул затих, только ребенок продолжал скрести в котле.
Гренгуар не осмеливался ни вздохнуть, ни взглянуть.
– Hombre, quita ta sombrero![92 - Шляпу долой, человек! (исп.)] – сказал один из трех плутов, завладевших им, и, прежде чем Гренгуар успел сообразить, что это могло означать, с него стащили шляпу. Это была плохонькая шляпенка, но еще пригодная и в солнце и в дождь. Гренгуар вздохнул.