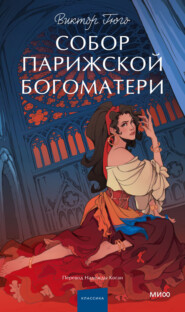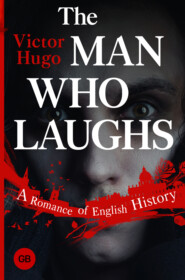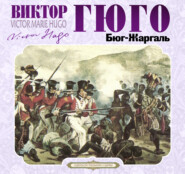По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собор Парижской Богоматери
Автор
Жанр
Год написания книги
1831
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я даже не знаю, как тебя зовут.
– Извольте! Пьер Гренгуар.
– Я знаю более красивое имя.
– Злая! – сказал поэт. – Но пусть так, я не буду сердиться. Послушайте, может быть, вы полюбите меня, узнав поближе. Вы с таким доверием рассказали мне свою историю, что я должен отплатить вам тем же. Итак, вам уже известно, что мое имя Пьер Гренгуар. Я сын сельского нотариуса из Гонеса. Двадцать лет тому назад, во время осады Парижа, отца моего повесили бургундцы, а мать мою зарезали пикардийцы. Таким образом, шести лет я остался сиротой, и подошвой моим ботинкам служили лишь мостовые Парижа. Не знаю сам, как мне удалось прожить с шести до шестнадцати лет. То торговка фруктами давала мне сливу, то булочник бросал корочку хлеба; по вечерам я старался, чтобы меня подобрал на улице ночной дозор: меня отводили в тюрьму, и там я находил для себя охапку соломы. Однако все это не мешало мне расти и худеть, как видите. Зимою я грелся на солнышке у подъезда особняка де Сане, недоумевая, почему костры Иванова дня зажигают летом. В шестнадцать лет я решил выбрать себе профессию. Одно за другим я испробовал все. Я пошел в солдаты, но оказался недостаточно храбрым. Затем я сделался монахом, но оказался недостаточно набожным, и, кроме того, я не умел пить. Тогда с отчаяния я поступил в обучение к плотникам, но оказался слишком слабосильным. Больше всего мне хотелось стать школьным учителем; правда, грамоты я не знал, но это меня не смущало. Убедившись через некоторое время, что для всех этих занятий мне чего-то не хватает и что я ни к чему не пригоден, я, следуя своему влечению, стал сочинять стихи и песни. Это ремесло как раз годится для бродяг, и это все же лучше, чем промышлять грабежом, на что меня подбивали некоторые вороватые парнишки из числа моих приятелей. К счастью, я однажды встретил преподобного отца Клода Фролло, архидьякона собора Парижской Богоматери. Он принял во мне участие, и ему я обязан тем, что стал по-настоящему образованным человеком, знающим латынь, начиная с книги Цицерона «Об обязанностях» и кончая «Житиями святых», творением отцов-целестинцев. Я кое-что смыслю в схоластике, пиитике, стихосложении и даже в алхимии, этой премудрости из всех премудростей. Я автор той мистерии, которая сегодня с таким успехом и при таком громадном стечении народа была представлена в переполненной большой зале Дворца. Я написал также труд в шестьсот страниц о страшной комете 1465 года, из-за которой один несчастный сошел с ума. На мою долю выпадали и другие успехи. Будучи несколько сведущ в артиллерийском деле, я работал над сооружением той огромной бомбарды Жеана Mora, которая, как вам известно, взорвалась на мосту Шарантон, когда ее хотели испробовать, и убила двадцать четыре человека зевак. Итак, вы видите, что я для вас неплохая партия. Я знаю множество весьма забавных штучек, которым могу научить вашу козочку, – например, передразнивать парижского епископа, этого проклятого святошу, мельницы которого обдают грязью прохожих на всем протяжении Мельничного моста. А потом я получу за свою мистерию большие деньги звонкой монетой, если мне за нее заплатят. Словом, я весь к вашим услугам: и я, и мой ум, и мои знания, и моя ученость; я готов жить с вами так, как вам будет угодно, мадемуазель, – в целомудрии или в веселии: как муж с женою, буде вам то понравится, или как брат с сестрой, если вы это предпочтете.
Гренгуар умолк, выжидая, какое впечатление его речь произведет на молодую девушку. Глаза ее были опущены.
– Феб, – промолвила она вполголоса и, обернувшись к поэту, спросила: – Что означает слово «Феб»?
Гренгуар, хоть и не очень хорошо понимавший, какое отношение этот вопрос имел к тому, что он только что говорил, был все же не прочь блеснуть своей ученостью и, приосанившись, ответил:
– Это латинское слово, оно означает «солнце».
– Солнце! – повторила цыганка.
– Так звали прекрасного стрелка, который был богом, – присовокупил Гренгуар.
– Богом! – повторила она с каким-то мечтательным и страстным выражением.
В эту минуту один из ее браслетов расстегнулся и упал. Гренгуар быстро наклонился, чтобы поднять его. Когда он выпрямился, молодая девушка и козочка уже исчезли. Он услышал, как щелкнула задвижка. Маленькая дверь, ведущая, по-видимому, в соседнюю каморку, заперлась изнутри.
«Оставила ли она мне хоть постель?» – подумал наш философ.
Он обошел каморку. Единственной мебелью, пригодной для спанья, был довольно длинный деревянный ларь; но его крышка была резной работы, и это заставило Гренгуара, когда он на нем растянулся, испытать ощущение, подобное тому, какое испытал Микромегас[100 - Микромегас – великан из одноименной повести (1752) великого французского писателя и философа-просветителя Вольтера (настоящее имя – Мари Франсуа Аруэ, 1694–1778).], улегшись во всю длину на Альпах.
– Делать нечего, – сказал он, устраиваясь поудобней на этом ложе, – приходится смириться. Однако какая странная брачная ночь! А жаль! В этой свадьбе с разбитой кружкой было нечто наивное и допотопное, что мне понравилось.
Книга третья
I
Собор Богоматери
Несомненно, собор Парижской Богоматери еще и доныне является благородным и величественным зданием. Но каким бы прекрасным собор, дряхлея, ни оставался, нельзя не скорбеть и не возмущаться при виде тех бесчисленных разрушений и повреждений, которым и годы и люди одновременно подвергли этот почтенный памятник старины, без малейшего уважения к имени Карла Великого, заложившего первый его камень, и к имени Филиппа-Августа, положившего последний.
На челе этого старейшего патриарха наших соборов рядом с морщиной неизменно видишь шрам. Tempus edax, homo edacior[101 - Время прожорливо, человек еще прожорливей (лат.).], что я охотно перевел бы таким образом: «Время слепо, а человек невежествен».
Если бы у нас с читателем хватило досуга проследить один за другим все те следы разрушения, которые отпечатались на этом древнем храме, мы бы заметили, что доля времени здесь ничтожна, что наибольший вред нанесли люди, и главным образом люди искусства. Я вынужден упомянуть о «людях искусства», ибо в течение двух последних столетий к их числу принадлежали личности, присвоившие себе звание архитекторов.
Прежде всего – чтобы ограничиться лишь немногими наиболее значительными примерами – следует указать, что вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какой является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала; над ними – зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дьяконом и иподьяконом; высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, несущая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые одни над другими в пять гигантских ярусов, безмятежно в бесконечном разнообразии разворачивают перед глазами свои бесчисленные скульптурные, резные и чеканные детали, могуче и неотрывно сливающиеся со спокойным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа; единое и сложное, подобно «Илиаде» и «Романсеро», которым оно родственно; чудесный результат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника; одним словом, это творение рук человеческих могуче и изобильно, подобно творению Бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность.
То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему собору в целом; а то, что мы говорим о кафедральном соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквах Средневековья. Все в этом искусстве, возникшем само собою, последовательно и соразмерно. Смерить один палец ноги гиганта – значит определить размеры всего его тела.
Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он нам представляется, когда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный собор, который, по словам его летописцев, наводит страх – quoe mole sua terrorem incutit spectantibus[102 - Который своею громадой повергает в ужас зрителей (лат.).].
Ныне в его фасаде недостает трех важных частей: прежде всего крыльца с одиннадцатью ступенями, приподнимавшего его над землей; затем нижнего ряда статуй, занимавших ниши трех порталов; и, наконец, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших двадцать восемь древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом-Августом, с королевскою державою в руке.
Время, поднимая медленно и неудержимо уровень почвы Ситэ, заставило исчезнуть лестницу. Но, дав поглотить все растущему приливу парижской мостовой одну за другой эти одиннадцать ступеней, усиливавших впечатление величавой высоты этого здания, время же вернуло собору, быть может, больше, нежели отняло: оно придало его фасаду тот темный колорит веков, который претворяет преклонный возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты.
Но кто низвергнул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто вырубил посреди центрального портала эту новую незаконную стрельчатую арку? Кто отважился поместить туда эту безвкусную, тяжелую резную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками Бискорнета? Люди, архитекторы, художники наших дней.
А внутри храма – кто поверг ниц исполинскую статую святого Христофора, столь же прославленную среди статуй, как большая зала Дворца правосудия среди других зал, как шпиц Страсбургского собора среди колоколен? Кто столь грубо изгнал из храма мириады статуй, которые населяли все промежутки между колоннами нефа и хоров, – статуи коленопреклоненные, стоящие во весь рост, конные, статуи мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, каменные, мраморные, золотые, серебряные, медные, даже восковые? Уж никак не время.
А кто подменил древний готический алтарь, пышно уставленный раками и ковчежцами, этим тяжелым каменным саркофагом, разукрашенным головами херувимов и облаками, похожим на попавший сюда архитектурный образчик церкви Валь-де-Грас или Дома инвалидов? Кто столь нелепо вделал в плиты карловингского пола, работы Эркандуса, этот тяжелый каменный анахронизм? Не Людовик ли XIV, исполнивший пожелание Людовика XIII?
Кто заменил холодным белым стеклом цветные витражи, поочередно притягивавшие восхищенный взор наших предков то к розетке главного портала, то к стрельчатым окнам алтаря? И что сказал бы какой-нибудь причетник XIV века, увидев эту потрясающую желтую замазку, которой наши вандалы архиепископы запачкали собор? Он вспомнил бы, что именно этой краской палач отмечал дома осужденных законом; он вспомнил бы отель Пти-Бурбон, в ознаменование измены коннетабля также вымазанный той самой желтой краской, которая, по словам Соваля, была «столь крепкой и доброкачественной, что еще более ста лет сохраняла свою свежесть». Причетник решил бы, что святой храм осквернен, и в ужасе бежал бы.
А если мы, минуя тысячу мелких проявлений варварства, поднимемся на самый верх собора, то спросим себя: что сталось с той очаровательной колоколенкой, опиравшейся на точку пересечения свода, столь же хрупкой и столь же смелой, как и ее сосед, шпиц[103 - Шпиц – то же самое, что и шпиль (устар.).] Сент-Шапель (тоже снесенный)? Стройная, остроконечная, звонкая, ажурная, она, далеко опережая башни, так легко вонзалась в ясное небо! Один архитектор (1787), обладавший непогрешимым вкусом, ампутировал ее, а чтобы скрыть рану, счел вполне достаточным наложить на нее этот свинцовый пластырь, напоминающий крышку котла.
Таково было отношение к дивным произведениям искусства Средневековья почти повсюду, особенно во Франции. На его руинах можно различить три вида более или менее глубоких повреждений: прежде всего бросаются в глаза те из них, что нанесла рука времени, там и сям неприметно выщербив и покрыв ржавчиной поверхность зданий; затем на них беспорядочно ринулись полчища политических и религиозных смут – слепых и яростных по своей природе, – которые растерзали роскошный скульптурный и резной наряд соборов, выбили розетки, разорвали ожерелья из арабесок и статуэток, уничтожили изваяния – одни за то, что те были в митрах, другие за то, что их головы венчали короны; довершили разрушения моды, все более вычурные и нелепые, сменявшиеся одна за другой при неизбежном упадке зодчества, после анархических, но великолепных отклонений эпохи Возрождения.
Моды нанесли больше вреда, чем революции. Они врезались в самую плоть средневекового искусства, они посягнули на самый его остов, они обкорнали, искромсали, разрушили, убили в здании его форму и символ, его смысл и красоту. Не довольствуясь этим, моды осмелились переделать его заново, на что все же не притязали ни время, ни революции. Считая себя непогрешимыми в понимании «хорошего вкуса», они бесстыдно разукрасили язвы памятника готической архитектуры своими жалкими недолговечными побрякушками, мраморными лентами, металлическими помпонами, медальонами, завитками, ободками, драпировками, гирляндами, бахромой, каменными языками пламени, бронзовыми облаками, дородными амурами и пухлыми херувимами, которые, подобно настоящей проказе, начинают пожирать прекрасный лик искусства еще в молельне Екатерины Медичи, а два века спустя заставляют это измученное и манерное искусство окончательно угаснуть в будуаре Дюбарри.
Итак, повторяем вкратце то, на что мы указывали ранее: троякого рода повреждения искажают облик готического зодчества. Морщины и наросты на поверхности – дело времени. Следы грубого насилия, выбоины, проломы – дело революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо… Увечья, ампутации, изменения в самом костяке здания, так называемые реставрации, – дело варварской работы подражавших грекам и римлянам ученых мастеров, жалких последователей Витрувия и Виньоля. Так великолепное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К векам, к революциям, разрушавшим по крайней мере беспристрастно и величаво, присоединилась туча присяжных зодчих, ученых, признанных, дипломированных, разрушавших сознательно и с разборчивостью дурного вкуса, подменяя, к вящей славе Парфенона[104 - Парфенон – мраморный храм богини Афины на Акрополе в Афинах, построенный в 447–438 гг. до н. э. Иктином и Калликратом под руководством Фидия, одно из величайших достижений мировой архитектуры.], кружева готики листьями цикория времен Людовика XV. Так осел лягает умирающего льва. Так засыхающий дуб точат, сверлят, гложут гусеницы.
Как далеко то время, когда Робер Сеналис, сравнивая собор Парижской Богоматери со знаменитым храмом Дианы в Эфесе[105 - Храм Дианы в Эфесе – точнее, храм Артемиды, возведенный вне стен города в IV в. до н. э., был причислен к семи чудесам света.], «столь прославленным язычниками» и обессмертившим Герострата[106 - Герострат – житель Эфеса, который, чтобы прославиться, по преданию, поджег храм Артемиды в 356 г. до н. э., в ночь рождения Александра Македонского (отсюда выражение «геростратова слава» – то есть позорная слава).], находил галльский собор «великолепней по длине, ширине, высоте и устройству»[107 - «История галликанской церкви», кн. 2, с. 130. (Примеч. авт.)].
Собор Парижской Богоматери не может быть, впрочем, назван законченным, цельным, имеющим определенный характер памятником. Это уже не храм романского стиля, но это еще и не вполне готический храм. Это здание промежуточного типа. Собор Парижской Богоматери не имеет, подобно Турнюсскому аббатству, той суровой, мощной ширины фасада, круглого и широкого свода, леденящей наготы, величавой простоты зданий, основоположением которых является круглая арка. Он не похож и на собор в Бурже, великолепное, легкое, многообразное по форме, пышное, все ощетинившееся остриями стрелок произведение готики. Невозможно причислить собор и к древней семье мрачных, таинственных, приземистых и как бы придавленных полукруглыми сводами церквей, напоминающих египетские храмы, за исключением их кровли, целиком эмблематических, жреческих, символических, орнаменты которых больше обременены ромбами и зигзагами, нежели цветами, больше цветами, нежели животными, больше животными, нежели людьми; являющихся творениями скорее епископов, чем зодчих; служивших примером первого превращения того искусства, насквозь проникнутого теократическим и военным духом, которое брало свое начало в Восточной Римской империи и дожило до времен Вильгельма Завоевателя. Невозможно также отнести наш собор и к другой семье церквей, высоких, воздушных, с изобилием витражей, смелых по рисунку; общинных и гражданских, как символы политики, свободных, прихотливых и необузданных, как творения искусства; служивших примером второго превращения зодчества, уже не эмблематического и жреческого, но художественного, прогрессивного и народного, начинающегося после крестовых походов и заканчивающегося в царствование Людовика XI. Таким образом, собор Парижской Богоматери не чисто романского происхождения, как первые, и не чисто арабского, как вторые.
Это здание переходного периода. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельчатый свод, вынесенный из крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные поддерживать лишь полукруглый свод. Нераздельно властвуя с той поры, стрельчатый свод определяет формы всего собора в целом. Неискушенный и скромный вначале, этот свод разворачивается, увеличивается, но еще сдерживает себя, не дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в небеса, как он сделал это впоследствии в стольких чудесных соборах. Его словно стесняет соседство тяжелых романских столбов.
Однако изучение этих зданий переходного периода от романского стиля к готическому столь же важно, как и изучение образцов чистого стиля. Они выражают собою тот оттенок в искусстве, который был бы для нас утрачен без них. Это – прививка стрельчатого свода к полукруглому.
Собор Парижской Богоматери и является примечательным образцом подобной разновидности. Каждая сторона, каждый камень почтенного памятника – это не только страница истории Франции, но и истории науки и искусства. Укажем здесь лишь на главные его особенности. В то время как малые Красные врата по своему изяществу почти достигают предела утонченности готического зодчества XV столетия, столбы нефа по объему и тяжести напоминают еще здание аббатства Сен-Жер-мен-де-Пре времен Каролингов, словно между временем сооружения врат и столбов лег промежуток в шестьсот лет. Все, даже герметики, находили в символических украшениях главного портала достаточно полный обзор своей науки, совершенным выражением которой являлась церковь Сен-Жак-де-ла-Бушри. Таким образом, романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII, символика герметиков, где Никола Фламель предшествовал Лютеру, единовластие Папы, раскол Церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Жак-де-ла-Бушри – все расплавилось, смешалось, слилось в соборе Парижской Богоматери. Эта главная церковь, церковь-прародительница, является среди древних церквей Парижа чем-то вроде Химеры: у нее голова одной церкви, конечности другой, торс третьей и что-то общее со всеми.
Повторяем, эти постройки смешанного стиля представляют немалый интерес и для художника, и для любителя древностей, и для историка. Подобно следам циклопических построек, пирамидам Египта и гигантским индусским пагодам, они дают почувствовать, насколько первобытно искусство зодчества, служа наглядным доказательством того, что крупнейшие памятники прошлого – это не столько творения отдельной личности, сколько целого общества; это скорее следствие творческих усилий народа, чем блистательная вспышка гения; это осадочный пласт, оставляемый после себя нацией; наслоения, отложенные веками; гуща, оставшаяся в результате последовательного испарения человеческого общества; одним словом, это своего рода органическая формация. Каждая волна времени оставляет на памятнике свой намыв, каждое поколение – свой слой, и каждая личность добавляет свой камень. Так поступают бобры, так поступают пчелы, так поступают и люди. Величайший символ зодчества, Вавилон, представлял собою улей.
Великие здания, как и высокие горы, – создания веков. Часто форма искусства успела уже измениться, а они все еще не закончены, pendent opera interrupta[108 - Стоят, прервавшись, работы (Вергилий) (лат.).]; тогда они спокойно принимают то направление, которое избрало искусство. Новое искусство берется за памятник в том виде, в каком его находит, отображается в нем, уподобляет его себе, продолжает согласно своей фантазии и, если может, заканчивает его. Это совершается спокойно, без усилий, без противодействия, следуя естественному, бесстрастному закону. Это черенок, который привился, это сок, который бродит, это растение, которое принялось. Поистине в этих последовательных спайках различных искусств на различной высоте одного и того же здания заключается материал для многих объемистых томов, а нередко и сама всемирная история человечества. Художник, личность, человек исчезают в этих огромных массах, не оставляя после себя имени творца; человеческий ум находит в них свое выражение и свой общий итог. Здесь время – зодчий, а народ – каменщик.
Рассматривая лишь европейское, христианское зодчество, этого младшего брата огромных каменных кладок Востока, мы видим пред собой исполинское образование, разделенное на три резко отличных друг от друга пояса: пояс романский[109 - Это то искусство, которое, в зависимости от местности, климата и населения, называется также ломбардским, саксонским и византийским. Эти четыре разновидности архитектуры родственны и существуют параллельно, хотя каждая из них отличается особым характером. В основе всех лежит полукруглый свод.«Все не на одно лицо, однако очень схожи» и т. д. (лат.) (Примеч. авт.)], пояс готический и пояс Возрождения, который мы охотно назовем греко-римским. Романский пласт, наиболее древний и глубокий, представлен полукруглым сводом, который вновь появляется перед нами в верхнем новом пласте эпохи Возрождения, поддерживаемый греческой колонной. Между ними лежит пласт стрельчатого свода. Здания, относящиеся только к одному из этих трех наслоений, совершенно отличны от других, законченны и едины. Таковы, например, аббатство Жюмьеж, Реймский собор, церковь Креста Господня в Орлеане. Но эти три пояса, как цвета в солнечном спектре, соединяются и сливаются по краям. Отсюда возникли памятники смешанного стиля, здания различных оттенков переходного периода. Среди них можно встретить памятник романский по своему основанию, готический – по средней части, греко-римский – по куполу. Это объясняется тем, что он строился шестьсот лет. Впрочем, подобная разновидность встречается редко. Образчиком такого здания служит главная башня замка Этамп. Чаще других встречаются памятники двух формаций. Таков собор Парижской Богоматери – здание со стрельчатым сводом, которое первыми своими столбами внедряется в тот же романский слой, куда погружены и портал Сен-Дени и неф церкви Сен-Жермен-де-Пре. Такова прелестная полуготическая зала капитула Бошервиля, до половины охваченная романским пластом. Таков кафедральный собор в Руане, который был бы целиком готическим, если бы острие его центрального шпиля не уходило в эпоху Возрождения[110 - Эта деревянная часть шпиля была уничтожена молнией в 1823 г. (Примеч. авт.)].
Впрочем, все эти оттенки и различия касаются лишь внешнего вида здания. Искусство меняет здесь только оболочку. Самое же устройство христианского храма остается незыблемым. Внутренний остов его все тот же, все то же последовательное расположение частей. Какой бы скульптурой и резьбой ни была разукрашена оболочка храма, под нею всегда находишь – хотя бы в зачаточном, начальном состоянии – римскую базилику. Она располагается на земле по непреложному закону. Это все те же два нефа, пересекающихся в виде креста, верхний конец которого, закругленный куполом, образует хоры; это все те же постоянные приделы для крестовых ходов внутри храма или для часовен – нечто вроде боковых проходов, с которыми центральный неф сообщается через промежутки между колоннами. На этой постоянной основе бесконечно варьируется число часовен, порталов, колоколен, шпилей, следуя за фантазией века, народа и искусства. Предусмотрев и обеспечив все правила церковного богослужения, зодчество в остальном поступает как ему вздумается. Изваяния, витражи, розетки, арабески, резные украшения, капители, барельефы – все это сочетает оно по своему вкусу и своим правилам. Отсюда проистекает изумительное внешнее разнообразие подобного рода зданий, в основе которых заключено столько порядка и единства. Ствол дерева – неизменен, листва – прихотлива.
II
Париж с птичьего полета
Мы попытались восстановить перед читателями чудесный собор Парижской Богоматери. Мы в общих чертах указали на те красоты, которыми он обладал в XV веке и которых ныне ему недостает, но мы опустили главное, а именно – картину Парижа, открывавшуюся с высоты его башен.
Когда после долгого восхождения ощупью по темной спирали лестницы, вертикально пронзающей массивные стены колоколен, вы внезапно вырывались на одну из высоких, полных воздуха и света террас, перед вами развертывалась со всех сторон великолепная панорама. То было зрелище sui generis[111 - Своеобразное (лат.).], о котором могут составить себе понятие лишь те из читателей, кому посчастливилось видеть какой-нибудь из еще сохранившихся кое-где готических городов во всей его целостности, завершенности и сохранности, как, например, Нюрнберг в Баварии, Витториа в Испании или хотя бы самые малые образцы таких городов, лишь бы они хорошо сохранились, вроде Витре в Бретани или Нордгаузена в Пруссии.
Париж триста пятьдесят лет тому назад, Париж XV столетия, был уже городом-гигантом. Мы, парижане, заблуждаемся относительно позднейшего увеличения площади, занимаемой Парижем. Со времен Людовика XI Париж вырос немногим более чем на одну треть и, несомненно, гораздо больше проиграл в красоте, чем выиграл в размере.
Как известно, Париж возник на древнем острове Ситэ, имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова был его первой границей, а Сена – первым рвом. В течение нескольких веков Париж существовал как остров с двумя мостами – одним на севере, другим на юге – и с двумя мостовыми башнями, служившими одновременно воротами и крепостями: Гран-Шатле на правом берегу и Пти-Шатле – на левом.
Позже, начиная со времен первой королевской династии, Париж, слишком стесненный на своем острове, не находя возможности развернуться на нем, перекинулся через реку. Первая ограда крепостных стен и башен врезалась в поля по обе стороны Сены за Гран-Шатле и Пти-Шатле. От этой древней ограды еще в прошлом столетии оставались кое-какие следы, но ныне от нее сохранилось лишь воспоминание, лишь несколько легенд о ней да ворота Боде, или Бодуайе, Porta Bagauda. Мало-помалу поток домов, непрестанно выталкиваемый из сердца города, перехлестнул через ограду, источил, разрушил и стер ее. Филипп-Август воздвигает ему новую плотину. Он со всех сторон заковывает Париж в цепь толстых башен, высоких и прочных. В течение целого столетия дома жмутся друг к другу, скопляются и, словно вода в водоеме, все выше поднимают свой уровень в этом бассейне. Они растут в глубь дворов, они нагромождают этажи на этажи, карабкаются друг на друга, они, подобно сжатой жидкости, устремляются вверх, и только тот из них дышал свободно, кому удавалось поднять голову выше соседа. Улицы все более и более углубляются и суживаются; площади застраиваются и исчезают. Наконец, дома перескакивают через ограду Филиппа-Августа и весело, вольно, вкривь и вкось, как вырвавшиеся на свободу узники, рассыпаются по равнине. Они выкраивают в полях сады, устраиваются с удобствами.