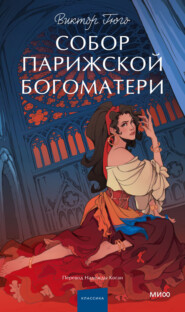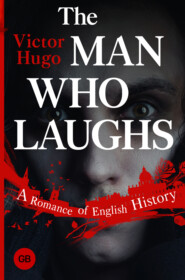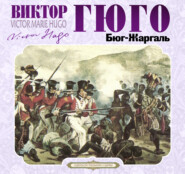По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отверженные
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава 1
1817 год
А год был годом, который Людовик XVIII с истинно королевским апломбом, не лишенным некоторой надменности, называл двадцать вторым годом своего царствования. То был год славы для г-на Брюгьера де Сорсум. Все парикмахерские заведения, уповая на возврат к пудре и к взбитым локонам, размалевали свои вывески лазурью и усеяли их геральдическими лилиями. То были наивные времена, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в церкви Сен-Жермен-де-Пре на почетной скамье церковного старосты в парадной одежде пэра Франции, с красной орденской лентой, привлекая к себе внимание длинным своим носом и тем величественным выражением лица, какое свойственно человеку, совершившему славный подвиг. Славный же подвиг г-на Линча заключался в следующем: будучи мэром города Бордо, он 12 марта 1814 года сдал город герцогу Ангулемскому несколько раньше, чем следовало. За это он и получил звание пэра. В 1817 году мода нахлобучила на головы маленьких мальчиков в возрасте от четырех до пяти лет огромные шапки из сафьяна с наушниками, сильно напоминавшие остроконечные колпаки эскимосов. Французская армия была одета в белое, на манер австрийской; полки именовались легионами; их уже не обозначали номерами, а присвоили им названия департаментов. Наполеон находился на острове Св. Елены, и, так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он перелицовывал свои старые мундиры. В 1817 году Пеллегрини пел, м-ль Биготтини танцевала; царил Потье; Одри еще не успел прославиться. Г-жа Саки заступила место Фориозо. Во Франции продолжали стоять пруссаки. Г-н Делало был важной особой. Законный порядок только что утвердился, отрубив руки, а потом и голову Пленье, Карбоно и Толерону. Обер-камергер князь Талейран и аббат Луи, которого прочили в министры финансов, смотрели друг на друга, подсмеиваясь, как два авгура; оба они 14 июля 1790 года отслужили торжественную мессу в праздник Федерации на Марсовом поле: Талейран в качестве епископа, а Луи в качестве дьякона. В 1817 году в боковых аллеях этого самого Марсова поля мокли под дождем и гнили в траве громадные деревянные столбы, выкрашенные в голубой цвет, с облупившимися изображениями орлов и пчел, с которых слезла позолота. Это были колонны, два года назад поддерживавшие трибуну императора на Майском собрании. Они почернели местами от бивуачных костров австрийцев, построивших свои бараки возле Гро-Кайу. Две-три такие колонны и вовсе превратились в пепел, обогревая ручищи кайзеровцев. Майское собрание было замечательно тем, что оно происходило на Марсовом поле, и не в мае, а в июне[16 - Игра слов, построенная на двойном смысле: Champ-de-Mai – Майское собрание (буквально – Майское поле) и Champ-de-Mars – Марсово поле (буквально – Мартовское поле).]. Двумя достопримечательностями этого 1817 года были: Вольтер, издания Туке, и табакерка с конституционной хартией. Последним событием, взволновавшим парижан, было преступление Дотена, который бросил голову своего брата в бассейн Цветочного рынка. В морском министерстве только что приступили к расследованию дела злополучного фрегата «Медуза», которое должно было покрыть позором Шомарея и славою – Жерико. Полковник Сельв отправился в Египет, чтобы стать там Сулейман-пашой. Дворец Терм на улице Лагарпа служил лавчонкой какому-то бочару. На площадке восьмиугольной башни особняка Клюни еще можно было видеть маленькую дощатую будку, которая во времена Людовика XVI заменяла обсерваторию Месье, астроному морского ведомства. Герцогиня Дюра в своем небесно-голубом будуаре, обставленном табуретами с крестообразными ножками, читала трем или четырем из своих друзей еще не изданную «Урику». В Лувре соскабливали отовсюду букву «Н». Аустерлицкий мост отрекся от своего имени и назвался мостом Королевского сада – двойная загадка, ибо в ней одновременно скрывались два прежних названия: Аустерлицкий мост и мост Ботанического сада. Людовик XVIII, по-прежнему читая Горация и делая ногтем пометки на полях, стал, однако, задумываться над судьбой героев, которые превращались в императоров, и башмачников, которые превращались в дофинов; у него было два источника тревоги: Наполеон и Матюрен Брюно. Французская академия объявила конкурс на тему: «Счастье, доставляемое занятиями наукой». Г-н Беллар блистал официальным красноречием. Под его сенью уже созревал будущий товарищ прокурора Броэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля-Луи Курье. Нашелся лже-Шатобриан в лице Маршанжи; лже-Маршанжи в лице д’Арленкура еще не появился. «Клара Альба» и «Малек-Адель» считались образцовыми произведениями; г-жа Коттен была провозглашена лучшим писателем современности. Французский институт вычеркнул из своих списков академика Наполеона Бонапарта. Весь Ангулем королевским указом был превращен в морское училище: ведь герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, и, следовательно, Ангулем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта, не то пострадал бы самый принцип монархической власти.
В совете министров обсуждался вопрос о том, можно ли допускать печатанье виньеток, которые изображали акробатические упражнения и, придавая особую остроту афишам Франкони, собирали перед ними целые толпы уличных мальчишек. Г-н Паэр, автор «Агнезы», добряк с квадратным лицом и бородавкой на щеке, дирижировал небольшими камерными концертами у маркизы де Сасене в улице Виль-л’Эвек. Все молодые девушки распевали «Сент-Авельского отшельника», текст которого был написан Эдмоном Жеро. Журнал «Желтый карлик» преобразился в «Зеркало». Кафе «Ламблен» стояло за императора в пику кафе «Валуа», стоявшему за Бурбонов. Герцога Беррийского, которого где-то во мраке уже подстерегал Лувель, только что женили на сицилийской принцессе. Прошел год со смерти г-жи де Сталь. Гвардейцы встречали свистками м-ль Марс. Большие газеты стали совсем маленькими. Формат их был ограничен, зато не ограничена свобода. Газета «Конституционалист» была действительно конституционной. «Минерва» писала фамилию Chateaubriand[17 - Шатобриан.] так: Chateaubriant. Эта буква t на конце вместо d вызывала у буржуа громкие насмешки над великим писателем. Бесчестные журналисты оскорбляли в продажных газетах изгнанников 1815 года: Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен; Сульт не выиграл ни одного сражения; Наполеон – и это правда – уже не был гениален. Ни для кого не секрет, что письма, адресованные по почте лицам, высланным за пределы Франции, очень редко до них доходили, ибо полиция считает своим священным долгом перехватывать их. Это факт далеко не новый; еще Декарт жаловался на него, находясь в изгнании. Когда Давид в одной из бельгийских газет высказал некоторое неудовольствие по поводу того, что не получает отправляемых ему писем, это показалось роялистской прессе весьма забавным, и она осыпала изгнанника насмешками. Одни говорили: «цареубийцы», а другие: «голосовавшие за казнь»; одни говорили: «враги», а другие: «союзники», одни говорили: «Наполеон», а другие: «Буонапарте», – и это разделяло людей, словно глубочайшая пропасть. Все здравомыслящие люди сходились на том, что эра революций была навсегда закончена королем Людовиком XVIII, прозванным «бессмертным автором хартии». На береговом откосе у Нового моста, на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали слово Redivivus[18 - Воскресший (лат.).]. Г-н Пье подготовлял в доме № 4 на улице Терезы тайное сборище с целью упрочить монархию. Ультрароялисты говорили в затруднительных случаях: «Надо написать Бако». Канюэль, О’Магони и де Шапделен, слегка поощряемые старшим братом короля, уже намечали то, чему впоследствии предстояло стать «Береговым заговором». Со своей стороны, общество «Черной булавки» тоже составляло заговор. Делавердри стакнулся с Троговым. Г-н Деказ, до некоторой степени либерал, господствовал над умами. Шатобриан стоял каждое утро у своего окна в доме № 27 по улице Сен-Доминик, в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, с шелковым платком на седой голове. Разложив перед собой целый набор инструментов дантиста, он, не отводя глаз от зеркала и заботливо осматривая свои прекрасные зубы, за которыми тщательно ухаживал, одновременно диктовал секретарю г-ну Пилоржу различные варианты «Монархии согласно хартии». Делавшая погоду критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. Де Фелец подписывался буквой А; Гофман – буквой Z. Шарль Нодье писал «Терезу Обер». Развод был упразднен. Лицеи назывались коллежами. Ученики коллежей, с золотой лилией на воротничках, тузили друг друга из-за римского короля. Дворцовая тайная полиция доносила ее королевскому высочеству герцогине Шартрской о том, что на выставленном повсюду портрете герцог Орлеанский в мундире гусарского генерал-полковника имел более молодцеватый вид, нежели герцог Беррийский в мундире драгунского полковника, – крупная неприятность.
Город Париж за свой счет обновил позолоту на куполе Дома инвалидов. Серьезные люди спрашивали друг у друга, как поступил бы в том или ином случае г-н де Тренкелаг; г-н Клозель де Монталь расходился в некоторых вопросах с г-ном Клозелем де Кусерг; г-н де Салабери был недоволен. Автор комедий Пикар, принятый в члены Академии, куда не мог попасть автор комедий Мольер, ставил пьесу «Два Филибера» в Одеоне, на фронтоне которого по следам сорванных букв было еще совсем нетрудно прочитать: «Театр императрицы». Одни высказывались за Кюнье де Монтарло, другие против. Фабвье был бунтовщиком; Баву был революционером. Книгопродавец Пелисье издавал Вольтера под следующим заголовком: «Сочинения Вольтера, члена Французской академии». «Это привлечет покупателей», – говорил сей наивный издатель. Общее мнение гласило, что г-н Шарль Луазон будет гением века; его уже начинала грызть зависть – признак славы, и про него написали такой стишок:
Луазон, воришка, плут,
Хоть в орла рядится он, —
Ножки сразу выдают,
Что гусенок – Луазон.
Так как кардинал Феш не пожелал добровольно отказаться от своих прав на Лионскую епархию, то ею теперь управлял де Пен, архиепископ Амазийский. Между Швейцарией и Францией возникли трения из-за Дапской долины, начавшиеся с докладной записки капитана Дюфура, впоследствии произведенного в генералы. Еще никому не ведомый Сен-Симон вынашивал величественную свою мечту. В Академии наук восседал знаменитый Фурье, теперь уже давно забытый потомством, а где-то на чердаке ютился другой, неизвестный Фурье, память о котором никогда не исчезнет. Уже начинала всходить звезда лорда Байрона; в примечании к одному из своих стихотворений Мильвуа возвестил о нем Франции, именуя его «неким лордом Байроном». Давид д’Анже делал уже попытки вдохнуть жизнь в мрамор. В узком кругу семинаристов, в безлюдном тупике Фельянтинок, аббат Карон с похвалой отзывался о неизвестном священнике Фелисите Робере, впоследствии превратившемся в Ламенне. Какая-то штука, которая дымила и пыхтела на Сене, издавая при этом такие же звуки, какие издает барахтающаяся в воде собака, сновала взад и вперед под окнами Тюильри от Королевского моста к мосту Людовика XV: это была никчемная механическая игрушка, выдумка пустоголового изобретателя, утопия – словом, это был пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту бесполезную затею. Г-н де Воблан, преобразовавший Французский институт с помощью государственного переворота, приказов и новых назначений, явился почтенным творцом нескольких академиков, но, совершив этот подвиг, сам так и не смог попасть в их число. Сен-Жерменское предместье и Марсанский павильон пожелали себе в префекты полиции г-на Делаво по причине его благочестия. Дюпюитрен и Рекамье бранились в анатомическом театре Медицинской школы и, споря о божественном происхождении Иисуса Христа, готовы были надавать друг другу тумаков. Кювье, глядя одним глазом в Книгу Бытия, а другим на природу, стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять Моисея. Франсуа де Нефшато, достойный почитатель памяти Пармантье, усердно хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успеха. Аббат Грегуар, бывший епископ, бывший член Конвента, бывший сенатор, был низведен роялистской полемикой в степень «презренного Грегуара». Оборот речи, который мы только что употребили: «низведен в степень», был объявлен неологизмом г-ном Руайе-Колларом. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить, по его белизне, новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанной Блюхером, собиравшимся взорвать мост пороховой миной. Правосудие посадило на скамью подсудимых человека, который, увидев входящего в собор Парижской Богоматери графа д’Артуа, громко сказал: «Черт возьми! Как мне жаль того времени, когда Бонапарт и Тальма под руку являлись на Бал дикарей». Крамольные речи; полгода тюрьмы. Изменники распоясались; люди, которые накануне сражения перешли на сторону врага, не скрывали полученных наград и бесстыдно разгуливали средь бела дня, цинично хвастаясь богатством и чинами; дезертиры, показавшие себя при Линьи и при Катр-Бра, обнажали свои продажные душонки и верноподданнические чувства, забыв слова, написанные на внутренней стенке общественных уборных в Англии: Please adjust your dress before leaving[19 - Перед уходом оправляйте одежду (англ.).].
Вот что вперемежку всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими своеобразными подробностями, и иначе поступить она не может: они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности, несправедливо называемые мелкими, – полезны, ибо для человечества нет чересчур мелких фактов, как для растительного мира нет чересчур мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и слагается облик столетий.
В этом-то 1817 году четверо юных парижан придумали «забавную шутку».
Глава 2
Двойной квартет
Парижане эти были: один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора и четвертый из Монтобана; но они были студенты, а студент – это парижанин: учиться в Париже – все равно что родиться в Париже.
Эти молодые люди ничего значительного собой не представляли, всякому случалось видеть им подобных; четыре образчика «первого встречного», не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки, все они пленяли очарованием того апреля, имя которому «двадцать лет». То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. «Воскурите для него благовония Аравии, – восклицал романс, – Оскар идет, я увижу Оскара!» Увлечение Оссианом еще не остыло; образцом изящества считались скандинавы и шотландцы; подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее, и первый из Артуров, Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоо.
Этих Оскаров звали: одного – Феликс Толомьес из Тулузы, второго – Листолье из Кагора, третьего – Фамейль из Лиможа и последнего – Блашвель из Монтобана. Разумеется, у каждого из них была любовница. Блашвель любил Фавуритку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию; Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название цветка; Фамейль боготворил Зефину – уменьшительное от Жозефины; Толомьес обладал Фантиной, прозванной Блондинкой за ее прекрасные волосы цвета солнца.
Фавуритка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц и не окончательно расставшиеся с иглой, немного выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах душевную ясность – спутницу труда, а в душе пушок невинности, которая у женщины переживает ее первое падение. Одну из четырех называли молодой, потому что она была младшей, а другую называли старухой. «Старухе» было двадцать три года. Чтобы ничего не утаить, сознаемся, что первые три были более опытны, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели Фантина-Блондинка, переживавшая пору своей первой иллюзии.
Далия, Зефина и в особенности Фавуритка не могли бы сказать о себе того же. Романтическая повесть их юности, едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод, и влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей в Гюстава. Бедность и кокетство – пагубные советчицы: первая брюзжит, а вторая льстит, и обе, каждая о своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате – падение, а потом и камни, которыми бросают в падших. Бедняжек подавляют блеском всего, что непорочно и неприступно. Увы, что сталось бы с Юнгфрау, если бы она испытала голод!
У Фавуритки, побывавшей в Англии, были две поклонницы – Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики, грубиян и любитель прихвастнуть, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидал однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку; этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась Фавуритка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старая женщина, на вид святоша, вошла к ней в комнату и сказала: «Вы меня не узнаете, барышня?» – «Нет». – «Я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфяком и водворилась у дочери. Эта мать, ворчунья и ханжа, ни о чем не говорила с Фавуриткой, часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а потом спускалась вниз посудачить с швейцаром, которому рассказывала гадости про свою дочь.
Причиной, которая свела Далию с Листолье, – а быть может, и не с одним Листолье, – и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. Что касается Зефины, то она завоевала Фамейля своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить: «Да, сударь».
Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами. Подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой.
Мудрость и целомудрие – вещи разные; доказательством этому служит то, что Фавуритка, Зефина и Далия – разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств – были девушками мудрыми, а Фантина – девушкой целомудренной.
«Целомудренной? – спросите вы. – А Толомьес?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любовью, любовью единственной и верной.
Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина.
Фантина принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в самых недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем челе печать безыменности и безвестности. Родилась она в городе Монрейле-Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца. Ее звали Фантиной. Почему Фантиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала Директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи; у нее не было имени, которое обычно дают при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли малюткой Фантиной. И это было все, что о ней знали. Так вступило в жизнь это человеческое существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась в Париж «искать счастья». Фантина была красива и оставалась непорочной так долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото – на головке, а жемчуг – во рту.
Она работала, чтобы жить; потом – тоже для того, чтобы жить, – она полюбила, ибо существует и сердечный голод.
Она полюбила Толомьеса.
Для него – любовное похождение, для нее – истинная страсть. Улицы Латинского квартала, кишащие толпами студентов и гризеток, видели начало ее грезы. Фантина в этом лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала Толомьеса, но так, что каким-то образом везде встречала его. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идиллия началась.
Блашвель, Листолье и Фамейль составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьес. Он-то и был умнее их всех.
Толомьес олицетворял уже исчезающий тип старого студента; это был богач с четырьмя тысячами франков ренты; четыре тысячи франков ренты – скандально много для горы Св. Женевьевы. Толомьес был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубый; кроме того, у него намечалась лысина, о которой сам он говорил без тени грусти: «В тридцать лет плешь, а в сорок – колено». У него плохо варил желудок и с некоторых пор начал слезиться один глаз. Но по мере того как угасала его молодость, он разжигал свою веселость; зубы он заменил остротами, волосы – жизнерадостностью, здоровье – иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. Его молодость, которая снялась с лагеря намного раньше срока, отступала в полном порядке, покатываясь со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр «Водевиль». Время от времени он пописывал посредственные стишки. А главное, он высокомерно сомневался во всем на свете – великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. Iron – по-английски значит железо. Не от него ли произошло и слово ирония?
Однажды Толомьес отвел в сторону остальных трех членов компании и с загадочным видом сказал им:
– Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фавуритка просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, и особенно мне. Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию: «Faccia gialluta, fa о miracolo! – Желтолицый, сотвори чудо!» – так и наши красотки беспрестанно твердят мне: «Толомьес, когда же ты разрешишься своим сюрпризом?» В то же самое время наши родители шлют нам бесконечные письма. Словом, пилят с обеих сторон. Мне кажется, что время пришло. Давайте потолкуем.
Тут Толомьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха одновременно вырвался из всех четырех глоток, и Блашвель вскричал: «Вот так мысль!»
По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма, они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец совещания.
Следствием этого темного дела явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц.
Глава 3
Четыре пары
В наше время мы плохо представляем себе, чем была загородная прогулка студентов и гризеток сорок пять лет назад. Окрестности Парижа сейчас совсем не те; за полвека облик так называемой «околопарижской» жизни совершенно преобразился; прежняя двуколка сменилась вагоном, пакетбот – пароходом, и сегодня съездить в Фекан так же просто, как в Сен-Клу. Париж 1862 года – город, предместьем которого является вся Франция.
Четыре парочки добросовестно проделали все глупости, какие можно было проделать на свежем воздухе в то время. Каникулы только что начались, и стоял жаркий, солнечный летний день. Накануне Фавуритка, единственная из девушек, которая умела писать, написала Толомьесу от имени всех четырех записку следующего содержания: «Кто долго спит, тот щастье праспит». По этой-то причине они и поднялись в пять часов утра. Затем отправились дилижансом в Сен-Клу, осмотрели бездействовавший каскад, вскричав при этом: «Как это должно быть красиво, когда пускают воду», позавтракали в «Черной голове», куда еще не заглядывал отравитель Кастен, угостили себя игрой в кольца на обсаженной косыми рядами деревьев площадке у большого водоема, взобрались на Диогенов фонарь, сыграли в рулетку на миндальное печенье у Севрского моста, нарвали цветов в Пюто, накупили дудок в Нельи, ели повсюду яблочные пирожные и были совершенно счастливы.
Девушки шумели и щебетали, словно малиновки, вырвавшиеся на волю. Они были в каком-то чаду. По временам они награждали молодых людей легкими шутливыми шлепками. Опьянение утром жизни! Чудесные годы! Трепещущие крылья стрекоз! О, кто бы вы ни были, читатель, вспоминаете ли вы это? Приходилось ли вам сбегать, смеясь, по мокрому от дождя откосу вместе с любимой женщиной, которая восклицает, опираясь на вашу руку: «Ой, мои новые ботинки! На что они стали похожи!»
Надо заметить, что на сей раз веселая помеха в виде ливня миновала нашу жизнерадостную компанию, хотя, отправляясь в путь, Фавуритка и сказала наставительным и материнским тоном: «По дорожкам ползают улитки. Это к дождю, дети мои».
Все четыре девушки были дьявольски хороши собой. Некий поэт классической школы, пользовавшийся в то время большой известностью, шевалье де Лабуис, добродушный старичок, воспевавший свою Элеонору, бродил в тот день, около десяти часов утра, под сенью каштанов в Сен-Клу и, встретив подруг, вскричал, несомненно имея в виду трех граций: «Одна тут лишняя!» Фавуритка, возлюбленная Блашвеля, та, которой было двадцать три года, то есть «старушка», очертя голову неслась впереди всех под густыми зелеными ветвями, перепрыгивала через канавы, перескакивала через кусты и предводительствовала всеобщим весельем с пылом юной дриады. Зефина и Далия, которых случай создал так, что красота одной дополняла красоту другой, причем каждая только выигрывала от сравнения с подругой, не расставались, побуждаемые не столько дружеской привязанностью, сколько инстинктивным кокетством, и, томно прислонившись друг к другу, принимали позы английских леди; первые «кипсеки» только что появились, меланхолия уже входила в моду у женщин, как несколько позже байронизм стал модой у мужчин, и волосы представительниц прекрасного пола уже начинали свисать грустными прядями; Зефина и Далия укладывали волосы валиком. Листолье и Фамейль занялись спором о своих профессорах и разъясняли Фантине, чем г-н Дельвенкур отличался от г-на Блондо.
Блашвель, казалось, был создан исключительно для того, чтобы по воскресным дням носить на руке кашемировую шаль Фавуритки с цветной каймой по краям.
Толомьес шел сзади и руководил всей компанией. Он был очень весел, но в нем чувствовалось сознание власти; в его шутках сказывался диктатор. Главным украшением его особы были нанковые панталоны фасона «слоновьей ноги» со штрипками из медных цепочек, в руке у него была массивная трость стоимостью в двести франков, и так как он позволял себе решительно все, то во рту у него торчала странная штука, именуемая сигарой. Для него не было ничего святого – он курил.
«Этот Толомьес просто изумителен! – с почтительным уважением говорили о нем приятели. – Какие панталоны! Какая энергия!»
Что касается Фантины, то это была сама радость. Ее чудесные зубы, несомненно, получили от бога определенное назначение – сверкать при улыбке. Свою шляпку из строченой соломки, с длинными белыми завязками, она охотнее носила не на голове, а на руке. Ее густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ Галатеи, бегущей под ивами. Ее розовые губы что-то восторженно лепетали. Уголки губ, сладострастно приподнятые, как на античных масках Эригоны, казалось, поощряли к вольностям, но длинные скромно опущенные ресницы, полные тайны, смягчали вызывающее выражение нижней части лица, словно предостерегая от вольных мыслей. Весь ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было барежевое платье розовато-лилового цвета, маленькие темно-красные башмачки-котурны, с лентами, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый спенсер, который придумали марсельцы и название которого – «канзу», искаженное на канебьерский лад: quinze ao?t – означало пятнадцатое августа, то есть хорошую погоду, зной, полдень. Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были откровенно декольтированы, что летом, при шляпках, украшенных цветами, придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюмами прозрачное канзу белокурой Фантины, с его нескромностью и недомолвками, что-то скрывающее и в то же время что-то обнажающее, казалось дерзкой находкой приличия, и, пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала виконтесса де Сет, обладавшая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается величайшим искусством. Это бывает.
Ослепительный цвет лица, тонкий профиль, темно-голубые глаза, тяжелые веки, изящные маленькие ножки с высоким подъемом, восхитительные линии рук, белая кожа с сетью синих жилок, свежие детские щечки, сильная и гибкая шея эгинских Юнон, крепкий затылок, плечи, словно изваянные резцом Кусту, с двумя просвечивающими сквозь тонкий муслин сладострастными ямочками, веселость, слегка скованная мечтательностью, скульптурные, изысканные формы – вот Фантина; под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе – живую душу.
Фантина была прекрасна, сама того не сознавая. Немногие мечтатели, таинственные служители культа красоты, которые молча сравнивают с совершенством все, что они видят, уловили бы в юной швее сквозь прозрачную дымку парижского изящества античную и священную гармонию. В этой безвестной девушке чувствовалась порода. Она соединяла в себе и красоту стиля, и красоту ритма. Стиль – форма идеала, ритм – его движение.
Мы уже сказали, что Фантина была сама радость; Фантина была также сама стыдливость.
Наблюдатель, внимательно присмотревшись к ней, заметил бы, что сквозь опьянение юностью, весной и любовью в ней просвечивало выражение непреодолимой сдержанности и скромности. Она всегда казалась слегка удивленной. Вот это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий Психею от Венеры. У Фантины были длинные, белые и тонкие пальцы весталки, которая ворошит пепел священного огня золотой булавкой. Хотя, как мы это слишком ясно увидим из дальнейшего, она ни в чем не отказала Толомьесу, лицо ее в минуты покоя выражало чистейшую непорочность; печать какого-то серьезного и почти строгого достоинства внезапно появлялась на нем в иные часы, и нельзя было без удивления и волнения смотреть, как быстро угасала на нем веселость и как, без всякого перехода, безмятежная ясность сменялась вдруг глубокой сосредоточенностью. Эта внезапная серьезность, порой выраженная очень резко, походила на высокомерие богини. Лоб, нос и подбородок представляли ту идеальную линию, совершенно отличную от идеальных пропорций, которая и обусловливает гармонию лица; а в характерном промежутке между основанием носа и верхней губой у нее была та едва заметная и очаровательная ямочка – таинственная примета целомудрия, – благодаря которой Барбаросса влюбился в Диану, найденную при раскопках в Иконии.