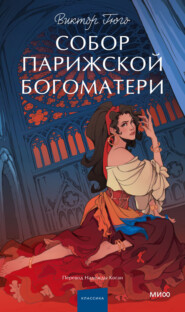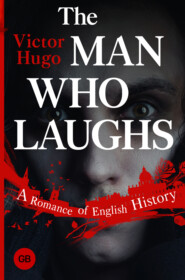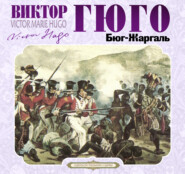По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собор Парижской Богоматери
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1831
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И отнюдь не потому, что Пьер Гренгуар боялся или презирал кардинала. Он не отличался ни малодушием, ни высокомерием. Истый эклектик, как выражаются ныне, Гренгуар принадлежал к числу тех возвышенных и твердых, уравновешенных и спокойных людей, которые умеют во всем придерживаться золотой середины, stare in dimidio rerum, всегда здраво рассуждают и склонны к свободомыслию, отдавая в то же время должное кардиналам. Эта ценная, никогда не вымирающая порода философов, казалось, получила от мудрости, сей новой Ариадны, клубок нитей, который, разматываясь, ведет их от сотворения мира сквозь лабиринт всех дел человеческих. Они существуют во все времена и эпохи и всегда одинаковы, то есть всегда соответствуют своему времени. Оставив в стороне нашего Пьера Гренгуара, который, если бы нам удалось дать его истинный образ, был бы их представителем в XV веке, мы должны сказать, что именно их дух вдохновлял отца дю Бреля, когда он в XVI столетии писал следующие божественно-наивные, достойные перейти из века в век строки: «Я парижанин по рождению и “паризианин” по манере говорить, ибо parrhisia по-гречески означает “свобода слова”, коей я и докучал даже кардиналам, дяде и брату принца Конти, но всегда с полным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, а это уже немалая заслуга».
Итак, в том неприятном впечатлении, которое произвело на Пьера Гренгуара появление кардинала, не было ни личной ненависти к кардиналу, ни пренебрежения к факту его присутствия. Напротив, наш поэт, обладая изрядной дозой здравого смысла и изношенным камзолом, придавал особое значение тому, чтобы его намеки в прологе, особенно похвалы, расточаемые дофину, сыну льва Франции, дошли до высокопреосвященного слуха. Но отнюдь не корысть преобладает в благородной натуре поэтов. Я полагаю, что если сущность поэта может быть обозначена числом «десять», то какой-нибудь химик, анализируя и фармакополизируя ее, как выражается Рабле, вероятно, нашел бы в ней одну десятую корыстолюбия и девять десятых самолюбия. В ту минуту, когда двери распахнулись, пропуская кардинала, эти девять десятых самолюбия Гренгуара, распухнув и вздувшись под действием народного восхищения, достигли удивительных размеров и задавили неприметную молекулу корыстолюбия, которую мы только что обнаружили в натуре поэтов. Впрочем, молекула эта драгоценна: она представляет собой тот балласт реальности и человеческой природы, без которого поэты не могли бы коснуться земли. Гренгуар наслаждался, ощущая, наблюдая и, так сказать, осязая все это сборище, состоявшее, правда, из бездельников, но зато оцепеневших от изумления, словно захлебнувшихся в потоках нескончаемых тирад, которые изливались из каждой части его эпиталамы. Я утверждаю, что Гренгуар разделял всеобщий восторг и, в противоположность Лафонтену, который на представлении своей комедии «Флорентинец» спросил: «Что за невежда сочинил эти бредни?», наш поэт охотно осведомился бы у соседа: «Кем написан этот шедевр?» И потому легко представить себе то действие, какое на него должно было произвести внезапное и несвоевременное появление кардинала.
Опасения Гренгуара оправдались. Прибытие его высокопреосвященства взбудоражило аудиторию. Все головы повернулись к возвышению. Поднялся оглушительный шум. «Кардинал! Кардинал!» – повторяли тысячи уст. Злополучный пролог был прерван вторично.
Кардинал помедлил минуту у ступенек, ведущих на возвышение. Пока он окидывал довольно равнодушным взором толпу, всеобщее возбуждение усилилось. Каждому хотелось разглядеть кардинала. Каждый старался поднять голову выше плеча соседа.
Это было действительно высокопоставленное лицо, созерцание которого стоило любых других зрелищ. Карл, кардинал Бурбонский, архиепископ и граф Лионский, примас Галльский, был связан родственными узами и с Людовиком XI через своего брата Пьера, сеньора Боже, женатого на старшей дочери короля, и с Карлом Смелым через свою мать Агнессу Бургундскую. Отличительными, коренными чертами характера примаса Галльского были гибкость царедворца и раболепие перед власть имущими. Легко вообразить себе те многочисленные затруднения, которые ему доставляло это двойное родство, и все те подводные камни светской жизни, между которыми его умственный челн вынужден был лавировать, дабы не разбиться, налетев на Людовика или на Карла – эту Сциллу и Харибду, уже поглотивших герцога Немурского и коннетабля Сен-Поля. Милостью неба кардинал сумел благополучно разделаться с этим путешествием и беспрепятственно достигнуть Рима, то есть кардинальской мантии. Но хотя он и находился в гавани или, точнее говоря, именно потому, что он находился в гавани, он не мог спокойно вспоминать о превратностях своей долгой политической карьеры, исполненной тревог и тягот. И он часто повторял, что 1476 год был для него «черным и белым», подразумевая под этим, что в один и тот же год он лишился матери, герцогини Бурбонской, и своего двоюродного брата, герцога Бургундского, и что одна утрата смягчила для него горечь другой.
Впрочем, он был человек добродушный, вел веселую жизнь, охотно попивал вино из королевских виноградников Шальо, благосклонно относился к Ришарде ла Гармуаз и к Томасе ла Сальярд, охотнее подавал милостыню хорошеньким девушкам, нежели старухам, и за все это был любим простонародьем Парижа. Обычно он появлялся в сопровождении целого штата знатных епископов и аббатов, любезных, веселых, всегда согласных покутить; и не раз почтенные прихожанки Сен-Жермен-д, Озэр, проходя вечером мимо ярко освещенных окон Бурбонского дворца, возмущались, слыша, как те же самые голоса, которые только что служили вечерню, теперь под звон бокалов тянули Bibamus papaliter[13 - Будем пить, как папа (лат.).], вакхическую песню папы Бенедикта XII, прибавившего третью корону к тиаре.
Вероятно, благодаря именно этой популярности, вполне им заслуженной, кардинал при своем появлении избежал враждебного приема со стороны шумной толпы, выражавшей такое недовольство всего лишь несколько минут назад и весьма мало расположенной отдавать дань уважения кардиналу в тот самый день, когда ей предстояло избрать папу. Но парижане – народ не злопамятный; к тому же, самовольно заставив начать представление, добрые горожане сочли, что они как бы восторжествовали над кардиналом, и были вполне удовлетворены. Вдобавок ко всему кардинал Бурбонский был красавец мужчина, в великолепной пурпурной мантии, которую он умел носить с большим изяществом, а это значило, что все женщины, иначе говоря, добрая половина залы, были на его стороне. Ведь несправедливо и бестактно ошикать кардинала только за то, что он опоздал и этим задержал начало спектакля, когда он красавец мужчина и с таким изяществом носит свою пурпурную мантию!
Итак, кардинал вошел, улыбнулся присутствующим той унаследованной от своих предшественников улыбкой, которою сильные мира сего приветствуют толпу, и медленно направился к своему креслу, обитому алым бархатом, размышляя, по-видимому, о чем-то совершенно постороннем. Сопровождавший его кортеж епископов и аббатов, или, как сказали бы теперь, его генеральный штаб, вторгся за ним на возвышение, еще усилив шум и любопытство толпы. Всякий хотел указать, назвать, дать понять, что знает хоть одного из них: кто – Алоде, епископа Марсельского, если ему не изменяет память; кто – настоятеля аббатства Сен-Дени; кто – Ро-бера де Леспинаса, аббата Сен-Жермен-де-Пре, распутного брата фаворитки Людовика XI; возникавшая при этом путаница вызывала шумные споры. А школяры сквернословили. Это был их день, их шутовской праздник, их сатурналии, ежегодная оргия корпораций писцов и школяров. Любая непристойность считалась сегодня законной и священной. К тому же в толпе находились такие шалые бабенки, как Симона Четыре-Фунта, Агнеса Треска, Розина Козлоногая. Как же не посквернословить в свое удовольствие и не побогохульствовать в такой день, как сегодня, и в такой честной компании, как духовные лица и веселые девицы? И они не зевали; среди гама звучал ужасающий концерт ругательств и непристойностей, исполняемый школярами и писцами, распустившими языки, которые в течение всего года сдерживались страхом перед раскаленным железом святого Людовика. Бедный святой Людовик! Как они глумились над ним в его собственном Дворце правосудия! Среди вновь появлявшихся на возвышении духовных особ каждый школяр намечал себе жертву – черную, серую, белую или лиловую рясу. Жеан Фролло де Молендино, как брат архидьякона, избрал мишенью красную мантию и дерзко напал на нее. Устремив на кардинала бесстыжие свои глаза, он орал что есть мочи:
– Сарра repleta mero![14 - Ряса, напитанная вином! (лат.)]
Все эти выкрики, которые мы приводим здесь без прикрас в назидание читателю, тонули в шуме, не достигнув парадного помоста. Впрочем, всякого рода вольности в этот день вошли в обычай и мало трогали кардинала. К тому же у него была иная забота, и это ясно отражалось на его лице, – эта забота преследовала его по пятам и почти одновременно с ним взошла на помост: то было фландрское посольство.
Кардинал не был глубоким политиком; его не слишком беспокоили последствия брака его кузины Маргариты Бургундской и его кузена Карла, дофина Вьенского; его весьма мало тревожило и то, как долго продлится столь непрочное «доброе согласие» между герцогом Австрийским и королем Франции и как отнесется король Англии к пренебрежению, которое выказали его дочери. Он каждый вечер спокойно попивал королевское вино из виноградников Шальо, не подозревая, что несколько бутылок этого вина (правда, разбавленного и подправленного доктором Куактье), радушно предложенные Эдуарду IV Людовиком XI, в одно прекрасное утро избавят Людовика XI от Эдуарда IV. «Достопочтенное посольство господина герцога Австрийского» не причиняло кардиналу ни одной из вышеупомянутых забот, но тяготило его в ином отношении. И в самом деле, было все же тяжко, как мы упоминали об этом выше, ему, Карлу Бурбонскому, чествовать каких-то мещан; ему, кардиналу, любезничать с какими-то старшинами; ему, французу, веселому сотрапезнику на пирах, угощать каких-то фламандцев, пивохлёбов; и все это проделывать на людях! Несомненно, это была одна из самых отвратительных личин, какую ему когда-либо приходилось надевать на себя в угоду королю.
Но едва лишь привратник зычным голосом провозгласил: «Господа послы герцога Австрийского», он с самым любезным видом (настолько он изучил это искусство) повернулся к входной двери. Нечего и говорить, что его примеру последовали все остальные.
Попарно, со степенной важностью, являвшей разительный контраст оживлению церковной свиты Карла Бурбонского, появились сорок восемь посланников Максимилиана Австрийского, возглавляемые его преподобием отцом Иоанном, аббатом Сен-Бертенским, канцлером ордена Золотого руна, и Иаковом де Гуа, сьером Доби, верховным судьей города Гента.
В зале воцарилась глубокая тишина, лишь изредка прерываемая заглушенным смехом, когда привратник, коверкая и путая, выкрикивал странные имена и гражданские звания, невозмутимо сообщаемые ему каждым из новоприбывших фламандцев. Тут были: мэтр Лоис Релоф, городской старшина Лувена, мессир Клаис Этюэльд, старшина Брюсселя, мессир Пауль Баест, сьер Вуармизель, представитель Фландрии, мэтр Жеан Колегенс, бургомистр Антверпена, мэтр Георг де ла Мер, первый старшина города Гента, мэтр Гельдольф ван дер Хаге, старшина землевладельцев того же города, и сьер Бирбек, и Жеан Пиннок, и Жеан Димерзель и т. д. – судьи, старшины, бургомистры; бургомистры, старшины, судьи – все как один важные, неповоротливые, чопорные, разряженные в бархат и штоф, в черных бархатных шапочках, украшенных кистями из золотых кипрских нитей. Однако у всех у них были славные фламандские лица, исполненные строгости и достоинства, родственные тем, чьи упрямые тяжелые черты выступают на темном фоне «Ночного дозора» Рембрандта. Это были люди, всем своим видом как бы подтверждавшие правоту Максимилиана Австрийского, положившегося «всецело», как сказано было в его манифесте, на их «здравый смысл, мужество, опытность, честность и предусмотрительность».
За исключением, впрочем, одного. У этого было тонкое, умное, лукавое лицо – он был похож и на обезьянку, и на дипломата. Кардинал сделал три шага к нему навстречу и, несмотря на то что тот носил негромкое имя Гильом Рим, советник и первый сановник города Гента, низко ему поклонился.
Лишь немногим было известно тогда, что представлял собою Гильом Рим. Человек редкого ума, способный в революционную эпоху оказаться на гребне событий и блестяще проявить себя, он в XV веке обречен был на подпольные интриги и, как выразился герцог Сен-Симон, «на существование в подкопах». Тем не менее он был оценен самым выдающимся «подкопных дел мастером» Европы: он интриговал заодно с Людовиком XI и нередко прилагал руку к секретным делам короля. Но этого не подозревала толпа, изумленная необычайным вниманием кардинала к невзрачному фламандскому советнику.
IV. Мэтр Жак Копеноль
Когда первый сановник города Гента и его высокопреосвященство, отвешивая друг другу глубокие поклоны, обменивались произносимыми вполголоса любезностями, какой-то человек высокого роста, широколицый и широкоплечий, выступил вперед, намереваясь войти вместе с Гильомом Римом; он напоминал бульдога в паре с лисой. Его войлочная шляпа и кожаная куртка казались грязным пятном среди окружавших его шелка и бархата. Полагая, что это какой-нибудь случайно затесавшийся сюда конюх, привратник преградил ему дорогу:
– Эй, приятель! Сюда нельзя!
Человек в кожаной куртке оттолкнул его плечом.
– Чего этому болвану от меня нужно? – спросил он таким громким голосом, что вся зала обратила внимание на этот странный разговор. – Ты что, не видишь, кто я такой?
– Ваше имя? – спросил привратник.
– Жак Копеноль.
– Ваше звание?
– Чулочник в Генте, владелец лавки под вывеской «Три цепочки».
Привратник попятился. Докладывать о старшинах, о бургомистрах еще куда ни шло; но о чулочнике – это уж чересчур! Кардинал был как на иголках. Толпа прислушивалась и глазела. Целых два дня его преосвященство старался, как только мог, обтесать этих фламандских бирюков, чтобы они имели более представительный вид, и вдруг эта грубая, резкая выходка! Между тем Гильом Рим приблизился к привратнику и с тонкой улыбкой еле слышно шепнул ему:
– Доложите: мэтр Жак Копеноль, секретарь совета старшин города Гента.
– Привратник! – повторил кардинал громким голосом. – Доложите: мэтр Жак Копеноль, секретарь совета старшин славного города Гента.
Это была оплошность. Гильом Рим, действуя самостоятельно, сумел бы уладить дело, но Копеноль услышал слова кардинала.
– Нет, крест истинный, нет! – громовым голосом воскликнул он. – Жак Копеноль, чулочник! Слышишь, привратник? Именно так, а не иначе! Чулочник! Чем это плохо? А ты, привратник, помни: ты привратник, а не привратник!
Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. Парижане умеют сразу понять шутку и оценить ее по достоинству.
Вдобавок Копеноль был простолюдин, как и те, что его окружали. Поэтому сближение между ними установилось молниеносно и совершенно естественно. Высокомерная выходка фламандского чулочника, унизившего придворных вельмож, пробудила в этих простых душах чувство собственного достоинства, столь смутное и неопределенное в XV веке. Он был им ровня, этот чулочник, дающий отпор кардиналу, – сладостное утешение для бедняг, приученных с уважением подчиняться даже слуге судебного пристава, подчиненного судье, в свою очередь подчиненного настоятелю аббатства Святой Женевьевы – шлейфоносцу кардинала!
Копеноль гордо поклонился его высокопреосвященству, а тот вежливо отдал поклон всемогущему горожанину, внушавшему страх даже Людовику XI. Гильом Рим, «человек проницательный и лукавый», как отзывался о нем Филипп де Комин, насмешливо и с чувством превосходства следил, как они отправлялись на свои места: смущенный и озабоченный кардинал, спокойный и надменный Копеноль. Последний, конечно, размышлял о том, что в конце концов звание чулочника ничем не хуже любого иного и что Мария Бургундская, мать той самой Маргариты, которую он, Копеноль, сейчас выдавал замуж, гораздо менее опасалась бы его, будь он кардиналом, а не чулочником. Ведь не кардинал взбунтовал жителей Гента против фаворитов дочери Карла Смелого; не кардинал несколькими словами вооружил толпу против принцессы Фландрской, со слезами и мольбами явившейся к самому подножию эшафота просить свой народ пощадить ее любимцев. А торговец чулками только поднял руку в кожаном нарукавнике, и ваши головы, достопочтенные сеньоры Гюи д, Эмберкур и канцлер Гильом Гугоне, слетели с плеч!
Однако неприятности многострадального кардинала еще не кончились, и ему пришлось до дна испить чашу горечи, попав в столь дурное общество.
Читатель, быть может, еще не забыл нахального нищего, который, едва только начался пролог, вскарабкался на карниз кардинальского помоста. Прибытие именитых гостей не заставило его покинуть свой пост, и в то время как прелаты и послы набились на возвышении, точно настоящие фламандские сельди в бочонке, он устроился поудобнее и спокойно скрестил ноги на архитраве. То была неслыханная дерзость, но в первую минуту никто не заметил этого, так как все были заняты другим. Казалось, нищий тоже не замечал происходящего в зале и беспечно, как истый неаполитанец, покачивая головой среди всеобщего шума, тянул по привычке: «Подайте милостыню!»
Нет сомнения, что только он один из всего собрания не соблаговолил повернуть голову к препиравшимся привратнику и Копенолю. Но случаю было угодно, чтобы досточтимый чулочник города Гента, к которому толпа почувствовала такое расположение и на которого устремлены были все взоры, сел в первом ряду на помосте, как раз над тем местом, где приютился нищий. Каково же было всеобщее изумление, когда фландрский посол, пристально взглянув на этого пройдоху, расположившегося возле него, дружески хлопнул его по прикрытому рубищем плечу. Нищий обернулся; оба удивились, узнали друг друга, и лица их просияли; затем, нимало не заботясь о зрителях, чулочник и нищий принялись перешептываться, держась за руки; лохмотья Клопена Труйльфу, раскинутые на золотистой парче возвышения, напоминали гусеницу на апельсине.
Необычность этой странной сцены вызвала такой взрыв безудержного веселья и оживления среди публики, что кардинал не мог не обратить на это внимание. Он слегка наклонился и, с трудом различив омерзительное одеяние Труйльфу, решил, что нищий просит милостыню.
– Господин старший судья! Бросьте этого негодяя в реку! – возмущенный такой наглостью, воскликнул он.
– Господи Иисусе! Высокопреосвященнейший владыка, – не выпуская руки Клопена, сказал Копеноль. – Да ведь это мой приятель!
– Слава! Слава! – заревела толпа.
И в эту минуту мэтр Копеноль в Париже, как и в Генте, «заслужил полное доверие народа, ибо такие люди, – говорит Филипп де Комин, – обычно пользуются доверием, если ведут себя неподобающим образом».
Кардинал закусил губу. Наклонившись к своему соседу, настоятелю аббатства Святой Женевьевы, он проговорил вполголоса:
– Странных, однако, послов направил к нам эрцгерцог, чтобы возвестить о прибытии принцессы Маргариты.
– Вы слишком любезны с этими фламандскими свиньями, ваше высокопреосвященство. Margaritas ante porcos[15 - Не мечите жемчуга (бисера) перед свиньями (лат.).].
– Но это скорее porcos ante Margaritam[16 - Свиней перед жемчугом. Игра слов: Margarita – по-латыни – жемчужина; Marguеritе – по-французски – и Маргарита, и жемчужина.], – улыбаясь, возразил кардинал.
Свита в сутанах пришла в восторг от этого каламбура. Кардинал почувствовал себя удовлетворенным: он сквитался с Копенолем – его каламбур имел неменьший успех.
Теперь позволим себе задать вопрос тем из наших читателей, которые, как ныне принято говорить, наделены способностью обобщать образы и идеи: вполне ли отчетливо они представляют себе зрелище, какое являет собой в эту минуту обширный параллелограмм большой залы Дворца правосудия? Посреди залы, у западной стены, широкий и роскошный помост, обтянутый золотой парчой, куда через маленькую стрельчатую дверку одна за другой выходят важные особы, имена которых пронзительным голосом торжественно выкликает привратник. На передних скамьях уже разместилось множество почтенных особ, закутанных в горностай, бархат и пурпур. Вокруг этого возвышения, где царят тишина и благоприличие, под ним, перед ним, всюду – невероятная давка и невероятный шум. Множество взглядов впивается в сидящих на возвышении, множество уст шепчет их имена. Зрелище весьма любопытное и вполне заслуживающее внимания зрителей! Но там, в конце зала, что означает это подобие подмостков, на которых извиваются восемь раскрашенных марионеток – четыре наверху и четыре внизу? И кто же этот бледный человек в черном потертом камзоле, что стоит возле подмостков? Увы, дорогой читатель, это Пьер Гренгуар и его пролог!
Мы о нем совершенно забыли!
А именно этого-то он и опасался.
С той минуты, как появился кардинал, Гренгуар не переставал хлопотать о спасении своего пролога. Прежде всего он приказал замолкшим было исполнителям продолжать и говорить громче; затем, видя, что их никто не слушает, он остановил их и в течение перерыва, длившегося около четверти часа, не переставал топать ногами, бесноваться, взывать к Жискете и Лиенарде, подстрекать своих соседей, чтобы те требовали продолжения пролога; но все было тщетно. Никто не сводил глаз с кардинала, послов и возвышения, где, как в фокусе, скрещивались взгляды всего огромного кольца зрителей. Кроме того, надо думать, – мы упоминаем об этом с прискорбием, – пролог стал надоедать слушателям, когда его высокопреосвященство кардинал своим появлением столь безжалостно прервал его. Наконец на помосте, обтянутом золотой парчой, разыгрывался тот же спектакль, что и на мраморном столе, – борьба между Крестьянством и Духовенством, Дворянством и Купечеством. Но большинство зрителей предпочитало, чтобы они держали себя просто, предпочитало видеть их в действии, подлинных, дышащих, толкающихся, облеченных в плоть и кровь, среди фландрского посольства и епископского двора, в мантии кардинала или куртке Копеноля, нежели раскрашенных, расфранченных, изъясняющихся стихами и похожих на соломенные чучела актеров в белых и желтых туниках, которые напялил на них Гренгуар.