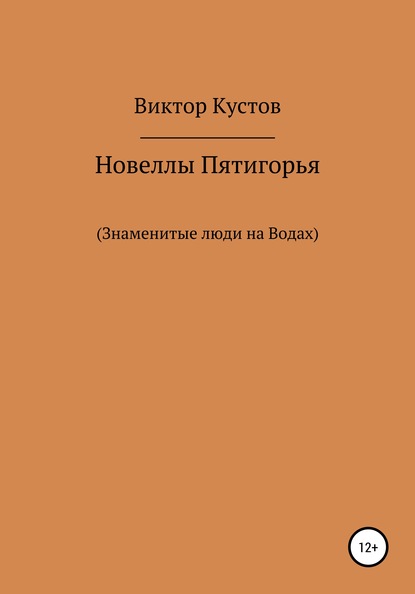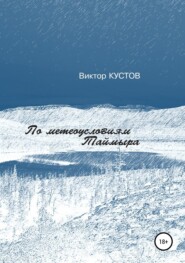По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новеллы Пятигорья. Знаменитые люди на Водах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шёлком не сжимаешь ног…
Пока коней мне запрягали,
Мне ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса.
Друзья! не всё ль одно и то же: Забыться праздною душой
В блестящей зале, модной ложе
Или в кибитке кочевой?
Белолицая недотрога Натали (к которой он обязательно отправится сразу же по приезде), дикая смуглая дочь степей, пленительная Мария Раевская, которую он помнил девочкой, теперь возвышавшаяся над всеми женщинами, которых он знал, примером самоотверженной женской верности; бездыханное тело язвительного Грибоеда; суровость его лицейского товарища – воина, ныне уже генерала Раевского-младшего; перемены, происшедшие здесь с братом Львом, колоритный, гортанно-многоязыкий Тифлис, яростные турки, так же ненавидящие русских солдат, как и горцы, военный палаточный лагерь, необлагороженный женской красотой, скоротечные баталии с пушечными дымами, к которым здесь привыкли и относились как к чему-то обыденному, – всё это теперь в далёком от всего вышеназванного, праздном Горячеводске искало выхода в словах, в стихах или прозе – неважно, главное, что он был уверен: всё это не было случайным в его жизни…
Но приходили не те слова, не те строки…
Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой –
Но огнь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений:
Она прошла, пора стихов…
Но он уже ощущал, как полнится пониманием того, что вот-вот откроется ему и превратится в самые точные, единственно верные слова и строки. И это состояние, когда, опережая скрип пера, они, торопясь, будут ложиться на лист, становилось всё ближе и ближе, и он вновь ощутил беспричинную радость, подъезжая к Кисловодску, в котором ему так хорошо было девять лет назад.
Когда лошади стали подниматься по ущелью, привстал, оглядываясь по сторонам, волнуясь, отмечая и тут немалые перемены. В первый приезд это было небольшое селение, в котором главным сооружением являлась крепость с пятью бастионами, стоящая над горной речкой, совсем не грозной в летнюю пору. В крепости под защиту солдат и казаков должны были прятаться отдыхающие в случае набега горцев. Теперь же многое изменилось. Некогда пустынная, с голыми склонами, долина покрылась деревьями и цветами, высаженными по склонам. Среди них вились посыпанные песком дорожки, а через речку были перекинуты мостики. Ванны нынче принимали в особых строениях, а на каменном утёсе над гротом поднялся дом благородного собрания, ничуть не уступающий иным в больших городах.
Добавилось и домов, среди которых были и приличные, будто перенесённые из России.
…Теперь он пил минеральную воду и принимал нарзанные ванны. А ещё проводил время в сугубо мужской компании с Пущиным, Дороховым и прочими знакомыми, кого знал уже немало или с кем только что познакомился. Из казённой гостиницы, куда он поселился в первый день и где было неуютно и скучно, он перешёл в дом доктора Реброва, самое видное строение, где уже остановился поручик Шереметев, только что отслуживший в посольстве в
Париже и приехавший отдохнуть. Он был чрезвычайно хлебосолен, охотно повторял ставшую крылатой фразу: «Худо, брат, жить в Париже; есть нечего; чёрного хлеба не допросишься».
К обеду он обычно собирал всех знакомых, кормил вкусно, а после обеда, если не было настроения гулять и никуда не надо было идти, играли в карты.
Как ни старался Пущин предостеречь Пушкина, зная, что тот проиграл взятые у Раевского на дорогу тысячу червонцев, как ни пытался отвлечь от Астафьева, приехавшего также в Кисловодск, ничего не получилось.
Игра у Шереметева, как правило, азартной не была, и Астафьев там бывал не столь часто. Но однажды, возвратившись с прогулки, Пушкин высыпал на стол червонцы.
– Откуда такое богатство? – не преминул поинтересоваться Пущин. Тот озорно блеснул глазами, тряхнул вьющимися, изрядно отросшими кудрями и не без бахвальства произнёс:
– Должен тебе признаться, я всякое утро заезжаю к Астафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него нескольких червонцев. – И гордо добавил: – Я его мелким огнём бью и вот сколько уж вытащил у него моих денег…
На столе лежало червонцев двадцать, а проиграл Пушкин тысячу.
И, наверное, долго пришлось бы ему «бить мелким огнём», чтобы вернуть хотя бы значительную часть проигрыша, да Астафьев скоро уехал, увозя с собой соблазн Пушкина отыграться. А может, даже и надежду обыграть…
Время между ваннами (в начале и в конце лечения по одной ванне в день, а посередине по две) пролетело стремительно.
Наступил сентябрь.
Возвращались в войска подлечившиеся офицеры. Пора было отправляться домой и Пушкину.
8 сентября 1829 года он заявил в комендантское управление при Горячих минеральных водах подорожную: «Почтовым местам и станционным смотрителям от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно. Г. чиновнику 10 класса Александру Сергеевичу Пушкину, едущему от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно, предписываю: почтовым местам и станционным смотрителям давать означенное в подорожных число почтовых лошадей без задержания и к проезду всякое оказывать пособие» и отправился в Россию по знакомому уже маршруту: Георгиевск «с конвоем по два кон-новооружённых казака без малейшего задержания», Ставрополь, Новочеркасск…
И на этот раз был у него занимательный попутчик – городничий из Сарапула Василий Дуров, брат кавалерист-девицы Надежды Дуровой, выдававшей себя во время войны с Наполеоном за мужчину.
Они были одного возраста, но поразительно разные. Судьба свела их в Кисловодске, где тот лечился от какой-то удивительной болезни («вроде католепсии») и играл с утра до ночи в карты. За карточным столом они и познакомились и сговорились ехать вместе.
Городничий был одержим идеей добыть, не нарушая закона, сто тысяч рублей.
Иногда, отчего-то более всего ночью, он будил Пушкина.
– Александр Сергеевич! Как бы, думаете вы, достать мне сто тысяч?
Пушкин, с трудом сдерживаясь, отмахивался.
– Коли такая нужда, я бы их украл…
– Я об этом думал, – вздыхал Дуров.
– Ну и что же?