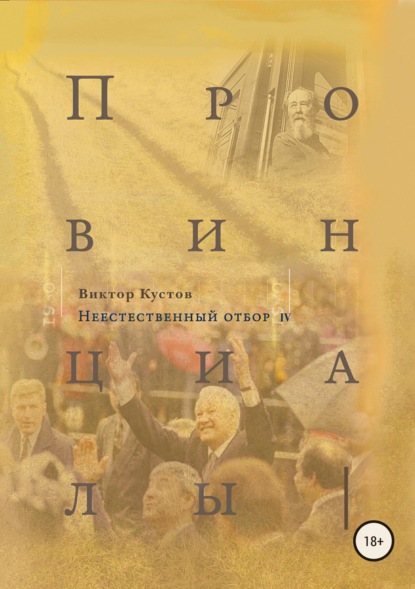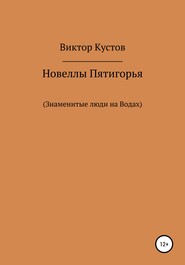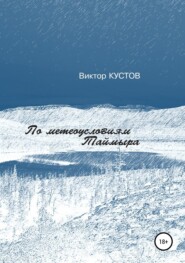По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Провинциалы. Книга 4. Неестественный отбор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как и положено. Новая «Правда»… О! – Он воздел палец.
– А что, хорошее название: «Новая правда».
Черников выпил залпом.
Поморщился. Не столько от коньяка, сколько от возникшего вдруг четкого понимания, что ничего в этой «Новой правде» нового как раз и не будет.
– Спасибо, конечно, за честь, но я откажусь.
Глеб даже поперхнулся коньяком. Откашлявшись, удивленно уставился на Черникова.
– Шутишь, Борис Иванович? От таких предложений не отказываются.
– Значит, буду пионером…
– А почему? – поинтересовался Глеб после паузы. – Если, конечно, не секрет.
– Никакого секрета. Я слишком долго зависел от других… И службу подневольного редактора хорошо знаю.
– Ну, это при большевиках было, теперь никто плешь проедать не будет, – с облегчением произнес Пабловский. – Я уже тебя Полторанину расписал, он ждет…
– Кто такой Полторанин?
– Министр печати…
– Который в «Правде» работал?
Черников положил в рот дольку лимона, стал медленно жевать.
Выражение его лица не менялось, а Пабловский не выдержал, скривился, словно ел сам, сглотнул слюну, философски изрек:
– Все мы выросли из одной шинели…
– Вот поэтому и знакомиться не стоит, – многозначительно произнес Черников. – Если ты хочешь мне помочь, то найди что-нибудь не в Москве… Например, в старом русском городе Ярославле… Или в Смоленске…
– Там искать нечего… Пока до провинции дойдет… Нет, ты серьезно отказываешься? – опять засомневался Глеб. – Ладно, не хочешь на «Новую правду», давай другую подберем…
Черников покачал головой.
– В Москве не хочу оставаться. Отвык, видимо, за эти годы… От суеты, спешки… От того, чтобы угождать одним и наступать на мозоли другим… Хочу что-нибудь свое делать, независимое ни от кого, кроме меня и Бога… Я тут прикинул, на пару номеров у меня денег найдется, а там, глядишь, добрые люди помогут…
– Нет, я тебя все-таки не пойму. – Глеб неторопливо вытер пальцы большим клетчатым носовым платком, с каждым движением становясь все трезвее и серьезнее. – Ты действительно хочешь издавать свою газету?
– Хочу, – твердо произнес Черников.
– В провинции?
Он кивнул.
– И, конечно, не продажную… Ну, я имею в виду, не обслуживающую ничьи интересы…
Черников опять согласно кивнул.
– В таком случае это предприятие обречено.
– Мы все изначально обречены. Ничто не вечно под луной, – оптимистично изрек Черников. – Но порой пилигрим значит больше правителя. Это тебе еще хочется насладиться утехами преходящими, у тебя впереди есть время и разочароваться, и покаяться, если что… Я свой лимит уже использовал, сделать бы то, что задано…
– Философ ты, Борис Иванович… Уж не поверил ли во Всевышнего?
– Воспитание постичь не позволяет. Но в атеисты уже не записываюсь.
– С такой позицией не поспоришь, – развел руками Пабловский.
– В таком случае могу тебе только помочь материально. Пару-тройку спонсоров для твоего издания обещаю найти. Да и сам внесу лепту.
Поднялся. – Позагорай тогда еще недельку, Борис Иванович. И прикинь, какой капитал тебе нужен на первое время. Да определись, куда путь держать… Может, лучше в Тулу?
– Поможешь со спонсорами – спасибо скажу. А куда ехать, определюсь.
– «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье», – процитировал Пабловский, выходя из комнаты. И, глубоко вдохнув морозный воздух поздней осени, уже для себя самого констатировал:
– Стареем, Борис Иванович, стареем… Но, может, это и правильно, вряд ли ты впишешься в нынешнюю жизнь…
Красавин
Если кто-то и управляет человеческими судьбами, то делает он это непостижимым для человеческого ума образом. И все оценки между «хорошо» и «плохо» – это всего лишь близкий горизонт. Главное – что там, в неведомой дали событий жизни одного человека, народа, государства.
Уходя из редакции со статьей «Несоответствие занимаемой должности», по сути – с «волчьим билетом», Красавин думал, что теряет, а оказалось, что он приобрел. Прежде всего приобрел Анну, настоящую его половинку, человека, с которым он мог делиться всем, что его волновало, который от него ничего не требовал и готов был отдавать ему свою любовь, тепло, заботу. А еще он обрел множество новых знакомых, прежде звонивших, а потом и ставших завсегдатаями многолюдных шумных собраний во дворе дома Анны. (Он теперь жил у нее.) Всех этих людей объединяло нежелание более быть рабом системы, готовность действовать. Подобные собрания напоминали Виктору революционные маевки начала века, как он их сам себе представлял. В большом дворе под абрикосом и черешней они соорудили длинный узкий стол, вдоль него – импровизированные скамейки из досок, а те, кому не хватало за столом места, пристраивались вокруг на вынесенных из дома стульях, а то и просто на корточках. Анна выносила пару чайников, стаканы (которые приходилось постоянно подкупать), сахар, печенье, и за жаркими спорами и обсуждением идей преодоления сопротивления отжившего, уходящего партийного диктата чайники опустошались, печенье поедалось. Но взамен оставалось более ценное – единство устремлений и готовность защищать объединяющие идеи.
Постепенно сложился костяк, два десятка человек, в основном представители научной и творческой интеллигенции (хотя в их числе были и начинающий кооператор, и профсоюзный деятель), которым в одно из таких чаепитий и пришла идея объединить всех жаждущих перемен в некую силу, которая должна выражать и отстаивать истинные помыслы народа. Подобные самостийные движения уже разворачивались по стране, заставляя местную власть учитывать мнение людей, предпринимать хоть какие-то меры, чтобы затормозить стремительное скатывание экономики к полному развалу. Из-под спуда запретов, тайны архивов, замалчивания вдруг прорвался, стал доступен огромный пласт информации, выплеснувшийся на страницы газет, листовок, журналов. Так же, как и десятилетиями копившееся народное недовольство. Красавин, словно вечный студент, собирал, анализировал эту информацию, нередко вспоминая Жовнера, удивляясь, почему сам не оказался проявлением свободомыслия – он бы уж точно не отошел в сторону, не променял бы возможность сделать общество свободным на спокойную жизнь и даже взаимную настоящую любовь…
Плеяда революционеров, которая для Красавина заканчивалась последним горячим латиноамериканцем Че Гевара, дополнилась вдруг знакомыми и незнакомыми именами тех, кто еще со времен Сталина не боялся выражать свое мнение. Теперь он уже знал, чем провинились в свое время писатели, имена которых когда-то называл ему Жовнер. Этот список все пополнялся и пополнялся именами людей разных профессий, живущих или живших в разных городах, и вскоре Красавин уже перестал сомневаться, что думающих, как он, не маленькая кучка так называемых «отщепенцев», а тысячи, может быть, и сотни тысяч граждан огромной страны. И тогда отпали последние сомнения: он был готов служить народу.
Теперь он внимательно следил за появляющимися в прессе сообщениями о гонениях на несогласных с режимом. В Москве широкую известность приобрела правозащитница Валерия Новодворская и бывший генерал, политзаключенный Сергей Григорянц. Виктору прислали журнал «Гласность», который Григорянц издавал, и он прочитал его от корки до корки. И решил последовать примеру – издавать свой журнал.
Эта идея стала главным делом его жизни; поначалу распечатанный на машинке в сотне экземпляров новоявленный, нигде не зарегистрированный и никем не одобренный журнал выходил, когда набирался материал, а через пару месяцев стал выходить регулярно.
Теперь у него было свое печатное издание, вызывающее интерес, передаваемое из рук в руки, прочитываемое от первой до последней строчки и приводящее в становящийся все более тесным дворик все новых и новых единомышленников.
И уже не только в столице, в других крупных городах страны, даже в далеком Красноярске, набирало силу неформальное движение, декларирующее активную и действенную поддержку перестройке. Было очевидно, что это движение, подобное маевкам начала двадцатого века, называемое по-новому политклубами, охватило значительную часть страны. А в Москве был образован Народный фронт, объединивший разрозненные группы активных сторонников общественных реформ. Он рассылал свой журнал и получал в обмен из других городов материалы на подобные темы, все более и более убеждаясь, что в стране поднимается мощная революционная волна, что есть люди, готовые кардинально изменить ситуацию топтания на месте и провозглашения лозунгов. В одно прекрасное мгновение понял: время разговоров и слов закончилось – пора действовать. И вывел своих сторонников на центральную площадь города…
Теперь предыдущая жизнь казалась ему бессмысленно прожитым отрезком, похожим на сон, когда ты вроде и хочешь что-то делать, тщишься, напрягаешься, но ничто тебе не подчиняется, все вокруг происходит помимо твоей воли – остается лишь поскорее проснуться и стряхнуть, забыть ночной кошмар. И он стряхивал его с себя зажигательными речами перед собравшимися на площадях и еще не определившими в нарастающем противостоянии прошлого и будущего собственную позицию согражданами, обличая не способную ни на что нынешнюю власть. Ему запрещали проводить митинги, но он игнорировал запреты. Их разгоняли, и он с азартом сопротивлялся растерянным милиционерам, осваивающим новую и непривычную для них обязанность избиения собственного народа. Он устраивал шествия, пикеты, голодовки… Наконец, его арестовали, осудили на пятнадцать суток, не придумав ничего иного, как обвинить в хулиганстве. Он отсидел этот срок с далекими от политики согражданами, которые в конце концов поверили ему, и только равнодушное отношение к любой политике не привело их в число его сторонников.
Стремительно слабеющая власть все же пыталась сделать его своим сторонником. Сначала через официальных представителей – заведующего отделом пропаганды крайкома партии, затем через крайкомовских знакомых – Сенцова и Дзугова.
Первый попил чайку за длинным столом, горячо поспорил со сторонниками Красавина, убеждая их в том, что рано они хоронят коммунистический режим и нет никакого смысла переносить противостояние на улицы, ибо это чревато революцией, а любая революция, в свою очередь, чревата разрухой, анархией, к тому же, как правило, обладает способностью поедать своих творцов. Красавин не спорил, предоставив возможность поупражняться товарищам, среди которых были не только инженеры, строители и педагоги, но и кандидаты философских и политических наук. Ушел тогда Сенцов, так ни в чем их не убедив, косвенно подтвердив, что они уже стали силой, которую власть начинает бояться…
С Дзуговым они встретились наедине в парке, мирно посидели на скамеечке, негромко разговаривая и наблюдая за совершенно далекими от политики влюбленными и молодыми мамашами с малышами, которым предстояло жить уже в новой стране (в этом Виктор не сомневался). Убеждать в том, что власть крепка, Дзугов не стал. И даже предсказал ее скорое падение, но предположил, что большинство нынешних обитателей кабинетов найдут себе тепленькое место и в новой ситуации. Он предупредил Виктора об опасности, идущей со стороны спецслужб, но согласился, что его большая известность как раз и является иммунитетом против тихого устранения, но не уменьшает вероятность провокаций.