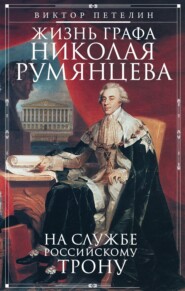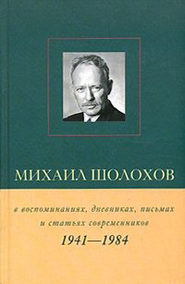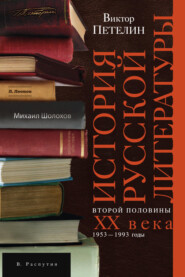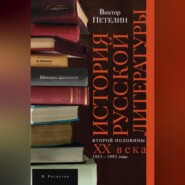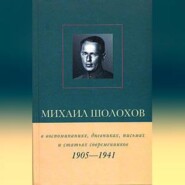По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мой XX век: счастье быть самим собой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Первые ряды бурно хлопали ему, а сотни собравшихся сидели тихо. Но при чем здесь вопрос «О художественном методе», который мы собирались обсудить? Да, Англия и Франция должны покинуть Египет, но почему это должно быть связано с отжившим свое время социалистическим реализмом, с теми догмами, которые, как ржа, разъедали души писателей. Так примерно думал я, слушая эти бурные аплодисменты первых рядов.
В этой накалившейся до предела атмосфере председательствующий Бугров предоставил мне слово. Начал я с азартом:
– Сейчас отовсюду слышится недовольство: прозаики говорят, что нет прозы (незадолго до этого в той же аудитории выступал К. Симонов и резко сетовал по этому поводу); критики – нет критических острых выступлений; драматурги – нет хороших пьес; поэты – нет настоящих стихов... Кто же мешает тому же Симонову создать нетленное художественное произведение, Софронову – захватывающую дух драму или трагедию, а Борису Рюрикову создать такие критические статьи, которые повергли бы нас в духовный трепет от глубоких мыслей и яркости изложения?.. Но, увы, никто из недовольных состоянием нашей литературы не спешит поразить нас глубокими художественными откровениями.
Что же мешает прозаикам, драматургам, поэтам и критикам создавать честные, правдивые произведения?
Метод социалистического реализма!
Тишина воцарилась, как говорится, гробовая.
Естественно, я не собираюсь пересказывать доклад, длившийся час пятнадцать минут. Первые ряды пытались сорвать мое выступление. Некоторые из самых ретивых даже топали ногами, что-то возмущенно кричали председательствующему, дескать, мы ж решили не давать Петелину слово, но Борис Бугров невозмутимо разводил руками.
Конечно, нельзя было так затягивать выступление, испытывать терпение. Попутно я рассказал о драматической истории трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам», привел переписку между редактором «Нового мира» и автором, который предупреждал редактора, что он вовсе не заинтересован дать бесконфликтный, праздничный роман к 10-летию Октябрьской революции, у него сложные судьбы персонажей, которые поступают по своей воле, а не по воле автора, тем более редактора. Рассказал о трагической истории третьей книги «Тихого Дона», когда жестокая цензура редакторов пыталась сломать тяжелую судьбу его главного героя и сделать его большевиком. Но уж очень накаленной была обстановка и хотелось высказаться: я понимал, что другого такого случая не представится. Да и опыт подобных выступлений у меня был невелик, прямо надо сказать...
Потом выступил Д. Урнов, выступил ярко, темпераментно, заученные фразы так и слетали с его уст, совершенно не задевая души, больше упоминая о западноевропейских именах, – и ни слова о социалистическом реализме. «О чем он говорит? – недоумевал я. – Словно на экзамене по теории литературы...»
Я никак не мог прийти в себя после марафонского выступления, а главное – от недоумения. Да и дальнейший ход дискуссии ничем не омрачил первые ряды собравшихся. Мое выступление – глас вопиющего в пустыне.
Утром следующего дня я был на спецкурсе С.М. Бонди, в перерыве ко мне подошел болгарский профессор и попросил дать ему почитать мой доклад, потом – американский стажер с той же просьбой, но я отказал, ссылаясь, что мое сочинение пока в единственном экземпляре, а перепечатать денег нет: аспирантскую стипендию я уже не получал, а накоплений – никаких. (Мой друг Станислав Петров, полонист, отец его был полковником КГБ в Свердловске, уговаривал меня никому не давать мой доклад, чтобы не погубить себя... «Ну а как же XX съезд партии?» – возражал я. Но никому не дал...)
Я. Гордин, полемизируя с Д. Урновым в том же номере «ЛГ», совершенно прав: «Дело в том, что Синявский (Абрам Терц) опубликовал свою точку зрения, а Петелин этого не сделал. Поэтому мнение Синявского стало фактом литературного и общественного процесса, а устное выступление Петелина осталось фактом внутренней жизни филологического факультета МГУ... И еще один штришок: робкого Синявского за его точку зрения «как подхватили сразу», так и понесли в мордовский лагерь, а смельчак критик Петелин невозбранно продолжал свою плодотворную литературную деятельность и основ больше не потрясал».
Прав в том смысле, что факт публичного выступления нельзя сравнивать с фактом публикации; надеюсь, Д. Урнов имел в виду, скорее всего, совсем другое: то выступление аспиранта как бы символизировало возникновение нового мышления, возникновение чувства духовной независимости и способности думать и рассуждать по-своему, сбросив сковывающие мысль догмы. Только и всего!
Конечно, догмы крепко еще держались в учебниках и статьях, но всем было ясно, что эти гвозди, скреплявшие нашу незыблемую идеологию, начали ржаветь, пока совсем не проржавели и здание марксизма-ленинизма совсем не распалось.
Категорически возражаю только против утверждения, что «критик Петелин невозбранно продолжал свою плодотворную литературную деятельность...». Легко уловить иронию автора, совершенно, видимо, не знающего ни одной моей книги и не представляющего себе, что в них содержится. Но это, в сущности, мало меня задевает...
Я очень рад, что не отдал доклад ни болгарскому профессору, ни американскому стажеру; очень рад, что не оказался в мордовском лагере, и очень огорчен тем, что там оказался Синявский, который еще восемь лет «невозбранно» печатался в советских изданиях после выхода в свет своей работы «О социалистическом реализме», а уж потом, когда узнали, кто скрывается под псевдонимом, устроили позорное судилище. И по праву воздается ему: и хула – за одно, хвала – за другое.
Скажу лишь, что после того выступления настала тяжелая пора. А.И. Метченко, только что отметивший в «Новом мире» правоту молодого исследователя В. Петелина и получивший нагоняй за это на ученом совете, проходил мимо меня при неизбежных встречах в узких коридорах факультета, не отвечая на мои приветствия, словом, не замечал. Но однажды я остановил его:
– Алексей Иванович! Как моя работа, вы ж мой научный руководитель, мой учитель...
– Нет, я не ваш учитель, Виктор Васильевич! (Впервые, кажется, так назвали меня в те мои молодые годы.) У вас другие учителя. – И пошел дальше.
Но эти заметки я пишу не для того, чтобы драматизировать события моей личной судьбы. Никто из моих друзей, товарищей, коллег не поддержал меня в моих критических рассуждениях – а ведь многие со мной соглашались – ни тогда, ни потом. Это уже политика собственной безопасности, опасения вездесущего ока охранительных служб, которые, естественно, были внедрены в идеологические структуры.
Пытался я устроиться на работу, но попытки тоже оказывались неудачными. Долго я никак не мог понять: место есть, а не берут. И только А.Г. Дементьев проговорился: оказывается, бюро горкома партии, рассмотрев отчет парткома МГУ, отметило мое выступление как «идейно порочное», разослав свои циркуляры во все идеологические организации.
Сначала принимали охотно, диплом с отличием, аспирантура МГУ, а потом:
– Где-то я уже слышал вашу фамилию...
Через несколько минут молчания, пока рылся в своих воспоминаниях:
– А-а-а, вспомнил...
И следовало твердое:
– Нет! Пока ничего для вас нет... Но вы заходите, может, что-то напишете для нас.
Вскоре после только что описанных событий вышел в свет журнал «Новый мир» (1956. № 12), в котором была опубликована статья профессора А.И. Метченко «Историзм и догма». Где-то в начале учебного года в Коммунистической аудитории выступал Константин Симонов, в то время главный редактор «Нового мира». А.И. Метченко был инициатором этой встречи, поделился своими мыслями с Симоновым, и тот предложил дать в журнал статью. Хоть номер был уже сверстан, дали «вдогон», как это частенько бывало в те времена: что-то слетало после цензуры, нужно было заполнять место в журнале. Кажется, это был именно такой случай, что-то вроде аварийной публикации.
В статье критиковались вульгарно-социологические схемы, которые сковывали живое движение общественной мысли, критиковались, естественно, с точки зрения стопроцентно выдержанной теории социалистического реализма.
Приведу полностью страничку, на которой упоминается и мое имя:
«...За социологической схемой мы проглядели глубокое философско-историческое значение той схемы, которую Горький выразил словом «дело», проглядели связь горьковского понимания «дела» с афоризмом «Жизнь есть деяние», с одной стороны, и с афоризмом «Всякое дело человеком ставится, человеком славится» – с другой. Если бы мы учитывали эти необычайно характерные для Горького мысли, может быть, мы тогда не отождествляли бы историю дела в романе только с историей капитализма, а увидели бы, как дело, начатое Артамоновым-старшим и воспринимавшееся им как деяние, перерастает самих Артамоновых, под властью которых ему грозила опасность превратиться в злодеяние, как происходит «отчуждение» Артамоновых от главного, что есть в деле, – его человечности, и как дело переходит в руки тех единственных хозяев, которые в состоянии не только поставить его, но и прославить.
Попутно отмечу, что тот же упрощенно социологический подход к явлениям искусства наложил свою печать на изучение функции пейзажа в наиболее поэтических произведениях советской литературы. Прав молодой исследователь творчества М. Шолохова В. Петелин, критикуя некоторые последние работы о Шолохове за схематическое освещение в них функции пейзажа в «Тихом Доне». Стараясь во что бы то ни стало доказать, что картины природы в этом романе подчинены задаче усилить, сгустить впечатление внутренней опустошенности Григория Мелехова, которая наступает как расплата за отход от народа, авторы этих работ утверждают, будто в те светлые периоды, когда этот герой романа находится на правильном пути, он воспринимает величие и красоту окружающего мира, остро ощущает запахи трав, видит всю многокрасочность природы, а когда он идет против народа, то и красота мира идет как-то мимо него, его восприятие природы становится однокрасочным, ущербным. Однако достаточно вспомнить переживания Мелехова и его восприятие природы, когда он с бандой Фомина ускакал от красноармейского отряда, чтобы вся эта социологическая схема разлетелась прахом. Приведем небольшой отрывок.
«Странное чувство отрешения и успокоенности испытывал он, прижимаясь всем телом к жесткой земле. Это было давно знакомое ему чувство. Оно всегда приходило после пережитой тревоги, и тогда Григорий как бы заново видел все окружающее. У него словно бы обострились зрение и слух, и все, что ранее проходило незамеченным, после пережитого волнения привлекало его внимание». И далее идет изумительный «шолоховский» пейзаж, поражающий точностью рисунка, богатством красок, умением выделить из потока впечатлений две-три детали, в которых мастерство пластики сливается с проникновенным лиризмом. Отметим в этой картине всего лишь один образ багряно-черного тюльпана, блистающего яркой девичьей красотой.
«Тюльпан рос совсем близко, на краю обвалившейся сурчины. Стоило лишь протянуть руку, чтобы сорвать его, но Григорий лежал, не шевелясь, с молчаливым восхищением любуясь цветком и тугими листьями стебля, ревниво сохранявшими в складках радужные капли утренней росы».
Исследователь-социолог не может примириться с таким «безыдейным» (с его точки зрения) описанием природы, ему необходимо, чтобы ярко-красные тюльпаны вызывали в памяти Григория пролитую им кровь народа и заставляли его закрывать глаза. Подобные нехитрые схемы и убогая символика накладываются на изображение пейзажа у разных художников, в разных произведениях, мешая понять их подлинный идейный смысл, воспринимать их истинную красоту.
Социологические схемы мешают правильно оценить выдающиеся произведения, поднимающие проблемы эпохального значения. Узко понимая актуальность таких произведений, мы нередко частное и преходящее выдаем за главное...» (Новый мир. 1956. № 12).
Естественно, статью прочитали и на факультете, ведь не часто ученые факультета удостаивались такой чести быть опубликованными в «самом» «Новом мире». И на первом же заседании ученого совета профессор Н.А. Глаголев, конармеец в Гражданскую, рапповец в 20-е, выходец из Института красной профессуры в 30-е, не защитивший ни кандидатской, ни уж тем более докторской, типичный представитель вульгарно-социологического направления в литературоведении, в своем выступлении обратил внимание коллег на противоречивость А.И. Метченко в отношении к своему аспиранту: с одной стороны, на трибуне резко критикует антипартийную, идейно порочную позицию В. Петелина, отвергающего основополагающие принципы теории социалистического реализма, а с другой стороны – поддерживает его публично же в «Новом мире».
– Что же получается, Алексей Иванович? – ехидно, как мне рассказывали, спрашивал Н.А. Глаголев. – Публикация в «Новом мире» перечеркивает ваше выступление в Коммунистической аудитории. Нехорошо получается, Алексей Иванович... Мы, красногвардейцы, в Гражданскую войну немало порубали таких вот, кто порочит нашу идеологию и кто выступает против марксизма-ленинизма... Что подумают студенты, аспиранты, молодые преподаватели, которые должны брать с нас, старых коммунистов, пример для подражания в отстаивании наших идеологических основ... Нехорошо, Алексей Иванович, вы недавно получили орден Ленина...
Представляю себе самочувствие непогрешимого до сей поры профессора Алексея Ивановича Метченко... Не раз он еще пожалеет, что сослался на мою диссертацию. Но... Написанное пером – не вырубишь и топором... После моего выступления пытался вычеркнуть эту ссылку, но журнал уже был в типографии, ничего нельзя было сделать.
И память, память, «мой властелин», относит нас еще на несколько лет, к истокам этих скромных, вроде бы заурядных событий: ну, что такого, выступление с докладом «О художественном методе» в Коммунистической аудитории.
Дипломную работу на тему: «Роман Ст. Злобина «Степан Разин» в развитии советского исторического романа» под руководством А.И. Метченко я писал с удовольствием. Историю я любил, а тема эта давала широкий простор для самостоятельности, для привлечения материала и собственного его истолкования. В сущности, я был предоставлен самому себе: профессор Метченко заболел, обширный инфаркт надолго приковал его к постели. Месяца четыре он вообще никого не принимал, а когда ему стало полегче, пришла пора защиты дипломных работ. Вспоминаю, как я волновался, сдавая ему готовую работу. Прочитал он быстро... Возможно, у него и были какие-то замечания, но времени на доработку не было, и он тут же назначил срок защиты, вызвал своего аспиранта в качестве оппонента, высказал ему свои замечания, которые тот в своем отзыве повторил на защите.
Защитил, рекомендован в аспирантуру, сдал госэкзамены, получил диплом с отличием, сдал вступительные экзамены в аспирантуру, принят. Научным руководителем у меня стал крупный специалист по историческому роману Сергей Митрофанович Петров. Начали с ним искать тему, диссертабельную, как он выразился. А пока готовился к кандидатским экзаменам, произошло событие, которое изменило направление моей работы в аспирантуре. Сергей Митрофанович Петров был уволен из университета якобы за моральное разложение, в высших партийных и литературных кругах произошла какая-то скандальная история на любовной почве, в которую был замешан и мой научный руководитель («дело» Г. Александрова).
Историю я любил, но меня тянуло к современности, и я сказал об этом А.И. Метченко. И он вновь стал моим научным руководителем.
В критике заговорили о только что вышедшем в свет романе молодого тогда Д. Гранина «Искатели». В основном хвалили. Вскоре появилась двухподвальная статья Виталия Озерова в «Литературной газете», превозносившая этот роман, как говорится, чуть ли не до небес. А я по простоте своей душевной прочитал этот роман и ужаснулся, увидев пропасть между сутью романа и тем, что о нем говорилось. Тусклый язык, описательность, худосочные характеры, плоскостное изображение жизни... Хвалили, как обычно, за содержание, новизну конфликта, борьбу молодого со старым, нового с отжившим.
В Доме культуры на Ленинских горах состоялась дискуссия об этом романе, выступили студенты, аспиранты, преподаватели. С хвалебным словом, помнится, выступил Владимир Лакшин, ставший впоследствии заметной фигурой в литературном движении 60 – 70-х годов, с резкой критикой романа выступил я. Попытался напечатать это свое выступление, но повсюду получил отказ. Может, плохо написано, успокаивал я сам себя... Вполне возможно, я ведь только приобщался к литературному труду, не подозревая о его тяжести и непредсказуемости. И, уж конечно, даже в голову не приходило, что критики могут похвалить то или иное произведение в угоду времени, разругать по велению сверху, похвалить или разругать из-за групповых или националистических пристрастий.
Между тем я был единственным, кто все еще ходил без темы диссертации.
– Возьми творчество Федора Гладкова, – сказал однажды Метченко. – Тема актуальная. Гладков недавно получил Сталинскую премию, о нем много сейчас пишут, но бегло, поверхностно, можно копнуть поглубже. Быстро защитишь...
Стал читать Гладкова... Выспренне, натужливо, монотонно. В «Цементе» есть что-то интересное, смелое, новаторское, но о романе столько уже написано. Писать о Гладкове – насиловать себя... Сказал о своих впечатлениях Алексею Ивановичу.
– Ну, возьми два последних романа Ильи Эренбурга. Очень интересная тема, можно быстро защитить...
Эренбурга я читал и отказался сразу. Из современных писателей я любил Михаила Шолохова и Алексея Толстого, но...