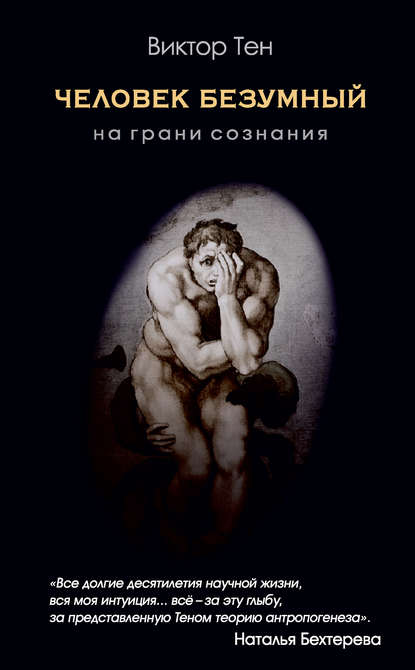По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Человек безумный. На грани сознания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если туземец заметит на своем поле слишком добрые колосья, он придет в ужас и постарается их вырвать тайком. Если слишком добрые колосья заметят другие, в селении надолго поселится страх, а хозяина поля могут убить.
«Австралиец, как указывают Спенсер и Гиллен, только почувствовав себя больным, теряет присутствие духа и готовится умереть. Это происходит не потому, что он не способен переносить страдание или бороться за свою жизнь. Дело в том, что болезнь рассматривается им как признак своей околдованности» (там же. С. 412).
Исток символического поведения
Леви-Брюль передает рассказ эскимоса: «Моя мать велела изжарить моржовый бок, и вот, когда она принялась есть жаркое, кость, которую она держала в руке, издала звук. Мать так испугалась, что сейчас же перестала есть и бросила кость на землю. Я вспоминаю, как лицо ее стало совершенно белым. Она воскликнула: «Что-то случилось с моим сыном!» И это было верно. Несколько позже она узнала, что сын ее умер» (там же. С. 415).
Прочитав последнее, я понял, откуда вышел мой любимый роман и творческий метод Гарсиа Маркеса «мистический реализм». В «Веке одиночества» Урсула, открыв кипящую кастрюлю, увидела там копошащихся червей, – и поняла, что ее сыну грозит гибель. Аурелиано Буэндиа как раз повели на расстрел.
Постоянное аффектированное восприятие, непрерывное прислушивание и приглядывание ко всему, ожидание беды с неожиданной стороны, жизнь на стреме даже во сне делали первобытных людей сверхчувствительными. Леви-Брюль приводит множество почти фантастических фактов, когда ментальное совпадало с физическим, как в случае с моржовой костью. Не случайно предсказателями являются, как правило, истерички и шизофреники.
Возникает вопрос: как они вообще могли жить в постоянном страхе? Леви-Брюль отвечает на данный вопрос длинно и подробно, я дам свою краткую интерпретацию с опорой на знание, которым наверняка обладает современный читатель.
После пережитой клинической смерти люди всегда меняются. Почти всегда меняются люди, живущие последние месяцы и дни. Часто меняются люди, побывавшие в смертельной опасности. Как правило, это перемены к лучшему. Сварливые становятся покладистыми, жестокие – добрыми, жадные – щедрыми. Люди сегодня живут так, как будто завтра уже не будет. Они стараются сегодня видеть только лучшее, быть веселыми и приветливыми, потому что не уверены, что для них наступит завтра.
Первобытные люди постоянно пребывали в пограничной психологической ситуации. Они каждый день проживали как последний. Отсюда их обычная приветливость, веселость, беззаботность, которая часто удивляла европейцев.
«Туземец чувствует такую душевную легкость, какую только можно себе представить. У него нет ни малейшей тревоги, ни малейших забот относительно того, что может принести ему завтрашний день, он живет исключительно настоящим… Однако и у этих племен, как и у других дикарей, где-то в подсознательной области таится струя беспокойства, которая временно, может быть, конечно, забыта и не проявляет себя, но тем не менее всегда налицо: это боязнь колдовства или того, что какой-нибудь знахарь из чужой группы может указать на тебя как на повинного в убийстве человека при помощи колдовства. Никто никогда не бывает в подлинной безопасности. Ничего не подозревающий человек может внезапно оказаться жертвой чьего-нибудь колдовства или обвинения в колдовстве. Разлитое во всей социальной атмосфере подозрение в колдовстве может в любой момент сосредоточиться на ком угодно» (там же. С. 491).
Полисинтетическая психика первобытных людей сваливает аффекты в ту же кучу, что и колдовство и катастрофические явления природы типа извержений вулканов и смерчей. Поэтому «они никогда не переругиваются, по крайней мере если не пьяны. Они всегда скрывают свое недружелюбие, как бы сильно оно ни было. Они неизменно разговаривают в вежливых и любезных выражениях, с самым учтивым и непринужденным видом, даже когда их сердце пожираемо завистью. Мы наблюдаем здесь лицемерие в обязательном порядке», – пишет Леви-Брюль (там же. С. 424, 425). Здесь мы видим – ни много ни мало – исток символического поведения в недрах шизофренической партиципации.
Необходимо оговориться, что символ в партиципированном сознании – это совсем не то, что в современном научном понимании, а именно знак, полностью оторванный от обозначаемого. «Символ есть в буквальном смысле слова то, что он символизирует», – пишет Леви-Брюль (там же. С. 534). Нарисованный бык – это настоящий бык. Идол предка – это настоящий предок. Гнев – это не психическое, а физическое явление, родственное урагану. Сокрытие гнева означает не его маскировку, а его отсутствие, равное прекращению порывов ветра.
Европейцев часто возмущало беспринципное соглашательство «дикарей», после чего они делали обратное тому, с чем согласились. Поэтому их часто воспринимали как обманщиков, тогда как первобытные люди воспринимали факт, что европеец с ними спорит, как гнев, а гнев как природную катастрофу или проявление колдовства какого-нибудь колдуна, находящегося неизвестно где. Они внешне мило, а в душевной глубине с опаской и страхом улыбались, согласно кивали, уходили и делали все по-своему.
С другой стороны, встречались и патологически угрюмые, невероятно жестокие, лишенные жалости ко всем, и прежде всего к самим себе, туземцы. Одно из таких племен – яномамо – описал Я. Линдблад, противопоставляя их добрым, приветливым акурио. И это тоже психологически объяснимо. Среди жестоких убийц преобладают люди, натерпевшиеся страха в детстве.
Глава III
Второй краеугольный камень:
детская психика
Как два мальчика перевернули психологическую науку
«Идея о качественных различиях в мышлении имела огромное научное значение. Ж. Пиаже заимствовал ее у Леви-Брюля и, по сути, построил на ней современную детскую психологию», – пишет психолог П. Арискин в послесловии к последнему русскоязычному изданию двух книг Л. Леви-Брюля (там же. С. 579). Данное замечание настолько верно, насколько неверен перевод книг Леви-Брюля.
«Мы многим обязаны классическим исследованиям Леви-Брюля», – не отрицал сам Пиаже (Пиаже, 2008. С. 5).
Именно исследования Леви-Брюля о специфике первобытного мышления подтолкнули молодого швейцарского психолога, жившего в 20-е годы в Париже, к исследованию интеллекта детей. Логика понятна: до Леви-Брюля ученые исходили из принципа подобия психики всех людей в филогенезе, т. е. в историческом развитии, а это оказалось не так. В психологии личности ученые исходили из принципа подобия психики на всех этапах жизни. Ж. Пиаже заподозрил, что и здесь ученые ошибаются. Практические основания для этого были всегда: дети часто веселят и удивляют взрослых, соединяя несоединимое и фонтанируя «юмором в коротких штанишках», который на самом деле никакой не юмор, мы просто не понимаем детей. Дети не юморят, подобно шутам на сцене, они в самом деле «не так думают».
«Широко известен научный парадокс, согласно которому авторитет ученого лучше всего определяется тем, насколько он затормозил развитие науки в своей области. Так вот, вся современная мировая психология детского мышления буквально блокирована идеями выдающегося швейцарского психолога Жана Пиаже… Множество последующих исследований касаются лишь уточнения эмпирических фактов, но практически не существует работ, критикующих его теории. Даже современным психологам не удается вырваться за пределы разработанной им системы», – говорится в удивительно точной аннотации к последнему русскоязычному изданию великой книги Пиаже (Пиаже. 2008, С. 2).
Книга Пиаже «Речь и мышление ребенка» впервые вышла в Париже в 1923 г. В течение буквально нескольких лет она была переведена на все ведущие языки. На русском она вышла стараниями Л. Выготского в 1932 г. Возникает вопрос: почему же она до сих пор «блокирует мировую психологию детского мышления»?
Ответ: в детском мышлении Пиаже нашел все шокирующие особенности первобытного мышления, открытые Леви-Брюлем, а это никак не вписывается в степуляционную схему постепенного, «шаг за шагом», прогрессивного развития психики без инверсии, без качественной ломки на переходе от рефлективной психики к человеческому сознанию в той форме, какая обнаруживается у детей. А также от детской, пралогической психики к логическому мышлению.
Без учета инверсии теория развития психики в онтогенезе является беспредметной в самом прямом смысле этого слова. У Пиаже есть система в понимании детской психики, а у психологов, не приемлющих ее, систем нет. Ни одной. Но даже и не это главная проблема. Психологам, психолингвистам и др. в буквальном смысле совершенно нечего сказать о детской психике. Нечем заполнить зияющий провал под названием «психика младенцев и детей дошкольного возраста». Это только кажется, что они ее научно «характеризуют», используя непроизносимую терминологию. На самом деле, это словесные манипуляции Мудрейших из Наимудрейших типа «сон не есть не сон, не сон не есть пронесон, пронесон не есть сон», как в киносказке про лампу Аладдина.
Например (да, необходимо оговориться, что детскую психику изучают главным образом по языку, т. к. техсредства для прямого изучения мозга в данном случае неприменимы), вот как характеризует детскую речь «основатель советской психолингвистики» профессор А. А. Леонтьев. В ранний период речь «лишена четырех важнейших особенностей, присущих речевым звукам: а) коррелированности; б) локализованности (в смысле артикуляции); в) константности; г) релевантности…» (Леонтьев А. А., 1999. С. 176).
Психологи дружно пишут, что в детском мышлении нет абстрактных понятий, нет связи суждений, нет умозаключений и т. д. и т. п. До сих пор многие кормятся тем, что перечисляют в своих трудах эти отсутствия всяких присутствий.
Того нет, этого нет… Совсем как у Берлиоза, которому удивлялся Воланд в самом известном романе Булгакова («Да что ж такое? Чего ни хватишься, ничего у вас нет!»).
Если хочется порассуждать о том, чего где-то нет, можно взять пустую банку и начать перечислять, чего в ней нет: ни соли, ни сахара, ни даже таракана или поросячьего хвостика… Особенно пива нет… Вениамин Ерофеев большую книгу мог бы написать, оттолкнувшись от такого предлога, потому что талантливый был человек, не то что некоторые ученые, излагающие научные теории в подобном стиле. Назовите наукой тексты в стиле повести «Москва – Петушки», почему нет? Другие же называют свои перечисления всего того, чего где-то нет, наукой.
«Пиаже попытался раскрыть качественное своеобразие детского мышления с его положительной стороны, – пишет Выготский. – Прежде интересовались тем, чего у ребенка нет, чего ему недостает по сравнению со взрослым, и определяли особенности детского мышления тем, что ребенок не способен к абстрактному мышлению, к образованию понятий, к связи суждений, к умозаключению и пр. и пр. В новых исследованиях в центр внимания было поставлено то, что у ребенка есть, чем обладает его мышление в качестве отличительных своих особенностей и свойств» (Выготский, 1982. Т. 2, С. 24).
Выготский написал это почти сто лет назад. Но до сих пор подавляющее большинство психологов рассуждают о том, чего нет, а не о том, что есть в психике детей. Их, как детей, пугают «слишком смелые» идеи Пиаже о том, что в детском мышлении есть: аутизм, эгоцентризм, неразличенность психического и физического миров, равнодушие к противоречиям, непроницаемость для опыта. Пиаже использует те же термины, которые Леви-Брюль использовал для характеристики партиципированного мышления первобытных людей.
Пиаже изучал детскую психику, разумеется, через язык. Причем первый опыт, легший в основу его великой, хотя и небольшой, книги «Речь и мышление ребенка», был прост, как все гениальное. Он в течение месяца отслеживал речь двух мальчиков, записывая буквально все. Кроме того, записывал высказывания детей, с которыми мальчики общались. Эти два 5-летних мальчика, Эз и Пи, перевернули психологическую науку так, что она до сих пор не может оправиться от шока. Удивительно, почему до молодого Пиаже никто не догадывался просто прислушаться к детям, вместо того чтобы рассуждать о детской психике, слушая самого себя, старого ученого дурака?
Разумеется, толчком послужило прочтение книги Леви-Брюля в 1922 г., – Пиаже буквально сразу же поехал с двумя помощницами в Дом малюток Института Ж.-Ж. Руссо.
Остается удивляться, кому пришло в голову присвоить этому учреждению имя Руссо. Великий гуманист Жан-Жак жил со своей служанкой, прижил с ней не то 7, не то 9 детей. Всех, отрывая от груди бесправной матери, сдал в различные Дома малюток, которые в XVIII в. представляли собой страшные учреждения. Дети являлись источником заработка для их содержателей. Они сдавали детей в аренду мануфактурщикам, которые принуждали малюток работать по 14 и более часов в сутки. Содержатели отправляли детей на улицы побираться и жестоко наказывали за недостаточную результативность. Жизнь детей в таких учреждениях XVIII–XIX вв. описали Г. Мало в романе «Без семьи» и П. Зюскинд в романе «Парфюмер». В XX в. это были уже гуманные учреждения, под контролем государства.
Особенности детского мышления
Мальчики работают в группе других детей 5–7 лет:
«Пи (Эзу, рисующему трамвай с прицепным вагоном): «Но у них нет флажков, у трамваев, которые прицеплены сзади». (Ответа нет.)
(Говоря о своем трамвае): «У них нет прицепных вагонов…» (Ни к кому не обращается. Никто не отвечает.)
(Обращаясь к Беа): «Это трамвай, у которого нет вагона». (Ответа нет.)
(Обращаясь к Ге): «У этого трамвая нет вагонов, Ге, ты понимаешь, ты понимаешь, он не красный, ты понимаешь…» (Ответа нет.)
(Лев говорит громко: «Смешной месье!» – на известном расстоянии и не обращаясь ни к Пи, ни к кому другому.) Пи: «Смешной месье!» (Продолжает рисовать свой трамвай) (Пиаже, 2008. С. 13, 14).
Записаны были сотни разговоров, проанализировав которые Пиаже заметил первое, самое очевидное, отличие детской речи от речи взрослых. Речь взрослых людей всегда диалогична, даже если по форме это монолог. Все монологи за сценой, на сцене – по сути диалоги. Гневный монолог женщины перед кастрюлями подразумевает отсутствующего слушателя в лице непутевого мужа. Даже внутренняя речь есть диалог, даже если мы обращаемся к самим себе, потому что у нормальных людей всегда присутствует саморефлексия, хотя бы в хрестоматийной форме: «Эх, какой я был дурак!» «Взрослый даже в своей личной и интимной работе, даже занятый исследованием, не понятным для большинства ему подобных, думает социализированно, имеет постоянно в уме образ своих сотрудников или оппонентов, реальных или предполагаемых… Этот образ его преследует в процессе работы и вызывает как бы постоянную умственную дискуссию», – пишет Пиаже (там же. С. 40). У детей все по-другому.
«…Можно видеть около десятка детей, каждого за своим столом или группами по двое или по трое, говорящих каждый для себя и нисколько не думающих о соседе» (там же. С. 20). «Подобный образ действий можно найти у некоторых взрослых, оставшихся недоразвитыми (некоторых истериков, если называть истерией нечто, происходящее из детского характера)» (там же. С. 23).
Пиаже начинает с этого простого факта: речь детей монологична, даже если они работают в группе.
Детская речь монологична, даже если по форме это диалог, как в приведенном примере. Эз и Пи, их друзья – это уже большие дети (5–7 лет), вполне разумные, это уже остаточный монологизм, но при этом насколько заметный! Они не ждут ответа, они не отвечают, они даже к самим себе не обращаются. Они просто говорят в никуда. «Слово здесь исполняет лишь функцию возбудителя, но никак не сообщения» (там же. С. 21). «В заключение надо сказать, что общей чертой монологов этой категории является отсутствие у слова социальной функции» (там же. С. 22).
До Пиаже все были уверены, что слово изначально несет социальную функцию, что оно появляется для коммуникации. Многие и до сих пор продолжают это утверждать.
Далее Пиаже вводит понятие, противоречивое в себе, оксюморон: «коллективный монолог», в котором сообщается «псевдоинформация». Отличие от простого монолога заключается в том, что ребенок хочет обратить на себя внимание, часто произносит слово «Я». «Но по своему содержанию они являются точным эквивалентом монолога: ребенок лишь думает вслух о своем действии и вовсе не желает ничего никому сообщать» (там же. С. 23, 24).
«…В кафе у кафедрального собора три чудака ведут три разговора» (Мандельштам или Кузмин, не помню). Но то ведь чудаки, а не дети. Для детей это, оказывается, не чудачество, а норма.
Возможно, коллективные представления первобытных людей формировались тоже в ходе коллективного монолога? В экстатических танцах, длящихся сутками, до изнеможения, все что-то выкрикивают…
Еще одна особенность детской речи и поведения – эхолалия.