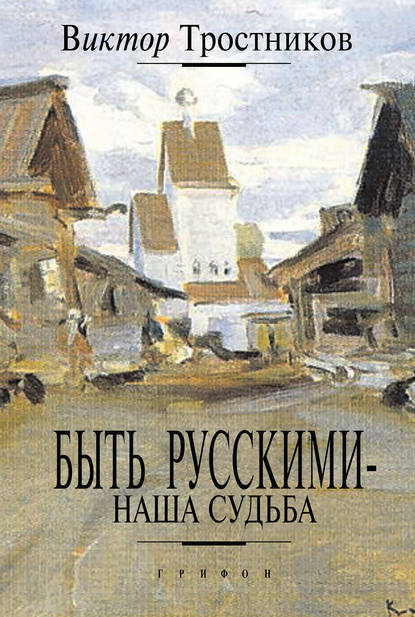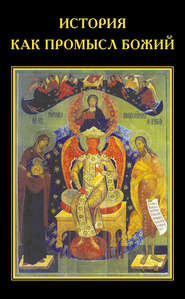По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Быть русскими – наша судьба
Год написания книги
2009
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Подоплёка странной философии
Читая философские трактаты Беркли, Канта, Фихте и Гегеля, спрашиваешь себя: неужели эти интеллектуальные упражнения, перегруженные усложнёнными абстракциями и искусственными новыми понятиями, могли найти отзвук не только в узком кругу любителей умозрительных построений, но и в среде обычных, не приученных к этим умственным упражнениям читателей? Сама жизнь дала ответ на этот вопрос. Все четыре автора стали широко известными, а последние три из них, вместе с Шеллингом и Фейербахом, образовали ядро «немецкой классической философии», которая считается одним из высочайших достижений человеческого разума Нового времени. Реакция рядового читателя на их заумные логические конструкции была почти всегда одной и той же: непонятно, но здорово!
Чем же так подкупила европейскую общественность странная философия, взявшаяся перелицовывать прежние представления о мироустройстве? Именно тем, что к началу XIX века такая перелицовка стала настоятельной необходимостью, и то, что сделали упомянутые выше мыслители, было добровольным выполнением социального заказа. А тот, кто добросовестно поработал, достоин прославления.
Заказ этот созрел давно. И хотя он действительно был обусловлен реалиями социального развития, его первопричиной было нечто совсем другое – воля европейского человека, или, что то же самое, данная ему сотворившим его Богом свобода (о том, что «воля» и «свобода» синонимы, напоминают нам такие фразы, как, например, «В 1861 году русским крестьянам дана была воля»).
Учёнейшие люди, которым публика привыкла безоговорочно доверять (против науки не попрёшь!), – историки, социологи, политологи, футурологи и тому подобное, разработали весьма сложную методику диагностики общественных явлений и ввели в свой научный обиход множество специальных понятий, помогающих им лучше разобраться в том, что происходило в прошлом, происходит сегодня или произойдёт завтра с беспокойным человечеством. И они не даром едят свой хлеб: во многих вопросах их выводы и рекомендации оказываются очень правильными и полезными. Но понять природу самых важных, судьбоносных, определяющих ход всей мировой истории процессов эти высокоумные интеллектуалы чаще всего как раз не способны, ибо суть таких процессов проста до примитивности, а если учёный сделает простой вывод, люди скажут: а зачем же он учился?
То, что начало происходить в Европе около XV века и изменило всю дальнейшую судьбу не только её жителей, но и всех людей на свете, было простым до банальности. В очередной раз повторился бесхитростный сюжет Адама и Евы, захотевших стать как боги (Бытие 3, 5). Эта фабула у потомков Адама будет повторяться неоднократно, ибо наклонность к тому, чтобы поддаваться соблазну сменить свой статус богоподобия на статус божественности, стала, видимо, у нас наследственной. Печальный урок изгнанных из рая прародителей ничему нас не учит.
Не так уж много времени прошло после первородного греха, и вот уже гордые вавилоняне возводят свою громадную башню, чтобы забраться на самый её верх и, стуча в медные тазы и размахивая швабрами, прогнать с неба богов и возвести в их ранг себя самих. Наказание в виде смешения языков не заставило себя ждать, но, когда память о нём потускнела в череде поколений, древнее искушение снова начало испытывать людское благоразумие.
В этой регулярно повторяющейся истории имеется одна замечательная закономерность. Люди поднимают бунт против Бога в тот момент, когда, благодаря не кому иному, как тому же самому Богу, они добиваются в своей деятельности впечатляющих результатов и достигают благополучия. Казалось бы, вот теперь-то и открывается перед ними счастливая возможность вести «тихое и безмолвное житие во всяком благочестии и чистоте», как христиане молят об этом Господа в просительной ектений, но тут у нас разыгрывается аппетит, нам становится мало того, что у нас есть. Вообразив, что всё это создано нашими собственными руками и что этими же руками мы способны сотворить такое, что сделает жизнь небывало прекрасной, мы впадаем в эйфорию, выходим на улицу и хором запеваем: «Мы на небо залезем, разгоним всех богов», так как они, по нашему убеждению, будут только мешать нам строить лучезарное будущее.
Эта пошловатая схема сработала и в XV веке в христианской Европе. Именно благодаря христианству, научившему их терпению, целеустремлённости, личному аскетизму, честности и добросовестности в труде, европейцы сумели разумно организовать свою общественную жизнь, освоить сложные ремёсла, наладить торговлю и мореплавание, создать великое изобразительное искусство и потрясающую архитектуру. И как раз в этом блистательном искусстве, на высшей точке его взлёта, начали проявляться видимые признаки «головокружения от успехов»: лучшие мастера вместо прославления Бога, в чём прежде видели главную свою задачу, начали с тем же самым пафосом прославлять человека. Вглядитесь, например, во фреску Микеланджело «Страшный суд» на стене Сикстинской капеллы. В центре её композиции Христос решительным рубящим движением правой руки рассекает людское стадо на овец и козлищ. Но каков этот Христос! Перед нами могучий атлет, эдакий чемпион мира по культуризму, образец телесного совершенства и физической силы. Очевидно, что художник, его нарисовавший, любуется его мускулатурой, которую изображает со знанием дела, как любовались мышцами гладиаторов понимавшие в этом толк древние римляне. Вот оно, «Возрождение»? – возродилось восхищение человеческой плотью, свойственное языческой Античности. Христос, конечно, как это подчёркивали четыре Вселенских собора с третьего по шестой, имеет в себе две природы – Божественную и человеческую, так что формально Микеланджело не противоречит догмату, но у Церкви Христос Богочеловек, а у него человекобог, ибо человеческая, плотская составляющая прямо-таки выпирает наружу на фреске, а духовная вообще не отражена. И нет уже в XV веке икон, а есть изящные женские портреты, на которых под видом Девы Марии изображаются прекрасные итальянки. Первый робкий шажок к тому далёкому будущему, когда некая певичка, вовсе не такая уж и прекрасная, открыто назовёт себя Мадонной и все будут с восторгом повторять за ней это самопровозглашённое имя. И первый, уже не робкий шаг к «коперниковской революции», требующей перемещения центра бытия.
Но одними художественными средствами, которыми пользовался итальянский Ренессанс, довести эту революцию до конца было невозможно: они пригодны лишь для создания психологических предпосылок свершения революции. Оттого, что мы любуемся красотой и талантами человека, он становится лишь главным украшением мира, но не его истинным центром – там же находится Бог! Правда, можно, в принципе, заявить, что никакого Бога вообще нет, но на такое радикальное высказывание люди долго не могли решиться. Да и Церковь, имевшая тогда огромную силу, сразу крутыми мерами пресекла бы такое вольнодумство. А что если, не оспаривая основного догмата Церкви о существовании единого в Трёх Лицах Бога, подправить некоторые второстепенные догматы таким образом, чтобы человек всё-таки оказался центральной фигурой сущего? К началу XVI века необходимость в такого рода богословской софистике стала чрезвычайно актуальной, особенно в Северной Европе, где был достигнут самый высокий для того времени уровень материального развития. А коли есть спрос, непременно будет и предложение. Адаптированную к антропоцентрическому мировоззрению религию первым предложил настоятель кафедрального собора города Виттенберга в Саксонии Мартин Лютер, и она тут же была подхвачена многими богословами в немецких землях, в Швейцарии, Голландии, а потом и в Англии.
Это – редчайший случай, когда грандиозный идейный переворот, потрясший весь мир, имеет точную дату: 31 октября 1517 года (интересно, что другой грандиозный переворот, отозвавшийся на всей планете, тоже произошёл в семнадцатом году, только не шестнадцатого, а двадцатого столетия). В этот день Лютер прибил к двери Виттенбергского собора 95 возражений против продажи Церковью индульгенций. Это был, конечно, бунт, поскольку финансовое благополучие католической Церкви во многом было обязано торговле индульгенциями – квитанциями, подтверждающими отпущение таких-то грехов такому-то человеку. Узнав о бунтаре, папа пришёл в ярость и попытался доставить его в Рим для разбирательства. Но произошло неожиданное: курфюрсты немецких княжеств прикрыли диссидента, заявив Святому престолу: руки прочь от нашего Лютера! Дело в том, что его демарш был на руку их политическим интересам, ибо содействовал ослаблению давно уже тяготившей их зависимости от Рима.
Сменившее Средневековье Новое время обычно отсчитывают от года открытия Америки Колумбом —. 1492 год. Это крайне неудачная датировка. Во-первых, Колумб ничего не открыл, поскольку задолго до него скандинавы плавали на североамериканский континент и даже основали там постоянное поселение, недавно раскопанное археологами. Во-вторых, ни сам Колумб со спутниками, ни пославшая его в экспедицию испанская королева Изабелла не знали, что это новый материк, полагая, что это край Азии (Вест-Индия). В-третьих, высадка экипажа каравеллы Колумба на нынешнем Гаити не привела к каким-либо изменениям в политической или экономической жизни Европы – они начались гораздо позже, когда последующие колонисты взялись за хозяйственное освоение Нового Света. Новое время надо, несомненно, отсчитывать от 1517 i о. ia – на 25 лет позже, чем это принято. Именно этот год ознаменовал начало цепной реакции, охватившей Европу и повернувшей её на новый путь развития. Не сумев истребить заразу на корню, папа прислал Лютеру буллу, отлучавшую бунтаря от Церкви, а тот публично её сжёг – и его популярность сильно возросла. В 1529 году на 2-м Шпейерском рейхстаге Церковь осудила лютеран, как еретиков, и они тут же подали на это официальный протест, после чего и стали именоваться протестантами. Потом пошли уже прямые кровопролития – в 1573 году Варфоломеевская ночь, с 1618 по 1648 год Тридцатилетняя война, отражённая в бесчисленных романах, в частности в «Трёх мушкетёрах» и «Королеве Марго» Александра Дюма. Завершилось это перетягивание каната в 1789 году Великой Французской революцией – окончательной победой протестантизма.
В чём же состояла догматика нового верования, которое сразу же было принято Северной Европой на ура, как нечто давно ожидаемое и весьма желанное? Вот его основные постулаты.
1. Войдёт в Царство Божие тот, и только тот, кто имеет в своём сердце веру во Христа, даже если эта вера ни в каких делах не выражается и потому о ней никто не знает, кроме его самого.
2. Всякий мирянин может самостоятельно изучать Евангелие и понимать его так, как считает правильным.
3. Никаких «таинств» не существует – это выдумки Церкви (исключение некоторые протестантские толки делают только для крещения).
4. Институт монашества является вредным, не спасительным и должен быть упразднён.
О более мелких вероисповеднических положениях мы здесь говорить не будем, тем более что относительно их нет единого мнения среди самих протестантов, быстро разбившихся на бесчисленное множество сект. Это было закономерным следствием второго догмата. Результатом же третьего догмата стало то, что протестанты лишились священства, ибо священником является тот, над кем совершено таинство рукоположения, а таинств у них нет. Протестантов наставляют на путь истинный не пастыри, а пасторы – уважаемые люди, грамотные в богословском отношении, чьи проповеди ничем не отличаются от лекций мирских просветителей. Дух протестантизма, выраженный его догматикой, как всё, обладающее свойством овладевать миллионными массами, предельно прост, в нём смешаны три различные установки: антицерковности, индивидуализма и рационализма. Они-то и одурманили Европу и сделали её зависимой от них как от наркотика. Сравнение это вполне уместно: как и наркотик, эти три установки подменяют наше многокрасочное, многоголосое, многоплановое и полное противоречий, распутывая которые мы обогащаем свой внутренний мир, восприятие жизни, искусственным существованием по плоской схеме и тем самым значительно упрощают для нас решение возникающих при взаимодействии с окружающим миром проблем. Простота же решений есть комфорт, а к комфорту как раз больше всего и привыкаешь после того, как его испытаешь. Зачем тратить время на долгие церковные богослужения, рано вставать, куда-то ехать – ведь можно просто почитать дома Евангелие. Результат тот же (говорит нам Лютер), а удобно. Зачем взваливать на себя какие-то обязательства перед обществом – не спокойнее ли стать эгоистом и обслуживать собственные потребности? Что толку в эмоциях, в кипении чувств – Господь дал нам разум, вот и надо им пользоваться для хладнокровного просчёта всех ситуаций и нахождения оптимального ответа на каждую из них. Представляете, сколько освободится времени и сил, если придерживаться такой идеологии? Правда, тут могут спросить: а что делать с этим временем и на что направить эти силы – не сидеть же сложа руки. Разумеется, нет – их надо отдать какому-нибудь конкретному делу, не требующему нервного напряжения и приносящему осязаемые плоды, не важно какому, пусть даже неблаговидному, – ведь спасают не дела, спасает только вера. Если у тебя в душе есть вера, иди работать хоть палачом, старайся, выполняй свои обязанности добросовестно, и получишь от этого внутреннее удовлетворение, а по кончине войдёшь в Царство Небесное.
Религиозная санкция на любой род человеческой деятельности, данная протестантизмом, немедленно привела к принципиальному изменению всего уклада жизни в Северной Европе – к возникновению там капитализма. Существование тут прямой причинно-следственной связи убедительно доказал немецкий историк и социолог Макс Вебер (1864–1920) в своей блестящей работе «Протестантская этика и дух капитализма». Капитализм, по Веберу, возник в Европе потому, что протестантизм благословил сразу два необходимых для его развития рода деятельности (наряду с любыми другими) – ростовщичество и эксплуатацию трудящихся, которые раньше считались греховными, осуждались Церковью и потому не могли получить широкого распространения. Теперь любителям наживы были развязаны руки и они развернулись вовсю, вовсе не чувствуя себя нарушителями заповедей, обречёнными на вечную муку. Так новая религия, продолжая называть себя христианской, подготовила индустриальную революцию.
Не менее важным обстоятельством является то, что протестантизм породил великую европейскую науку, вернее, точные науки и естествознание (то есть то, что по-английски именуется science). Она появилась только в XVII веке, хотя интенсивно развивающееся европейское хозяйство давно в ней нуждалось. Спрашивается: почему же она не появилась раньше? В данном случае приходится согласиться с тем ответом на этот вопрос, который злорадно дают атеисты: её душила Церковь. Это не пропаганда, это правда. Дело в том, что наука в указанном понимании этого слова есть не что иное, как исследование свойств физической материи и создание теоретической модели, позволяющей предсказывать её поведение. Такая модель реализуется в перечне имеющих математическое выражение «законов природы». Чтобы открывать эти законы, отдавая этому занятию всю свою жизнь, учёный должен предполагать, что они неизменны и вечны: если бы они были сегодня одни, а завтра другие, какой бы был смысл их формулировать? Но их неизменность и вечность означает то, что они «встроены» в саму материю, как говорят философы, имманентны материи, то есть составляют её неотъемлемую внутреннюю характеристику. Иными словами, учёному, вглядывающемуся в поведение материи, методологически удобно считать, что это поведение не зависит ни от каких посторонних влияний, то есть что материя представляет собой субстанцию – самодостаточную и замкнутую в самой себе данность. Но тут его одёргивает Церковь, говоря: у тебя нет права на такую презумпцию, материя сотворена Богом и им держится, её поведение определяется Его о ней замыслом. Поэтому, чтобы её познать, надо в первую очередь познать этот замысел, а это может только богословие, и с ним тебе с самого начала необходимо советоваться. Учёному же эта принудительная опека со стороны религии не могла нравиться, и в нём накапливались относящиеся к Церкви отрицательные эмоции, легальный выход которым дал протестантизм. Уже этим он порадовал науку, а кроме того, как ей было не благодарить его за санкцию заниматься любым делом, лишь бы оно делалось добросовестно, в частности и исследованием тварной материи, отвлекаясь от мысли об её Творце. Как только такое абстрагирование стало легитимным, наука начала подниматься как на дрожжах, и что примечательно, – все её «отцы-основатели» – Декарт, Паскаль, Ньютон, Лейбниц и Гюйгенс – были по своим убеждениям протестантами.
Конечно, вмешиваясь в дела науки, католическая Церковь была не права. Верно, что материю создал Бог, верно, что Он же наложил на неё законы её поведения, верно и то, что Он в любом месте и в любой момент может отменить эти свои законы, что бесчисленное число раз наблюдалось в феномене чуда, – например, в мироточении икон локально и временно отменяется закон сохранения материи, и маслянистая ароматная жидкость появляется на образе, возникнув «из ничего». Но учёные и не возражают против этого – их ведь учили Закону Божию, и они помнят слова молитвы «Бог идеже хощет побеждается естества чин». Они просто хотят понять, как ведёт себя материя, когда она предоставлена Богом самой себе, а чудеса, которые могут с ней происходить, уже не в их компетенции. А поскольку чудеса довольно редки, разве будет плохо, если мы точно будем знать, как ведёт себя материя в остальное время?
Невозможно поверить, чтобы все церковники были настолько тупы, чтобы не счесть такую аргументацию весьма разумной. Но папский Престол за Средние века так привык контролировать в Европе всё и вся, что не захотел терять контроль над деятельностью учёных ни на какой её стадии. Что бы они ни делали, твердил им: посоветуйтесь сначала с богословами, они лучше вас знают, какие законы мог Господь предписать товарному миру, а какие не мог. Доказал же Фома Аквинский, что философия – служанка богословия, и это утверждение распространяется и на натуральную философию, то есть на физику. А вот это было со стороны Церкви уже превышением полномочий, ибо даже сам великий Фома Аквинский не может проникнуть в мысли Бога, чья воля неисповедима. Замахнуться на это не может никто, а если кто замахнётся, будет непременно посрамлён. И такое посрамление богословия, вмешавшегося в науку, действительно произошло в истории и привело к сильному падению авторитета Церкви, если не сказать – к её позору. Речь идёт, разумеется, о пресловутом вопросе о том, что вокруг чего вертится – Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Церковь решительно стояла на первой точке зрения, ибо все шесть дней творения, описываемые в Книге Бытия, были нацелены на последний, шестой день, когда Бог увенчал созданный Им мир человеком, поместив его на земле. Раз человек есть центральное существо по своей ценности для Бога, значит, и земной шар, на котором он живёт, должен быть центральным объектом вселенной. Логика вроде бы железная, но оказалось, что у Бога другая логика, и ценностные категории Он никак не связывает с пространственными. Не надо думать за Бога, даже если ты магистр теологии.
Ни Коперник, ни Галилей не хотели конфликтовать с Церковью – они были глубоко верующими христианами. Но они показали всему миру, что она может ошибаться, так что её мнения не являются непогрешимыми. А вскоре к её мнениям вообще перестали прислушиваться, ибо на большей части Европы воцарилась протестантская цивилизация, антицерковная по самой своей природе. Богословие было вытеснено в ней куда-то на обочину культурной жизни (стоит ли тратить усилия на изучение Бога, который и так у тебя в сердце), а наука была возведена на пьедестал и объявлена всемогущей. В общем, Новое время оснастило себя всем, что было ему нужно, и, казалось, могло торжествовать и вершиться всем на радость. Но одного ему всё же не хватало, и это одно было именно тем, из-за чего всё и началось. Убедительное доказательство тому, что центральное место в мире по праву принадлежит человеку, а не Богу, всё ещё отсутствовало.
Да, ссылаясь на достижения науки и техники, кричали: «Воля и труд человека дивные дивы творят!» Но это было возвышение человека по факту, по эмпирическому материалу, а для полного завершения начатого всё ещё недоставало теоретического доказательства божественности человека. Прежде такое доказательство надо было бы искать в богословии, но у протестантов оно стало второстепенной отраслью знания, а его место в качестве носительницы универсальной истины заняла его бывшая служанка – философия. Значит, требуемое доказательство нужно было вырабатывать ей.
* * *
Вот мы и подошли к разгадке сути того социального заказа, который вызвал к жизни странную тяжеловесную немецкую классическую философию и обеспечил ей, несмотря на её искусственность и заумность, неимоверную популярность. Кант и Гегель были возвеличены и прославлены по той же причине, по которой за пятьсот лет до этого был возвеличен и прославлен Фома Аквинский. Последний создал философию католицизма, а первые двое – философию протестантизма, в которой народившаяся цивилизация остро нуждалась.
После Гегеля, объявившего, что отныне уже не будет никакой другой философии, ибо в его системе раскрылась для себя и для людей Абсолютная Истина, протестантская цивилизация окончательно уверовала в то, что она одна на всём свете является подлинной цивилизацией и её священный долг-распространяться на весь мир, сделав ныне отсталые народы просвещёнными, разумными и счастливыми. Об уроке Древнего Рима, одержимого той же идеей вселенского мессианства и плохо кончившего, она в своей эйфории не вспоминала.
Глава 3
В преддверии двадцатого века
События, о которых мы рассказывали, развёртывались на просторах Западной Европы, а точнее – Северо-Западной. Естественно, что отзвуки этих событий прежде всего должны были коснуться остальных частей континента, в частности России. Её отношения с западными соседями с самого начала были очень тесными: шла оживлённая торговля, иностранные специалисты приглашались нами для выполнения различных заданий – например, итальянцы построили стены и несколько соборов Московского Кремля. Иногда возникали столкновения (как при попытке поляков посадить на русский трон Лжедмитрия), но в основном взаимодействие было конструктивным и плодотворным для обеих сторон. Но это взаимовыгодное общение на равных продолжалось ровно до тех пор, пока не появилась протестантская цивилизация, и Западная Европа обрела совершенно другой облик.
Протестантизм стал доминирующим фактором в Европе в результате Тридцатилетней войны. Она завершилась в 1648 году. Что происходило в это время в России? Интенсивное восстановление её государственности, разрушенной в период Смуты. Быстрому материальному восстановлению страны сопутствовал мощный духовный подъём. И первый, и второй представители новой династии Романовых показали, что Земский собор не ошибся в выборе, и умело руководили возрождением отечества. В 1649 году факт его возрождения был констатирован в «Уложении» Алексея Михайловича, своеобразной Конституции. И, заметьте, она была принята как раз в то время, когда на Западе начали сказываться последствия Тридцатилетней войны. Таким образом, к середине XVII столетия возникает совершенно новая геополитическая раскладка: в качестве главных игроков европейского материка вместо католического Запада и России Рюриковичей на сцену выходят протестантский Запад и Россия Романовых. С этого момента их сложные взаимоотношения становятся главной интригой европейской духовной жизни.
Протестантский мир после Тридцатилетней войны стал настолько убеждённым, что он есть лучший из миров, что не сомневался: все народы, к нему не принадлежащие, завидуют ему и хотели бы построить свою жизнь так же, как строит он. Тут вспоминается Лев Толстой, который писал в «Войне и мире», что хуже всех и противнее всех самоуверен немец, потому что он верит в науку, которую сам выдумал, и считает её абсолютной истиной. Очень меткое наблюдение, если под «немцем» понимать всякого, кто принадлежит к зародившейся в Германии, но быстро вышедшей за её рамки протестантской цивилизации. Самоуверенность и самодовольство зачастую смягчали форму проявления экспансионизма протестантов: они считали, что насаждение своего образа существования не нуждается в завоевательных войнах, ибо стоит соседям познакомиться с тем, как у них устроена жизнь, они тут же сами сделаются протестантами. Иными словами, они делали ставку не на внешнюю, а на внутреннюю агрессию; не на солдат, а на пропагандистов и агентов влияния.
И эта тупая «немецкая», как её квалифицировал Толстой, самоуверенность часто оправдывалась. Во всяком случае, она оправдалась при Петре Великом. Этот царь вырос в Немецкой Слободе Москвы среди немцев, швейцарцев и французов, и ему очень нравились их манеры, а речи казались такими умными, каких не услышишь от русских собеседников. А вскоре после восшествия на трон Пётр отправился в длительное путешествие по странам Северной Европы и там был окончательно покорён протестантской цивилизацией и, вернувшись в Россию, стал внедрять здесь её ценности, используя для этого все средства, включая принуждение. Своей царской властью (а она была у него безграничной) он заставлял своих подданных брить бороды, носить камзолы, устраивать ассамблеи и вообще копировать немцев, голландцев и англичан. Это вызывало недовольство народа, но что народ мог сделать против грозного властелина. В поэме Есенина «Песнь о великом походе» провинциальный дьячок возмущается публично поведением царя: «Видно, делать дураку больше нечего – принялся он Русь онемечивать», но молодой стрелец тут же доносит на смутьяна Петру, и тот расправляется с незадачливым дьячком самолично.
И всё же ни Петру, ни Анне Иоанновне, при которой на Россию как саранча налетели немцы, получая самые высокие должности, не удалось нас онемечить, точнее, навязать нам протестантские критерии добра и зла. Но реформы Петра сильно изменили Россию, приблизив уклад её жизни к западному. Чем это было для неё – благом или бедой? Этот вопрос можно сформулировать точнее: хорошо или плохо было бы, если бы русская православная цивилизация переродилась в цивилизацию североевропейского типа?
Уже в правление Алексея Михайловича этот вопрос стал для России не просто очень важным, но ключевым, ибо от ответа на него зависела её дальнейшая судьба и даже само её существование. Остаётся он главным вопросом и сегодня, спустя три с половиной столетия после первой его постановки, хотя исторический опыт двадцатого века, похоже, не оставляет сомнения в том, как надо на него ответить. Но этот опыт ведь необходимо серьёзно осмыслить, только тогда выводы будут убедительными. Этим осмыслением мы как раз и будем заниматься в следующих главах. А пока посмотрим, как отвечали на вопрос вопросов в прежние времена.
Окружение Алексея Михайловича и он сам заняли чёткую позицию: надо заимствовать у Запада всё практически полезное – технические новинки, научные достижения, оснащение армии и принципы её формирования и тому подобное, но свято хранить свою веру и не поступаться ни одной из традиционных духовных ценностей, завещанных предками. Это – позиция почвенничества. Пётр, как мы знаем, начисто её отверг и стал первым в нашей истории убеждённым западником. В дальнейшем несогласие между почвенниками и западниками сделалось основным источником разности потенциалов, приводящей в движение наши общественные и государственные механизмы. Перефразируя Гоголя, можно сказать, что без этих разногласий Россия задремала бы, так что в них была и некоторая польза.
При Елизавете Петровне, Екатерине Великой и, по сути, при Павле Петровиче контрольный пакет был в руках почвенников. Западничество в этот период, несмотря на отдельные издержки, не занимало господствующих позиций. Звание русского человека зазвучало гордо. Русский патриотизм определял настроение общества. В этой благоприятной атмосфере нация дала стране целое созвездие блестящих талантов во всех областях – от науки и искусства до политики и военного дела. При Елизавете выдвинулись Ломоносов и Иван Шувалов, при Екатерине – плеяда знаменитых «екатерининских орлов», а при Павле Суворов поразил мир своей фантастической «италийской кампанией». Чуткий к общественным настроениям юный Пушкин с пафосом восклицал в начале XIX века: «Румянцев и Суворов, потомки грозные славян, перуном зевсовым победу похищали, их грозным подвигом, страшась, дивился мир, Державин и Петров героям песнь бряцали струнами громозвучных лир». Но особенной силы достигло наше национальное чувство в ходе войны с Наполеоном. Когда огромное войско «двунадесяти языков» вторглось в наши пределы, все граждане России почувствовали себя русскими – независимо от своего этнического происхождения. Русскими стали и шотландец Барклай де Толли, и немец Вейротер, и серб Милорадович, и француз Ланжерон, и грузин Багратион, не говоря уже о тех природных русаках, которые не очень-то задумывались о том, какая кровь в них течёт, а теперь осознали это очень остро. Это охватившее всех ощущение своей русскости, а не стратегические хитрости наших полководцев и позволило нам победить великого Наполеона, ибо каждый почувствовал, что над ним нависает угроза перестать быть русским и что это означает перестать жить. До сердца всякого человека, жившего в России, дошло, что он может быть либо русским, либо никем; – не по национальности только, а никем вообще, никем как личность. И как писал Толстой, дубина народного гнева гвоздила агрессоров до тех пор, пока ненависть к ним не сменилась презрением и жалостью.
Победа в Отечественной войне 1812 года высоко подняла международный престиж России, сделала её главной державой тогдашнего мира. Триумфально вошедшего во главе русской армии в самое логово непобедимого Бонапарта – Париж, автора идеи Священного союза Александра начали именовать Властелином полумира. Вернувшись из заграничного похода домой, царь продолжил работу над реформами, хотя и не всегда последовательно. Целью, которую он поставил в самом начале своего царствования, было превращение России из страны, где монархи возводятся на престол путём дворцовых переворотов, в правовое государство (где главное – не воли отдельных личностей, а внятное и твёрдое законодательство; император же является главным гарантом его соблюдения). В деле введения российской жизни в предсказуемое русло Александр Благословенный достиг ощутимых успехов. Но осуществить основную свою мечту – освобождение крестьян от крепостной зависимости – Он так и не смог. Тому были разные причины (вспомним хотя бы революционные потрясения в Европе 1820-х годов). Укажем главное: в тот самый момент, когда Россия достигла вершины славы и могущества и перед ней открылись широкие перспективы дальнейшего развития, в ней начали активизироваться и объединяться в тайные общества западники, ставившие целью свержение монархии и устроение жизни в стране по европейскому образцу.
Причём большинство заговорщиков оказалось дворянами (порой весьма родовитыми) – представителями сословия, более других обласканного царской властью и удостоенного многих привилегий. Читатель, конечно, понял, что речь идёт о декабристах.
Этот феномен достоин того, чтобы над ним поразмыслить, поскольку сюжет, озадачивший двух императоров – Александра I и Николая I, – будет регулярно повторяться в нашей истории. Существует поговорка «От добра добра не ищут», однако возникает впечатление, что русские руководствуются не этим правилом, а прямо противоположным и от добра начинают искать ещё большего добра. Даже самая злая собака лижет руку своего хозяина, ибо знает, что эта рука даёт ей пищу, а у нас всё наоборот: чем более сытой по милости власти становится какая-то социальная группа, тем больше она начинает ненавидеть власть. Лев Толстой никак не мог пожаловаться на то, что цари обижали его предков или его самого, но он был ярым антимонархистом. Как-то к нему в Ясную Поляну приехал Тургенев и сообщил последнюю новость: на Александра Второго было покушение. Толстой так и замер в нетерпеливом ожидании: «Ну и что?» – «Попытка не удалась, – ответил Тургенев, – царь жив и невредим». – «Как жаль!» – вырвалось у «великого писателя земли русской». Этот эпизод поразителен. Совершенно непонятно, за что же Толстой так ненавидел царя, освободившего русских крестьян от рабства, а потом избавившего болгар и сербов от османского ига? Это нечто иррациональное. Он ненавидел не только Александра Николаевича, но и всех русских царей и в «Войне и мире» изобразил одного из самых умных и благородных наших государей, Александра Павловича, в клеветнической гротескной форме. Там есть одна сцена, в которой Александр I бросает с балкона народу хлеб, а внизу происходит давка. Один из сановников, стоявший рядом с царём на балконе, дожил до выхода в свет романа и, прочитав это место, был возмущён, крича: «Что за враньё! Царь никакого хлеба не кидал!» Оказывается, корифей русской реалистической литературы всё это просто выдумал – только для того, чтобы показать царя отрицательным персонажем.
Или взять народовольцев. Они на всю Россию кричали, что необходима либерализация режима и отмена крепостного права, а когда царь его отменил и провёл потом судебную реформу, то есть выполнил их программу, они возненавидели его пуще прежнего и убили бомбой. И такое загадочное поведение определённых кругов нашего общества, действующих под лозунгом «Чем лучше, тем хуже», встречается в нашем прошлом неоднократно. И хуже всего даже не то, что такая неблагодарность аморальна, а что она непременно наказывается Богом, и вместо большего добра получается великое зло.
В причинах такого самоубийственного поведения части русских людей следует разбираться психологам, а мы вернёмся к полемике между почвенниками и западниками.
Хотя радикальное западничество, требующее государственного переворота, было в лице декабристов разгромлено, мягкая его разновидность, выражавшаяся в восхищении европейским прогрессом, получила широкое распространение и завоёвывала умы. Особенно ярко это выражалось в преклонении русской образованной публики перед немецкой философией. Юрий Самарин, член просветительского кружка Станкевича, собиравшегося в Москве с 1831 по 1839 год, писал, что для них тогда Гегель был много выше Евангелия (потом он переменил свои взгляды и стал подлинно православным человеком). Почвенникам надо было как-то реагировать на это поветрие, противостоять ему, выдвигать в защиту своей позиции какие-то серьёзные аргументы. И люди, которые взялись за эту работу, отыскались. Ими были Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) и Иван Васильевич Киреевский (1806–1856). Оба они принадлежали к помещичьему сословию, оба получили прекрасное гуманитарное образование, а Киреевский даже учился в Германии, слушал лекции Гегеля и был связан личной дружбой с другим представителем немецкой классической философии – Шеллингом. Нечего и говорить, что они свободно владели основными европейскими языками. В общем, всё их воспитание и все обстоятельства жизни вели к тому, чтобы они стали заядлыми западниками (Киреевский даже и был им вначале и издавал журнал под названием «Европеец»), но судьба уберегла их от этого обычного для их среды заболевания, снабдив надёжным противоядием. На разных этапах их жизни Хомякову и Киреевскому открылась несравненная полнота Христовой правды, после чего искусственные построения апологетов протестантизма не могли не казаться ничем иным, кроме как праздной игрой воображения. Да и природный ум не позволил им всерьёз увлечься интеллектуальными упражнениями Канта и Гегеля.
Оценивая их по прошествии двух столетий, мы можем сказать, что они были не просто талантливыми, а гениальными людьми, украшением нашего отечества. У гениев есть особая примета: они опережают мысль своих современников, им открывается то, что другие поймут ещё не скоро. Хомяков и Киреевский подпадают под этот критерий – они первыми поняли две истины, которые стали затем ключевыми для осмысления истории и сегодня используются исследователями безо всяких ссылок на авторство.
Первая истина состоит в том, что понятие «человечество» является с научной точки зрения бессодержательным, ибо людской род состоит из отдельных, не схожих друг с другом, больших сообществ, именуемых «цивилизациями», и историю можно понять только как разворачивающийся во времени процесс взаимодействия этих фундаментальных единиц. Дискретность, оказывается, свойственна всему сущему: материя состоит из элементарных частиц, свет – из фотонов, живая природа – из отдельных видов, а человечество – из цивилизаций. Открытие последнего факта приписывается ныне замечательному русскому мыслителю Николаю Яковлевичу Данилевскому (1822–1885). Но при всём уважении к его заслугам перед наукой надо признать, что на несколько десятилетий прежде Данилевского, тем более раньше тех европейских историков, которые развивали его концепцию (тоже без ссылок), идею существования принципиально разных и несмешиваемых цивилизаций высказали «старшие славянофилы», как в литературе называют Хомякова и Киреевского (к ним относят также Константина Аксакова и Юрия Самарина). Они сделали своё открытие на примере двух неслиянных цивилизаций, которые обе были им хорошо известны, – русской и западноевропейской. В дальнейшем были предложены схемы структурирования уже всего человечества на протяжении всей его истории, и самую известную из них, сегодня выглядящую довольно спорной, дал знаменитый английский историк Арнольд Тойнби (1889–1975), но начало было положено нашими славянофилами.
Вторая их глубокая идея была развитием первой. Зафиксировав коренную несхожесть Российской и Западной цивилизаций, они задумались над тем, почему и зачем имеет место такая несхожесть. На вопрос «почему», как верующие христиане, они ответили сразу: «Потому, что так замыслено Творцом, чьи создания всегда многоцветны и разнообразны». На вопрос «зачем» они дали более подробный ответ, поразительный по своей проницательности.
Проницательность началась с обострённой наблюдательности. В эпоху, когда все у нас восхищались Европой и славили Петра, прорубившего в неё окно, славянофилы чутко уловили незаметные для глаза большинства признаки ущербности протестантской цивилизации, которые неизбежно должны через какое-то время привести к её тотальному кризису. Поскольку это предсказание сбылось, его можно считать пророчеством. Заметим, что его повторил в начале XX века Освальд Шпенглер (1880–1936) в своей нашумевшей книге «Закат Европы» (в подлиннике «Закат северных стран»), а современный американский социолог Бьюкенен зафиксировал как свершившийся факт. И опять ни тот ни другой не вспомнили о славянофилах как о своих предшественниках. А эти дилетанты поняли суть дела гораздо лучше, чем упомянутые два профессионала, не ограничившись описанием явления, но и вскрыв его подоплёку.
Славянофилы сумели увидеть, что протестантская цивилизация, обогащая человека с помощью науки и технологии средствами улучшения материального существования и создавая всё более комфортные условия жизни плоти, обедняет его духовно, делает чёрствым его сердце, а мышление плоским и шаблонным. На свете за всё надо платить, и, сосредотачиваясь на телесной составляющей человека, эта цивилизация упускает из виду его душу. И это генеральный курс её развития, с которого она уже не сможет сойти. В конце этого пути Запад ждёт предсказанное в Евангелии охлаждение любви (Матфей 24, 12) и западное общество превратится в сумму страдающих от одиночества эгоистов. Россия же, где не было церковной реформации, сохранила дух первоначального христианства апостольских времён, дух общины, проявляющийся в самопожертвовании, любви к ближнему, личной скромности. Русская цивилизация осталась менее прагматичной, идеалистичной, отдающей приоритет духовным ценностям над материальными. Она не покоряет природу, подобно протестантской, а вписывается в неё, составляя её часть. И такой она должна оставаться, чтобы сохранить в себе то, что Запад, избравший основой своей жизни индивидуализм и рационализм, непременно рано или поздно утратит. А когда он лишится этого, Россия по-братски поделится с ним сбережёнными сокровищами, отогреет замерзающую Европу жаром своего сердца, научит протестантский мир быть непрактичным, но счастливым, как он когда-то учил её практицизму, точному расчёту, хладнокровному взвешиванию обстоятельств перед принятием решений и неукоснительному выполнению принятых решений. Ведь мы восприняли многое из этого от Запада, что пошло нам на пользу, значит, и Запад, когда жизнь его заставит, воспримет и наши уроки.
Эта мечта старших славянофилов показывает абсурдность укоренившегося обычая выставлять их эдакими квасными патриотами, открещивающимися от всего иностранного. Их программа сохранения русскими русскости есть, по сути, программа будущего спасения Запада, а это значит, что они любили Запад, ибо забота о спасении есть одно из самых достоверных проявлений любви. Георгий Флоровский считал, что они любили Европу не меньше, чем Россию, и, может быть, это так и было, тем более что синонимом любви является жалость, а они жалели Запад, движущийся к бездуховности.
Сказанное приводит к заключению, что старшие славянофилы не только раньше Данилевского начали пользоваться в своей историософии многоцивилизационной моделью человечества, но и пошли дальше его в её осмыслении, как бы пытаясь проникнуть в замысел Творца, создавшего человечество дискретным. В их концепции необходимости для России идти своим путём не столько ради себя, сколько ради своих европейских братьев звучит идея взаимной дополнительности цивилизаций, которой нет у Данилевского. Данилевский смотрит на Европу как на врага России, славянофилы видят в ней заблудшего брата, которого надо вернуть к полноценной жизни. В этом они глубже и интереснее и более поздних последователей Данилевского, включая и самого Тойнби.