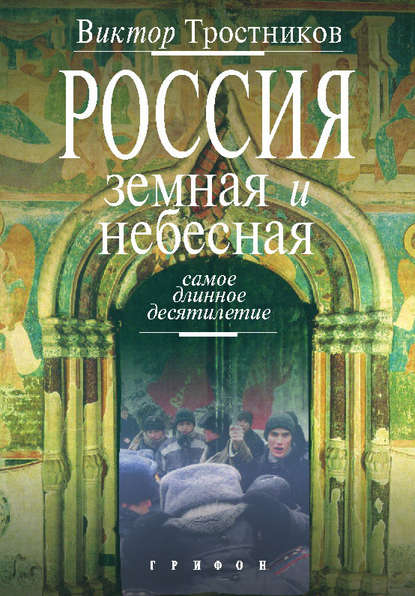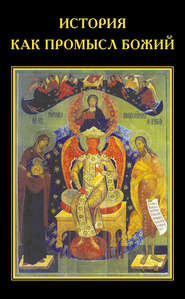По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Россия земная и небесная. Самое длинное десятилетие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Высоцкий преодолел искушение делать ставку на внешнюю мистику и стал раскрывать нам внутреннюю мистическую сущность простых и вроде бы знакомых нам вещей, заставляя воспринять их на новом уровне сознания. Он в значительной мере открыл для нас вселенную, в которой мы все живем. Я далек от мысли, будто в период своей поэтической зрелости Высоцкий стал бытописателем. Ничего подобного! Того, кто провел бы нас лишь по закоулкам коммунальной кухни, нельзя было бы назвать открывателем вселенной. Высоцкий как раз выделяется необычайно широким диапазоном интересов. Его волнует все – от пророчицы Кассандры и князя Олега до прыгуна в высоту и попавшего в вытрезвитель забулдыги. Он любопытен, как ребенок. У него удивительная ко всему ненасытность. Создается впечатление, что он хватал для своих песен все, что случайно попадалось под руку. Такая всеядность, возможно, была бы не очень ценным качеством для поэта, если бы не одна деталь: все, до чего Высоцкий дотрагивался, он превращал в золото и увеличивал этим золотой фонд нашего мироощущения. Его нельзя назвать не только бытописателем, но и вообще поэтом какой-либо определенной темы. У него нет «своей темы», «темы Высоцкого». Это очень важная его отличительная черта, но ее не так-то легко заметить. Всякий может найти у него то, к чему имеет особенное пристрастие, и счесть певцом именно этого. И геолог, и спортсмен, и научный работник, и стюардесса единодушно воскликнут: да что вы, это же наш автор! – имея в виду каждый свое.
Так порой возникают недоразумения. Например, в некоторых некрологах, переданных по радио, Высоцкого изображали едким сатириком и ставили в один ряд с Галичем. Это говорит о том, что в феномене Высоцкого еще не успели как следует разобраться. Объединять его с Галичем только из-за того, что оба играют на гитаре и оба очень талантливы – все равно что объединять человека и страуса на том основании, что оба двуногие. Высоцкий и Галич не только не похожи, но и противоположны, так как первый – поэт типично созидательный, а второй – типично разрушительный. Но я уверен, что с течением времени каждый из них займет в нашей культуре свое собственное место и не будет казаться дубликатом другого. Определить место Высоцкого как раз и поможет тематическая разновидность его творчества, его удивительный «энциклопедизм». Люди такого плана уже встречалась в нашей истории, и у них есть вполне определенное название. Всем были присущи точно такие же качества, что и Высоцкому: любопытство ко всему, постоянный восторг первооткрывателя. Это, конечно, просветители. Взяв сочинение любого из них – Ломоносова, Новикова, Добролюбова, Чернышевского, – поражаешься в первую очередь именно их всеядности, невыраженности их интереса к чему-либо одному, стремлению к универсальному охвату всех явлений.
Но между ними и Высоцким имеется важное различие. Все эти люди насаждали в народе разум, Высоцкий же насаждает чувство. Русское просветительство изменило свое направление, и это вызвано изменением исторической обстановки. В 18–19 веках в душе нашего народа было много сложных и высоких чувств, питаемых христианской верой, но его ум отставал. Поэтому тогдашние просветители бросали все свои силы на развитие ума, рьяно внедряли рационализм во всех его формах. Но они перестарались. Культ разума создал почву для распространения социальной утопии, утопия вызвала революцию, а революция уничтожила и религию и Церковь, лишив тем самым народное чувство его мистического корня. В итоге соотношение между рассудком и эмоциями сменилось на противоположное: Россия сделалась страной с напичканной схематическими построениями огромной головой и бесчувственным крошечным сердцем. Понятно, что для выправления такого нового перекоса надобны просветители нового типа: не рассудочные, а душевные. Высоцкий был среди них одним из первых. А если уж говорить о более конкретной аналогии, то я сравнил бы его с Ломоносовым, который, по словам Пушкина, был нашим первым университетом. То же можно сказать о Высоцком: в послевоенной России он стал первым подлинным университетом наших чувств.
Установив, в чем заключалась миссия Высоцкого Владимира Семеновича, легко убедиться, что особенности его одаренности и его творческого метода идеально соответствовали этой миссии. Поскольку его жизненной задачей было эмоциональное просветительство народа, его искусство должно было быть, во-первых, эмоциональным, во-вторых, понятным и доступным широким народным массам. Этому содействовал, конечно, сам жанр – песни под гитару, а также пластичный, богатый суровыми обертонами голос Высоцкого и его огромная музыкальность. Но музыковедческий анализ – не моя область, поэтому мы перейдем к анализу языковых и стилевых особенностей его песенных текстов. Если сказать совсем кратко, то песни Высоцкого по языку можно назвать псевдопростонародными. Префикс «псевдо» обычно подразумевает что-то плохое, но здесь я его употребляю в самом положительном смысле, в том, в каком бы я сказал то же самое о лучших стихах Никитина или Кольцова. Язык песен Высоцкого по внешности выглядит как подлинная уличная речь и даже включает в себя подслушанные на улице фрагменты такой речи, но он всегда организован с таким мастерством, какое доступно только крупному поэту-профессионалу. Профессионализм достигает у Высоцкого такого уровня, что неопытному глазу становится совершенно незаметен. Завершенность фабулы, внутренние ритмы и аллитерации спрятаны так искусно, что не отвлекают внимания слушателя, а лишь создают благоприятные условия для восприятия содержания. Высоцкий зачастую находит настолько метафорически точные выражения и настолько изысканные рифмы, что иной поэт на одном этом сделал бы карьеру, выпятив наружу этот формальный аспект своего мастерства. Но Высоцкий всегда маскирует свои языковые жемчужины, произносит их скороговоркой и подчиняет все главной, не формальной цели – созиданию целостного эмоционального впечатления. Когда он, например, поет о ведьмах: «Им встретился леший. – Вы камо грядеши?», то слушателю некогда оценивать всю прелесть находки, всю тонкость приема, состоящего в использовании старославянского языка, но он действует на подсознание, моментально создавая ощущение глубокой древности персонажа. Прием срабатывает, но сам по себе остается в тени. И так всюду. Все эти: «ну, а Вологда – это вона где!», «но я свою неправую правую не сменю на правую левую!», или «сам как пес бы так и рос в цепи… Родники мои серебряные, золотые мои россыпи» звучит у Высоцкого так естественно, будто все люди так говорят, будто в этом нет ничего особенного. Но будь у него класс чуть пониже, такие обороты были бы ему не под силу. Обманчива и манера изложения Высоцкого, которая кажется очень простецкой. Вслушавшись в любую его песню, начинаешь поражаться тому, что с первого раза ускользает от внимания: техническому совершенству ее построения. Вот, к примеру, песня, которая вначале производит впечатление типично «блатной»:
Нынче все срока закончены,
(Заметьте: сказано не «сроки», а «срока» – точно так же, как говорят сами заключенные, и это сразу создает атмосферу подлинности.)
А у лагерных ворот,
Что крест-накрест заколочены,
Надпись: «Все ушли на фронт».
(Ворота крест-накрест – это уже образ, и это никакой урка не придумает, урка умеет петь только о конкретных вещах, скажем, о тоскующей матери или жене; однако слушатели не замечают здесь профессионализма и продолжают воспринимать песню как фольклорную.)
За грехи за наши нас простят:
Ведь у нас такой народ —
Если Родина в опасности,
Значит всем идти на фронт.
Там год за три, если Бог хранит,
Как и в лагере зачет.
Нынче мы на равных с ВОХРами:
Нынче всем идти на фронт.
(Снова блистательный по техническому уровню текст с утонченной рифмой. «Бог хранит – ВОХРами» воспринимается как зэковский, в чем немалую роль играет ловко вставленное словечко «зачет».)
А у начальника Березкина
Ох, и гонор, ох, и понт,
И душа крест-накрест досками,
Но и он ушел на фронт.
(Ни в каком фольклоре не найдете вы такого умелого повторения образа креста: тюремные ворота крест-накрест и душа начальника крест-накрест.)
Лучше было б сразу в тыл его:
Только с нами был он смел.
Высшей мерой наградил его
Трибунал за самострел.
(А теперь послушайте грустно-счастливый конец, где в третий раз появляется крест.)
Ну а мы – всё оправдали мы.
Наградили нас потом —
Кто живые – так медалями,
А кто мертвые – крестом.
И другие заключенные
Прочитают у ворот
Нашу память застекленную:
Надпись: «Все ушли на фронт».
Резюмируя сущность поэтического метода Высоцкого, можно сказать, что внешняя простота и легкость текста, создающая иллюзию живой речи, сочетается у него с безукоризненной художественной отделкой на всех уровнях – от лексикона до композиции. Это делает текст исключительно доходчивым и в то же время глубоко западающим в душу для самых разных людей – от простого рабочего до академика и от продавца до директора завода. Но именно это и требовалось для выполнения миссии современного просветительства. Не доказывает ли это первичности миссии и вторичности средства?
О каждой из граней таланта Высоцкого можно говорить много. Но, повторяю, об этом всём будут еще написаны монографии, и специалисты разберут все по косточкам. А нам в заключение этого краткого очерка о покойном поэте остается попробовать ответить на вопрос: каков же итог его деятельности и в чем могут состоять ее последствия?
Я думаю, точнее всего его жизненный итог выражается словом «прорыв». На войне этим термином обозначается операция, состоящая в том, что мощная боевая единица, чаще всего танковая армия, сокрушает передовую линию противника и проходит в его тыл. Это еще не занятие территории, но важная его предпосылка. Чтобы завоевать эту землю окончательно, на нее должна вступить пехота. Но теперь ей сделать это легче – брешь уже пробита. И чем шире был прорыв, тем вероятнее конечный успех. Прорыв, который совершил Высоцкий, был очень широким. Его жадная ко всему, неуемная и страстная душа художника освоила такую массу предметов и событий, что их трудно даже просто перечесть. В этом он далеко оторвался от нас, ушел вглубь территории, пока нам еще чуждой, и крикнул: идите за мной, овладевайте всем этим. На этой земле ждет нас многое такое, что когда-то нам принадлежало, но потом было утрачено, а есть кое-что и совсем новое. Нам описывали эти места, но описания всегда были сухими и формальными и не вызывали тех чувств, которые вспыхивают в груди, когда видишь все воочию, принимаешь близко к сердцу и знаешь: это твоя земля, без которой тебе не жить и которую надо распахивать и засевать. Высоцкий зовет нас увидеть ее воочию. Разумом многие из нас знали, что, хотя сейчас мирное время, в глубине океанов идет необъявленная война атомных подводных лодок, от которых при их обнаружении и потоплении отказываются все государства. Знали, что семьи подводников иногда получают краткие похоронки. Но это не было прочувствовано как реальное явление нашей жизни, к которому непременно надо как-то отнестись. А если мы пойдем за Высоцким, оно оживает:
Наш путь не отмечен,
Нам нечем, нам нечем…
Но помните нас!
Спасите наши души!
Мы бредим от удушья!
Теперь это перейдет из разума в душу и станет частью нашего общего бытия, от которого уже не отделаешься… Разумом все понимают, что есть в современной жизни такое явление, как профессиональный спорт, втянувшее в себя тысячи людей. Но те из нас, кто непосредственно с ним не соприкасался, не переживают его, как нечто серьезное, а многие и вообще остаются к нему глубоко равнодушными. Однако если мы пойдем за Высоцким, мы будем твердо знать, что есть в нашей цивилизации эта странная вещь и отмахнуться от нее невозможно. Ведь тот парень, который жалуется: «Тут мой тренер мне сказал: беги, мол!» – это почти я, или ты, или любой из нас, и нельзя же отдать его на откуп циникам и дельцам… Разумом все согласны с тем, что где-то рядом с нами затаилась война, что она в любой момент может вырваться наружу. Но чувствуем ли мы всем своим существом, что такое война?
Песни Высоцкого о войне – это совершенно особый разговор. Я считаю, что они представляют собой вершину его творчества и одну из высочайших вершин мировой поэзии вообще. Его острый интерес к войне закономерен. Как просветителя душ, его должны были в первую очередь привлечь такие виды человеческой деятельности, в которых душевные силы раскрываются максимально полно. Отсюда его тяготение к теме альпинизма и еще больше – к теме войны. И дух войны он передал гениально. В одной из своих книг Бердяев посвятил войне целую главу. Он пишет в ней, что война – коренной экзистенциальный фактор, что она нуждается в глубоком философском осмыслении, что брезгливо-пацифистское к ней отношение совершенно чуждо христианскому мировоззрению, создавшему образ небесного воинства. Все это абсолютно правильно. Но все это, и даже больше, выражено в военном цикле песен Высоцкого. Человек, которому при окончании войны было всего 7 лет, передал ее суть так, как это не удалось ни одному из ее участников. Что стоит один этот символ войны: «певчих птиц больше нет – вороны». Впрочем, цитировать эти песни нельзя – их надо слушать. Послушайте их, и вы откроете для себя войну… В общем, прорыв, сделанный Высоцким, и широк и глубок. Все, что он мог совершить в одиночку, он совершил. Поэтому о последствиях его деятельности можно сказать так: они зависят от нас. Я знаю, что многих покоробят слова «совершил все, что мог». Как же, мол, так, всего 42 года, сколько бы еще мог написать, если бы не такое несчастье! Да, его смерть ужасна своей преждевременностью, проживи он дольше, он многое бы еще сделал. Но мне кажется, это были бы уже не песни, а что-то другое. Его великий песенный прорыв подошел к своему логическому завершению. За год до его смерти мы вместе ехали в машине, и он сказал мне тихо и серьезно: «Я все тверже прихожу к убеждению, что главное – это Россия, ее люди, ее природа, ее история. И думаю, что моя основная работа должна быть за письменным столом». Трудно сказать, что именно он имел в виду. Но у меня было ощущение, что он поворачивает от душевности к духовности. Не успел. И знал, что не успеет. Поэтому и написал за несколько дней до смерти такие строки: «…Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, / Мне есть чем оправдаться перед ним».
Он-то, конечно, оправдается. Но оправдаемся ли мы? Ведь мы так еще и не начали вслед за ним массированное наступление. Безнадежно не поспевает за ним наше официальное искусство, вобравшее в себя только малую часть его творчества. Некоторые темы Высоцкого для него пока вообще неподъемны. Отстала от него и наша формально не признанная «вторая культура»: что-то не видно ни равноценных ему бардов, ни способных учеников и последователей. Правда, Пушкин тоже появился лишь через полвека после Ломоносова, но это слабое утешение. Сейчас столько времени на раскачку нам никто не предоставит.
Утешает другое: огромная всенародная любовь к Владимиру Высоцкому. Пожалуй, только после его смерти стало ясно, как она велика. Его похороны вылились в подлинное проявление национальной скорби, его могила стала одной из самых дорогих могил России. Это значит, что он нужен, что его искусство исцеляет. Начавшийся процесс нашего выздоровления вряд ли теперь остановится. Внешнее его протекание может смениться внутренним, менее заметным. Возможно, сейчас как раз такой момент. Нам часто говорят: вот какие вы плохие, у вас нет свобод, вы не можете добиться, чтобы в магазинах были продукты… И говорят так убедительно, и в общем-то верно, что поневоле приходишь в уныние и думаешь: господи, да что же мы за люди? А потом вдруг вспоминаешь: – Но ведь у нас есть Высоцкий! И уныние уступает место надежде.
Памяти Петра Капицы
(Возвращаясь к ненаписанному)
Я всегда любил рассказывать о Капице моим знакомым, и образ этого человека не только не меркнул во мне с годами, но, напротив, становился все более значительным. Несмотря на то что личных встреч с Капицей у меня было немного, я все-таки могу причислить его к одному из «главных людей» своей жизни, так как беседы на этих встречах касались очень существенных для меня вопросов. В общем, внешний заказ совпал здесь с внутренним побуждением, так что оставалось только засучить рукава и засесть за работу.
Но, начав – еще даже не писать, а только обдумывать свои мемуары, – я понял, что моя задача гораздо труднее, чем это показалось вначале.
То есть совсем нетрудно было бы набросать умилительный образ мудрого наставника, оказавшего на меня в период формирования моего отношения к науке благотворное влияние, но это получился бы рассказ не о Капице, а о моем восприятии Капицы, т. е. в конечном счете обо мне. Это был бы перенос мироощущения нашего поколения на человека другого поколения, следовательно, это была бы неправда.
Конечно, многие читатели не заметили бы этой неправды и приняли бы отражение Капицы в моем сознании за самого Капицу. Может быть, я не устоял бы перед соблазном отдать в сборник поверхностную статью, не требующую от меня особых усилий, если бы я вдруг не почувствовал, что этого резко «не одобрил» бы именно тот, о ком я собираюсь писать, – Петр Леонидович Капица.
Двадцать с лишним лет тому назад в издательстве «Знание» вышла брошюра «Жизнь для науки», содержащая четыре биографических очерка Капицы – о Ломоносове, Франклине, Резерфорде и Ланжевене. Я читал много биографических книг, некоторые даже переводил, но изо всех них мне более всего запомнилась эта небольшая книжица. Я считаю ее образцом, которому должны следовать все авторы научно-биографического жанра. Подражать тут надо, разумеется, не стилю и языку, а стремлению к максимальной правдивости портрета. Ведь именно в этой литературе мы более всего встречаем «лакировку». Капица был не только чужд прилизыванию образов великих ученых, он был принципиальным противником такого подхода. Например, в первом очерке упомянутой брошюры изображается не тот Ломоносов, который занял определенное место в науке и культуре двадцатого века, а тот, который существовал в восемнадцатом веке, т. е. реальный, а не легендарный Ломоносов. Избегая проецирования нашей эпохи на эпоху Ломоносова, Капица показывает, что научные занятия Ломоносова не оказали заметного воздействия на современников и даже большинству из них совершенно не были известны. Он отмечает: «Характерно, что никто из окружающих не мог описать, что же действительно сделал в науке Ломоносов, за что его надо считать великим ученым». Однако, разрушая легенду об огромном вкладе Ломоносова в тогдашнюю мировую науку, Капица не только не умаляет его, а, наоборот, возвышает. Отделяя Ломоносова от той внешней данности, которая отчасти напоминает слепой механизм, а отчасти лотерею и называется «цивилизацией», он выясняет, чего стоил Ломоносов сам по себе, каков был подлинный масштаб этого мыслителя и этой личности. Не интересуясь ценой, которая диктуется привходящими обстоятельствами и может быть сегодня высокой, а завтра упасть до нуля, он определяет стоимость Ломоносова – характеристику внутреннюю, а поэтому неизменную. И ему удается показать нам, что стоимость эта очень велика и все поколения русских людей могут и должны гордиться Ломоносовым как великим представителем великого народа. Так, отбрасывая ложную объективность, Капица приходит к объективности истинной. Это он сделал не только в очерке о Ломоносове, но и в других биографиях, причем не стихийно, а вполне сознательно. Он сам рассказывает, что, когда в Кембридже по случаю столетия со дня рождения Максвелла были прочитаны доклады об этом гениальном физике, он сказал Резерфорду: «Меня поразило, что все говорили о Максвелле исключительно хорошее и представили его как бы в виде сахарного экстракта. А мне хотелось бы видеть Максвелла настоящим, живым человеком, со всеми его человеческими чертами и недостатками». Эту тенденцию переосмысливать даже хрестоматийные утверждения, представляя их более правдивыми, он постоянно проявлял и в своих лекциях. В этом состоит один из его заветов.
Нет, легко это или трудно, но я должен попытаться восстановить образ того Капицы, каким он был в действительности, а не каким казался и кажется. То, что я располагаю скудным материалом, не может служить оправданием для отказа от решения этой задачи. Отказаться можно было бы только от самой статьи, но не от правды в статье. А от статьи отказываться мне не хочется…
Но как проникнуть в душу человека, жизненный опыт которого так отличен от моего собственного? И, более того, – от опыта всего нашего поколения? Капица видел то, о чем мы только слышали, и слышал то, о чем мы можем лишь догадываться. Примеры? Пожалуйста. Скажем, он неоднократно видел Иоанна Кронштадтского и слышал его проповеди. Убийство Александра Второго выступало для него в детстве как событие сравнительно недавнее, а когда началась Русско-японская война, он был уже вполне сознательной личностью. Много лет он провел в Англии, и буквально на его глазах Резерфорд создавал свою знаменитую модель атома. В начале нынешнего века за мешок хлеба Кустодиев изобразил его на картине вместе с его другом Колей Семеновым, а во второй половине века оба они получили по Нобелевской премии. В Англии он успел еще увидеть закатную зарю Викторианской эпохи, а в России попал одно время в немилость к самому Сталину. Могу ли я реконструировать внутренний мир такого человека? Не безнадежны ли окажутся все мои попытки?
Они были бы и в самом деле безнадежны, если бы не одно спасительное обстоятельство: все люди сродни друг другу и в своей сокровенной глубине имеют общую природу. Правда, есть разные человеческие типы, но их не так уж много, а главное – все они в потенции наличествуют у каждого человека, хотя реализуется лишь один из них. Это как в модели атома по Нильсу Бору: энергетические уровни могут быть не какие попало, а лишь «разрешенные». Если мы допустим, что всякий атом, занимая определенный уровень, знает и обо всех остальных, получится совсем хорошая аналогия. Положение вещей, описываемое этой аналогией, обеспечивает возможность «вживания» писателя в образ своих героев, и само существование художественной литературы подтверждает такое положение вещей. При этом главным становится отыскание ключа к человеку, определение его «типа», остальное дается уже значительно легче. И мне кажется, что я нащупал «тип» Капицы, который сейчас же и назову. Суть Капицы как ученого состояла в том, что он был РОМАНТИК НАУКИ.
Его научный романтизм был органичным и окрашивал всю исследовательскую, организационную и преподавательскую его деятельность. Эту черту не могли вытравить ни время, ни обстоятельства. Я не знаю, какую роль в появлении в нем этой доминантной черты играли врожденные особенности, а какую – приобретенные, но я знаю, что сейчас в науке таких людей уже нет, ибо эпоха научного романтизма кончилась. И если говорить о крупных фигурах, то Капица был ПОСЛЕДНИМ РОМАНТИКОМ НАУКИ, а поэтому соединил собой две эпохи. Это делает его личность особенно интересной, а историю жизни – поучительной.
Романтизм, о котором я говорю, не должен пониматься, как нечто незрелое или наивное. Это не переходная фаза к чему-то более серьезному, а являющееся само вполне серьезным и внутренне обоснованным специфическое отношение к окружающему миру и своему месту в нем. Представители этого романтизма зачастую проявляют даже большую реалистичность в оценке событий, чем захватившие ныне науку в свои руки прагматики. Это особенно хорошо видно как раз на примере Капицы. Он никогда не носил розовых очков, и от его высказываний часто веяло какой-то освежающей трезвостью. Чтобы было ясно, что я имею в виду, приведу две иллюстрации. Первая из них – это то, что я уже говорил выше о его биографических очерках, в которых отсутствовала какая-либо восторженность, неправильно связываемая многими с романтизмом. Вторая иллюстрация – неоднократно высказываемая Капицей в докладах и статьях пессимистическая точка зрения на энергетическое будущее человечества. Приводя неумолимые цифры и факты, он безжалостно развеивал мечты о широком освоении солнечной энергии и геотермальных источников (слишком мала плотность энерговыделения) и ядерной реакции деления (появление вредных радиоактивных отходов). Что же касается ядерной реакции синтеза, то, по мнению Капицы, если она даже будет осуществлена в контролируемой форме, то ввиду неизбежного рассеяния части получаемой энергии в окружающую среду это приведет к повышению средней температуры земли со всеми грозными последствиями этого – к таянию льдов Антарктиды, неустойчивому климату и т. д. Этот пример особенно интересен, так как те люди, которых принято в обиходе называть романтиками, как раз очень любят разглагольствовать о «неограниченных возможностях», которые открывает перед человеческим родом наука, о захватывающих перспективах на грядущие века в материальном процветании общества. Капица не только не имел ничего общего с такими людьми, но даже был им в некотором смысле антагонистичен.
В чем же тогда заключался его романтизм?
Он заключался в том, что на протяжении всей жизни главным стимулом его исследований было то обстоятельство, что эти исследования очень интересны. Это было для него определяющим в физике. Разумеется, он много внимания уделял и извлечению практической пользы из своих научных открытий и, более того, всегда стремился довести разрабатываемую в его институте тему до стадии технических приложений, но и это было следствием того же самого любопытства. Глядя на окружающий нас физический мир, Капица умел отыскать в нем то одну, то другую захватывающую головоломку и, отыскав ее, начинал неотступно думать над ее решением. Возможность практических применений научной идеи тоже воспринималась им чем-то вроде шарады, и он брался за эту шараду с тем же трепетным интересом, с каким приступал к обдумыванию принципиальных научных проблем.
Так порой возникают недоразумения. Например, в некоторых некрологах, переданных по радио, Высоцкого изображали едким сатириком и ставили в один ряд с Галичем. Это говорит о том, что в феномене Высоцкого еще не успели как следует разобраться. Объединять его с Галичем только из-за того, что оба играют на гитаре и оба очень талантливы – все равно что объединять человека и страуса на том основании, что оба двуногие. Высоцкий и Галич не только не похожи, но и противоположны, так как первый – поэт типично созидательный, а второй – типично разрушительный. Но я уверен, что с течением времени каждый из них займет в нашей культуре свое собственное место и не будет казаться дубликатом другого. Определить место Высоцкого как раз и поможет тематическая разновидность его творчества, его удивительный «энциклопедизм». Люди такого плана уже встречалась в нашей истории, и у них есть вполне определенное название. Всем были присущи точно такие же качества, что и Высоцкому: любопытство ко всему, постоянный восторг первооткрывателя. Это, конечно, просветители. Взяв сочинение любого из них – Ломоносова, Новикова, Добролюбова, Чернышевского, – поражаешься в первую очередь именно их всеядности, невыраженности их интереса к чему-либо одному, стремлению к универсальному охвату всех явлений.
Но между ними и Высоцким имеется важное различие. Все эти люди насаждали в народе разум, Высоцкий же насаждает чувство. Русское просветительство изменило свое направление, и это вызвано изменением исторической обстановки. В 18–19 веках в душе нашего народа было много сложных и высоких чувств, питаемых христианской верой, но его ум отставал. Поэтому тогдашние просветители бросали все свои силы на развитие ума, рьяно внедряли рационализм во всех его формах. Но они перестарались. Культ разума создал почву для распространения социальной утопии, утопия вызвала революцию, а революция уничтожила и религию и Церковь, лишив тем самым народное чувство его мистического корня. В итоге соотношение между рассудком и эмоциями сменилось на противоположное: Россия сделалась страной с напичканной схематическими построениями огромной головой и бесчувственным крошечным сердцем. Понятно, что для выправления такого нового перекоса надобны просветители нового типа: не рассудочные, а душевные. Высоцкий был среди них одним из первых. А если уж говорить о более конкретной аналогии, то я сравнил бы его с Ломоносовым, который, по словам Пушкина, был нашим первым университетом. То же можно сказать о Высоцком: в послевоенной России он стал первым подлинным университетом наших чувств.
Установив, в чем заключалась миссия Высоцкого Владимира Семеновича, легко убедиться, что особенности его одаренности и его творческого метода идеально соответствовали этой миссии. Поскольку его жизненной задачей было эмоциональное просветительство народа, его искусство должно было быть, во-первых, эмоциональным, во-вторых, понятным и доступным широким народным массам. Этому содействовал, конечно, сам жанр – песни под гитару, а также пластичный, богатый суровыми обертонами голос Высоцкого и его огромная музыкальность. Но музыковедческий анализ – не моя область, поэтому мы перейдем к анализу языковых и стилевых особенностей его песенных текстов. Если сказать совсем кратко, то песни Высоцкого по языку можно назвать псевдопростонародными. Префикс «псевдо» обычно подразумевает что-то плохое, но здесь я его употребляю в самом положительном смысле, в том, в каком бы я сказал то же самое о лучших стихах Никитина или Кольцова. Язык песен Высоцкого по внешности выглядит как подлинная уличная речь и даже включает в себя подслушанные на улице фрагменты такой речи, но он всегда организован с таким мастерством, какое доступно только крупному поэту-профессионалу. Профессионализм достигает у Высоцкого такого уровня, что неопытному глазу становится совершенно незаметен. Завершенность фабулы, внутренние ритмы и аллитерации спрятаны так искусно, что не отвлекают внимания слушателя, а лишь создают благоприятные условия для восприятия содержания. Высоцкий зачастую находит настолько метафорически точные выражения и настолько изысканные рифмы, что иной поэт на одном этом сделал бы карьеру, выпятив наружу этот формальный аспект своего мастерства. Но Высоцкий всегда маскирует свои языковые жемчужины, произносит их скороговоркой и подчиняет все главной, не формальной цели – созиданию целостного эмоционального впечатления. Когда он, например, поет о ведьмах: «Им встретился леший. – Вы камо грядеши?», то слушателю некогда оценивать всю прелесть находки, всю тонкость приема, состоящего в использовании старославянского языка, но он действует на подсознание, моментально создавая ощущение глубокой древности персонажа. Прием срабатывает, но сам по себе остается в тени. И так всюду. Все эти: «ну, а Вологда – это вона где!», «но я свою неправую правую не сменю на правую левую!», или «сам как пес бы так и рос в цепи… Родники мои серебряные, золотые мои россыпи» звучит у Высоцкого так естественно, будто все люди так говорят, будто в этом нет ничего особенного. Но будь у него класс чуть пониже, такие обороты были бы ему не под силу. Обманчива и манера изложения Высоцкого, которая кажется очень простецкой. Вслушавшись в любую его песню, начинаешь поражаться тому, что с первого раза ускользает от внимания: техническому совершенству ее построения. Вот, к примеру, песня, которая вначале производит впечатление типично «блатной»:
Нынче все срока закончены,
(Заметьте: сказано не «сроки», а «срока» – точно так же, как говорят сами заключенные, и это сразу создает атмосферу подлинности.)
А у лагерных ворот,
Что крест-накрест заколочены,
Надпись: «Все ушли на фронт».
(Ворота крест-накрест – это уже образ, и это никакой урка не придумает, урка умеет петь только о конкретных вещах, скажем, о тоскующей матери или жене; однако слушатели не замечают здесь профессионализма и продолжают воспринимать песню как фольклорную.)
За грехи за наши нас простят:
Ведь у нас такой народ —
Если Родина в опасности,
Значит всем идти на фронт.
Там год за три, если Бог хранит,
Как и в лагере зачет.
Нынче мы на равных с ВОХРами:
Нынче всем идти на фронт.
(Снова блистательный по техническому уровню текст с утонченной рифмой. «Бог хранит – ВОХРами» воспринимается как зэковский, в чем немалую роль играет ловко вставленное словечко «зачет».)
А у начальника Березкина
Ох, и гонор, ох, и понт,
И душа крест-накрест досками,
Но и он ушел на фронт.
(Ни в каком фольклоре не найдете вы такого умелого повторения образа креста: тюремные ворота крест-накрест и душа начальника крест-накрест.)
Лучше было б сразу в тыл его:
Только с нами был он смел.
Высшей мерой наградил его
Трибунал за самострел.
(А теперь послушайте грустно-счастливый конец, где в третий раз появляется крест.)
Ну а мы – всё оправдали мы.
Наградили нас потом —
Кто живые – так медалями,
А кто мертвые – крестом.
И другие заключенные
Прочитают у ворот
Нашу память застекленную:
Надпись: «Все ушли на фронт».
Резюмируя сущность поэтического метода Высоцкого, можно сказать, что внешняя простота и легкость текста, создающая иллюзию живой речи, сочетается у него с безукоризненной художественной отделкой на всех уровнях – от лексикона до композиции. Это делает текст исключительно доходчивым и в то же время глубоко западающим в душу для самых разных людей – от простого рабочего до академика и от продавца до директора завода. Но именно это и требовалось для выполнения миссии современного просветительства. Не доказывает ли это первичности миссии и вторичности средства?
О каждой из граней таланта Высоцкого можно говорить много. Но, повторяю, об этом всём будут еще написаны монографии, и специалисты разберут все по косточкам. А нам в заключение этого краткого очерка о покойном поэте остается попробовать ответить на вопрос: каков же итог его деятельности и в чем могут состоять ее последствия?
Я думаю, точнее всего его жизненный итог выражается словом «прорыв». На войне этим термином обозначается операция, состоящая в том, что мощная боевая единица, чаще всего танковая армия, сокрушает передовую линию противника и проходит в его тыл. Это еще не занятие территории, но важная его предпосылка. Чтобы завоевать эту землю окончательно, на нее должна вступить пехота. Но теперь ей сделать это легче – брешь уже пробита. И чем шире был прорыв, тем вероятнее конечный успех. Прорыв, который совершил Высоцкий, был очень широким. Его жадная ко всему, неуемная и страстная душа художника освоила такую массу предметов и событий, что их трудно даже просто перечесть. В этом он далеко оторвался от нас, ушел вглубь территории, пока нам еще чуждой, и крикнул: идите за мной, овладевайте всем этим. На этой земле ждет нас многое такое, что когда-то нам принадлежало, но потом было утрачено, а есть кое-что и совсем новое. Нам описывали эти места, но описания всегда были сухими и формальными и не вызывали тех чувств, которые вспыхивают в груди, когда видишь все воочию, принимаешь близко к сердцу и знаешь: это твоя земля, без которой тебе не жить и которую надо распахивать и засевать. Высоцкий зовет нас увидеть ее воочию. Разумом многие из нас знали, что, хотя сейчас мирное время, в глубине океанов идет необъявленная война атомных подводных лодок, от которых при их обнаружении и потоплении отказываются все государства. Знали, что семьи подводников иногда получают краткие похоронки. Но это не было прочувствовано как реальное явление нашей жизни, к которому непременно надо как-то отнестись. А если мы пойдем за Высоцким, оно оживает:
Наш путь не отмечен,
Нам нечем, нам нечем…
Но помните нас!
Спасите наши души!
Мы бредим от удушья!
Теперь это перейдет из разума в душу и станет частью нашего общего бытия, от которого уже не отделаешься… Разумом все понимают, что есть в современной жизни такое явление, как профессиональный спорт, втянувшее в себя тысячи людей. Но те из нас, кто непосредственно с ним не соприкасался, не переживают его, как нечто серьезное, а многие и вообще остаются к нему глубоко равнодушными. Однако если мы пойдем за Высоцким, мы будем твердо знать, что есть в нашей цивилизации эта странная вещь и отмахнуться от нее невозможно. Ведь тот парень, который жалуется: «Тут мой тренер мне сказал: беги, мол!» – это почти я, или ты, или любой из нас, и нельзя же отдать его на откуп циникам и дельцам… Разумом все согласны с тем, что где-то рядом с нами затаилась война, что она в любой момент может вырваться наружу. Но чувствуем ли мы всем своим существом, что такое война?
Песни Высоцкого о войне – это совершенно особый разговор. Я считаю, что они представляют собой вершину его творчества и одну из высочайших вершин мировой поэзии вообще. Его острый интерес к войне закономерен. Как просветителя душ, его должны были в первую очередь привлечь такие виды человеческой деятельности, в которых душевные силы раскрываются максимально полно. Отсюда его тяготение к теме альпинизма и еще больше – к теме войны. И дух войны он передал гениально. В одной из своих книг Бердяев посвятил войне целую главу. Он пишет в ней, что война – коренной экзистенциальный фактор, что она нуждается в глубоком философском осмыслении, что брезгливо-пацифистское к ней отношение совершенно чуждо христианскому мировоззрению, создавшему образ небесного воинства. Все это абсолютно правильно. Но все это, и даже больше, выражено в военном цикле песен Высоцкого. Человек, которому при окончании войны было всего 7 лет, передал ее суть так, как это не удалось ни одному из ее участников. Что стоит один этот символ войны: «певчих птиц больше нет – вороны». Впрочем, цитировать эти песни нельзя – их надо слушать. Послушайте их, и вы откроете для себя войну… В общем, прорыв, сделанный Высоцким, и широк и глубок. Все, что он мог совершить в одиночку, он совершил. Поэтому о последствиях его деятельности можно сказать так: они зависят от нас. Я знаю, что многих покоробят слова «совершил все, что мог». Как же, мол, так, всего 42 года, сколько бы еще мог написать, если бы не такое несчастье! Да, его смерть ужасна своей преждевременностью, проживи он дольше, он многое бы еще сделал. Но мне кажется, это были бы уже не песни, а что-то другое. Его великий песенный прорыв подошел к своему логическому завершению. За год до его смерти мы вместе ехали в машине, и он сказал мне тихо и серьезно: «Я все тверже прихожу к убеждению, что главное – это Россия, ее люди, ее природа, ее история. И думаю, что моя основная работа должна быть за письменным столом». Трудно сказать, что именно он имел в виду. Но у меня было ощущение, что он поворачивает от душевности к духовности. Не успел. И знал, что не успеет. Поэтому и написал за несколько дней до смерти такие строки: «…Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, / Мне есть чем оправдаться перед ним».
Он-то, конечно, оправдается. Но оправдаемся ли мы? Ведь мы так еще и не начали вслед за ним массированное наступление. Безнадежно не поспевает за ним наше официальное искусство, вобравшее в себя только малую часть его творчества. Некоторые темы Высоцкого для него пока вообще неподъемны. Отстала от него и наша формально не признанная «вторая культура»: что-то не видно ни равноценных ему бардов, ни способных учеников и последователей. Правда, Пушкин тоже появился лишь через полвека после Ломоносова, но это слабое утешение. Сейчас столько времени на раскачку нам никто не предоставит.
Утешает другое: огромная всенародная любовь к Владимиру Высоцкому. Пожалуй, только после его смерти стало ясно, как она велика. Его похороны вылились в подлинное проявление национальной скорби, его могила стала одной из самых дорогих могил России. Это значит, что он нужен, что его искусство исцеляет. Начавшийся процесс нашего выздоровления вряд ли теперь остановится. Внешнее его протекание может смениться внутренним, менее заметным. Возможно, сейчас как раз такой момент. Нам часто говорят: вот какие вы плохие, у вас нет свобод, вы не можете добиться, чтобы в магазинах были продукты… И говорят так убедительно, и в общем-то верно, что поневоле приходишь в уныние и думаешь: господи, да что же мы за люди? А потом вдруг вспоминаешь: – Но ведь у нас есть Высоцкий! И уныние уступает место надежде.
Памяти Петра Капицы
(Возвращаясь к ненаписанному)
Я всегда любил рассказывать о Капице моим знакомым, и образ этого человека не только не меркнул во мне с годами, но, напротив, становился все более значительным. Несмотря на то что личных встреч с Капицей у меня было немного, я все-таки могу причислить его к одному из «главных людей» своей жизни, так как беседы на этих встречах касались очень существенных для меня вопросов. В общем, внешний заказ совпал здесь с внутренним побуждением, так что оставалось только засучить рукава и засесть за работу.
Но, начав – еще даже не писать, а только обдумывать свои мемуары, – я понял, что моя задача гораздо труднее, чем это показалось вначале.
То есть совсем нетрудно было бы набросать умилительный образ мудрого наставника, оказавшего на меня в период формирования моего отношения к науке благотворное влияние, но это получился бы рассказ не о Капице, а о моем восприятии Капицы, т. е. в конечном счете обо мне. Это был бы перенос мироощущения нашего поколения на человека другого поколения, следовательно, это была бы неправда.
Конечно, многие читатели не заметили бы этой неправды и приняли бы отражение Капицы в моем сознании за самого Капицу. Может быть, я не устоял бы перед соблазном отдать в сборник поверхностную статью, не требующую от меня особых усилий, если бы я вдруг не почувствовал, что этого резко «не одобрил» бы именно тот, о ком я собираюсь писать, – Петр Леонидович Капица.
Двадцать с лишним лет тому назад в издательстве «Знание» вышла брошюра «Жизнь для науки», содержащая четыре биографических очерка Капицы – о Ломоносове, Франклине, Резерфорде и Ланжевене. Я читал много биографических книг, некоторые даже переводил, но изо всех них мне более всего запомнилась эта небольшая книжица. Я считаю ее образцом, которому должны следовать все авторы научно-биографического жанра. Подражать тут надо, разумеется, не стилю и языку, а стремлению к максимальной правдивости портрета. Ведь именно в этой литературе мы более всего встречаем «лакировку». Капица был не только чужд прилизыванию образов великих ученых, он был принципиальным противником такого подхода. Например, в первом очерке упомянутой брошюры изображается не тот Ломоносов, который занял определенное место в науке и культуре двадцатого века, а тот, который существовал в восемнадцатом веке, т. е. реальный, а не легендарный Ломоносов. Избегая проецирования нашей эпохи на эпоху Ломоносова, Капица показывает, что научные занятия Ломоносова не оказали заметного воздействия на современников и даже большинству из них совершенно не были известны. Он отмечает: «Характерно, что никто из окружающих не мог описать, что же действительно сделал в науке Ломоносов, за что его надо считать великим ученым». Однако, разрушая легенду об огромном вкладе Ломоносова в тогдашнюю мировую науку, Капица не только не умаляет его, а, наоборот, возвышает. Отделяя Ломоносова от той внешней данности, которая отчасти напоминает слепой механизм, а отчасти лотерею и называется «цивилизацией», он выясняет, чего стоил Ломоносов сам по себе, каков был подлинный масштаб этого мыслителя и этой личности. Не интересуясь ценой, которая диктуется привходящими обстоятельствами и может быть сегодня высокой, а завтра упасть до нуля, он определяет стоимость Ломоносова – характеристику внутреннюю, а поэтому неизменную. И ему удается показать нам, что стоимость эта очень велика и все поколения русских людей могут и должны гордиться Ломоносовым как великим представителем великого народа. Так, отбрасывая ложную объективность, Капица приходит к объективности истинной. Это он сделал не только в очерке о Ломоносове, но и в других биографиях, причем не стихийно, а вполне сознательно. Он сам рассказывает, что, когда в Кембридже по случаю столетия со дня рождения Максвелла были прочитаны доклады об этом гениальном физике, он сказал Резерфорду: «Меня поразило, что все говорили о Максвелле исключительно хорошее и представили его как бы в виде сахарного экстракта. А мне хотелось бы видеть Максвелла настоящим, живым человеком, со всеми его человеческими чертами и недостатками». Эту тенденцию переосмысливать даже хрестоматийные утверждения, представляя их более правдивыми, он постоянно проявлял и в своих лекциях. В этом состоит один из его заветов.
Нет, легко это или трудно, но я должен попытаться восстановить образ того Капицы, каким он был в действительности, а не каким казался и кажется. То, что я располагаю скудным материалом, не может служить оправданием для отказа от решения этой задачи. Отказаться можно было бы только от самой статьи, но не от правды в статье. А от статьи отказываться мне не хочется…
Но как проникнуть в душу человека, жизненный опыт которого так отличен от моего собственного? И, более того, – от опыта всего нашего поколения? Капица видел то, о чем мы только слышали, и слышал то, о чем мы можем лишь догадываться. Примеры? Пожалуйста. Скажем, он неоднократно видел Иоанна Кронштадтского и слышал его проповеди. Убийство Александра Второго выступало для него в детстве как событие сравнительно недавнее, а когда началась Русско-японская война, он был уже вполне сознательной личностью. Много лет он провел в Англии, и буквально на его глазах Резерфорд создавал свою знаменитую модель атома. В начале нынешнего века за мешок хлеба Кустодиев изобразил его на картине вместе с его другом Колей Семеновым, а во второй половине века оба они получили по Нобелевской премии. В Англии он успел еще увидеть закатную зарю Викторианской эпохи, а в России попал одно время в немилость к самому Сталину. Могу ли я реконструировать внутренний мир такого человека? Не безнадежны ли окажутся все мои попытки?
Они были бы и в самом деле безнадежны, если бы не одно спасительное обстоятельство: все люди сродни друг другу и в своей сокровенной глубине имеют общую природу. Правда, есть разные человеческие типы, но их не так уж много, а главное – все они в потенции наличествуют у каждого человека, хотя реализуется лишь один из них. Это как в модели атома по Нильсу Бору: энергетические уровни могут быть не какие попало, а лишь «разрешенные». Если мы допустим, что всякий атом, занимая определенный уровень, знает и обо всех остальных, получится совсем хорошая аналогия. Положение вещей, описываемое этой аналогией, обеспечивает возможность «вживания» писателя в образ своих героев, и само существование художественной литературы подтверждает такое положение вещей. При этом главным становится отыскание ключа к человеку, определение его «типа», остальное дается уже значительно легче. И мне кажется, что я нащупал «тип» Капицы, который сейчас же и назову. Суть Капицы как ученого состояла в том, что он был РОМАНТИК НАУКИ.
Его научный романтизм был органичным и окрашивал всю исследовательскую, организационную и преподавательскую его деятельность. Эту черту не могли вытравить ни время, ни обстоятельства. Я не знаю, какую роль в появлении в нем этой доминантной черты играли врожденные особенности, а какую – приобретенные, но я знаю, что сейчас в науке таких людей уже нет, ибо эпоха научного романтизма кончилась. И если говорить о крупных фигурах, то Капица был ПОСЛЕДНИМ РОМАНТИКОМ НАУКИ, а поэтому соединил собой две эпохи. Это делает его личность особенно интересной, а историю жизни – поучительной.
Романтизм, о котором я говорю, не должен пониматься, как нечто незрелое или наивное. Это не переходная фаза к чему-то более серьезному, а являющееся само вполне серьезным и внутренне обоснованным специфическое отношение к окружающему миру и своему месту в нем. Представители этого романтизма зачастую проявляют даже большую реалистичность в оценке событий, чем захватившие ныне науку в свои руки прагматики. Это особенно хорошо видно как раз на примере Капицы. Он никогда не носил розовых очков, и от его высказываний часто веяло какой-то освежающей трезвостью. Чтобы было ясно, что я имею в виду, приведу две иллюстрации. Первая из них – это то, что я уже говорил выше о его биографических очерках, в которых отсутствовала какая-либо восторженность, неправильно связываемая многими с романтизмом. Вторая иллюстрация – неоднократно высказываемая Капицей в докладах и статьях пессимистическая точка зрения на энергетическое будущее человечества. Приводя неумолимые цифры и факты, он безжалостно развеивал мечты о широком освоении солнечной энергии и геотермальных источников (слишком мала плотность энерговыделения) и ядерной реакции деления (появление вредных радиоактивных отходов). Что же касается ядерной реакции синтеза, то, по мнению Капицы, если она даже будет осуществлена в контролируемой форме, то ввиду неизбежного рассеяния части получаемой энергии в окружающую среду это приведет к повышению средней температуры земли со всеми грозными последствиями этого – к таянию льдов Антарктиды, неустойчивому климату и т. д. Этот пример особенно интересен, так как те люди, которых принято в обиходе называть романтиками, как раз очень любят разглагольствовать о «неограниченных возможностях», которые открывает перед человеческим родом наука, о захватывающих перспективах на грядущие века в материальном процветании общества. Капица не только не имел ничего общего с такими людьми, но даже был им в некотором смысле антагонистичен.
В чем же тогда заключался его романтизм?
Он заключался в том, что на протяжении всей жизни главным стимулом его исследований было то обстоятельство, что эти исследования очень интересны. Это было для него определяющим в физике. Разумеется, он много внимания уделял и извлечению практической пользы из своих научных открытий и, более того, всегда стремился довести разрабатываемую в его институте тему до стадии технических приложений, но и это было следствием того же самого любопытства. Глядя на окружающий нас физический мир, Капица умел отыскать в нем то одну, то другую захватывающую головоломку и, отыскав ее, начинал неотступно думать над ее решением. Возможность практических применений научной идеи тоже воспринималась им чем-то вроде шарады, и он брался за эту шараду с тем же трепетным интересом, с каким приступал к обдумыванию принципиальных научных проблем.