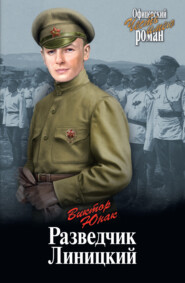По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Убийство с продолжением
Автор
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я смотрю, тебе не во благо пошла поездка в Ниццу, Виктор? У тебя со здоровьем все в порядке? Может, путевку в санаторий тебе оформить? Поедешь, отдохнешь, подлечишься.
– Ты знаешь, Андрюша, когда практически на твоих глазах убивают человека, к которому ты шел, да еще и убивают за то, что именно тебя интересует, у любого нормального человека, я полагаю, реакция будет такая же, как и у меня. Я просто в шоке. К тому же, как ты уже знаешь, меня с моими коллегами по командировке едва ли не обвинили в этом самом убийстве… Со мной чуть нервный срыв не случился.
– Вот я и говорю, давай тебе путевку в санаторий оформим. Куда-нибудь в Подмосковье. Или на юг хочешь?
– Андрюша, дай мне немного прийти в себя, а потом уже и про санаторий подумать можно. К тому же мне нужно срочно составить отчет о командировке для этого Карамазова, черт бы его подрал.
– Это как же ты о своем благодетеле отзываешься? – засмеялся директор. – Теперь я представляю, как ты обо мне отзываешься в некоторых кругах.
– Андрюша, перестань, дорогой. Я понимаю, что ты шутишь, но поверь, мне сейчас не до шуток. С одной стороны, конечно, человек хотел сделать доброе дело – выкупить рукопись неизвестного романа Достоевского, к тому же он обещал на какое-то время дать мне с этой рукописью поработать. Но, с другой стороны, по его милости и помимо своей воли я на старости лет вляпался в некую криминальную историю.
– Знаешь, Витюша, как говорится, все, что бог ни делает, все к лучшему.
– Ты же знаешь, я не верю ни в какого бога, ни в какого черта.
– Ладно! Возвращайся к себе, займись делом. Это поможет тебе успокоиться. Надумаешь в санаторий поехать, зайди ко мне, я дам команду профкому.
Профессор Мышкин поднялся и, не прощаясь, вышел из кабинета. Директор смотрел ему вслед и участливо покачивал головой.
В кабинете к нему подошла его аспирантка, Анна Сугробова, двадцатисемилетняя красавица с белокурыми вьющимися волосами чуть ниже плеч, тонким острым носиком, такими же тонкими, алого цвета губами и красивыми дугообразными наполовину выщипанными бровями. Всю эту красоту ее лица слегка портили немного неудачные очки. Впрочем, Анна этим не заморачивалась – для нее важнее было удобство, а не красота.
Она тоже переживала за своего пожилого профессора, и прежде не отличавшегося крепким здоровьем, а теперь уж и подавно.
– Да не переживайте вы так, Виктор Алексеевич. Нам с вами еще монографию по неизвестному Достоевскому закончить нужно.
Мышкин улыбнулся. Анна уже давно нашла способ, как успокаивать своего научного руководителя. Этим она ему нравилась еще больше. Она оказалась девушкой не только умной, но и с чисто женскими хитрецой и лукавством. Даже жена, как догадывался Виктор Алексеевич, стала тайно ревновать его к этой аспирантке. Но это уже было бы слишком. Понятно, что у некоторых мужчин его возраста вместе с сединой в бороде появляется и бес в ребре, но Мышкин не из таковских. Он живет со своей Аллой почти сорок лет и не собирается ничего менять в своей семейной жизни.
– Ты вот что, Анечка, напрягись, порыскай еще раз в архивах, в письмах Федора Михайловича; если нужно будет, оформлю тебе командировку в Пушкинский дом. Нужно найти какие-то ниточки к роману, предположительно, «Каторжники».
– Так уже вроде бы все наследие Достоевского изучено вдоль и поперек.
– Значит, не все, коли вдруг обнаруживаются неизвестные доселе рукописи, – недовольно произнес профессор Мышкин.
– Хорошо, Виктор Алексеевич. Я постараюсь.
– Постарайся, пожалуйста. Тогда мы сможем это отразить и в твоей диссертации. Это станет настоящей литературной бомбой!
13
Пребывание в Семипалатинске надоело писателю до смерти; жизнь в нем болезненно мучила его. Даже сами занятия литературой сделались для него не отдыхом, не облегчением, а мукой. Во всем этом Достоевский винил обстановку и слишком частые болезни. С этим нужно было что-то делать, и в мае 1857 года он взял двухмесячный отпуск и уехал в казачий поселок Озёрки, в 16 верстах от Семипалатинска, на живописном берегу седого красавца Иртыша.
Степная ширь, речная прохлада, спокойная, размеренная жизнь казаков, не обремененных в ту пору и в тех краях никакими боевыми действиями, должно было благотворно сказаться на здоровье Федора Михайловича.
Он снял комнату в доме вдовы скончавшегося года четыре назад подъесаула Желнина. Чтобы как-то прокормить и себя, и двух девчушек – семи и восьми лет, Клавдия Георгиевна пошла учительствовать в начальное училище. Ее дом порекомендовала знавшая ее знакомая Достоевского в Семипалатинске, она же и записку для Желниной передала с Достоевским. Клавдия Георгиевна отказывать офицеру не стала – какой-никакой, а дополнительный заработок за сданную комнату никогда не помешает. Впрочем, сдала недорого, войдя в положение бывшего ссыльного, – всего за десять рублей в месяц да плюс 50 копеек за питание в день.
Это была среднего роста, ладно скроенная, полноватая, чернобровая и черноволосая казачка лет тридцати. Пухлые губы, большие, черные же глаза и чуть грубоватый нос дополняли картину.
Достоевский привез с собой, помимо небольшого чемодана с вещами, дорожную палисандровую шкатулку для бумаг, подаренную ему дорогим другом, Чоканом Валихановым, с которым Достоевский познакомился в первые же дни пребывания в Семипалатинске. Это был не простой ящик – он имел двойное, потайное дно. Именно в нем Достоевский и хранил многие свои, написанные в Семипалатинске, тексты, а также письма и некоторые вещи.
Общий язык с хозяйкой дома общительный Достоевский нашел сразу, порою даже помогал ей по хозяйству да объяснял хозяйкиным дочкам какие-то непонятные вопросы по обучению грамоте – мать, занятая учительством, не всегда имела желание возиться с уроками еще и дома. А сама Желнина не обращала внимания на злопыхательства соседок – мол, завела себе женишка из каторжных.
– Давно плети казацкой не пробовала, – сплевывая сквозь зубы, говорили казаки.
Достоевский обживал свое временное жилище не без удовольствия. Он отдыхал здесь душой и телом. Некрашеные, кое-где подгнившие, а где и дырявые стены он решил заклеить бумагой. Но где взять бумагу в таком количестве в этой глуши? В ход пошли его черновые рукописи – получилось даже забавно. Желнина, помогая постояльцу в оклейке стен, иногда останавливалась, читая. Несколько раз спрашивала:
– И вам не жалко своего труда?
– Это черновики, беловой вариант в моей шкатулке ждет своего часа для публикации.
Достоевскому здесь писалось легко, Желнина запретила дочкам входить в комнату к квартиранту, когда он работал. А у Федора Михайловича в голове уже созрел план нового романа о житье-бытье, мытарствах и заботах каторжников. Первую фазу работы над произведением он называл «выдумыванием плана». Но в данном случае выдумывать ничего не нужно было – всему этому он был личным свидетелем. Но не только страдания – любовь тоже будет в романе не на последнем месте. Куда ж без нее! А потом, когда героев из каторжников переведут в солдатчину, нравственные страдания еще более усилятся, дойдет даже до тайной дуэли, в которой один из героев погибнет, а другой снова отправится на каторгу, и неизвестно, кому из них стало лучше. А героиня, любившая обоих, в конце концов сошла с ума…
Так незаметно для Достоевского промчался первый месяц его отпуска в Озёрках. В один из дней, точнее, в одну из ночей, когда он засиделся едва не до рассвета, он почувствовал себя плохо, начинались судороги, голова стала запрокидываться назад, напряглись мышцы всего тела – первые признаки падучей болезни. Понимая, что одному с припадком не справиться, он хотел было позвать хозяйку, но, едва встал на ноги, тут же свалился на пол, зацепив трехногий табурет и глухо застонав. Шум разбудил хозяйку. Она открыла глаза, соображая, что это мог быть за шум, затем встала, не зажигая свечки, как была, в ночной сорочке и с чепцом на голове, подошла к комнате постояльца, негромко позвала:
– Федор Михайлович, что-то случилось?
Ответом ей было молчание.
Она позвала чуть громче, оглянувшись на спящих девочек, – не разбудила ли? Но дочки спали, а Достоевский снова не ответил. Тогда она, осторожно ступая, раздвинула ситцевую ширму, отделявшую комнату писателя, и, сделав пару шагов в темноте, споткнулась о лежавшее тело. Ойкнув от неожиданности, она поняла, что произошло. Быстро вернулась в свою комнату, нашла свечу в подсвечнике, чиркнула спичкой. Неровное, дрожащее пламя слегка притушило мрак. Женщина вернулась в комнату Достоевского, склонилась над ним, а у него уже изо рта пошла пена. Желнина поняла, в чем дело, поставила свечу на пол, метнулась к печи, вытащила из котла деревянную ложку, с огромным усилием разжала ему рот. Он весь дрожал, глухо стеная и покрывшись потом.
Когда приступ стал отступать и Достоевскому стало немного легче, Желнина перетащила его и уложила на широкую скамью, служившую кроватью. Села рядом, поглаживая волосы, утирая капельки пота. Она вглядывалась в лицо Достоевского, и в полумраке ей вдруг показалось, что оно похоже на лицо ее покойного мужа. От такого наваждения ей самой едва не стало плохо, она вздрогнула, и в этот момент Достоевский открыл глаза. Он был все еще слаб и бледен, но смог выдавить из себя слова благодарности:
– Задал я вам хлопот, Клавдия Георгиевна. Это все проклятая каторга, она мне здоровье подорвала.
– Так на то она и каторга, чтобы людей гробить, – тихо ответила Желнина, даже забыв, что ее рука все еще лежит на его волосах.
Опомнившись, она хотела было убрать руку, но Достоевский успел предвосхитить ее движение, приблизил ее ладонь к своим губам и поцеловал. Пальцы ее руки задрожали, она глянула на Достоевского, и взгляды их встретились. Ее неотвратимо влекло к нему – после смерти мужа у нее ни с кем близости не было. Да и Достоевский ничуть не менее лет был лишен женской ласки.
– Вам бы соснуть, Федор Михайлович, – неуверенно произнесла Желнина. – Слабость у вас. Да и мне бы не мешало поспать. Вон, уже светает, а мне рано вставать.
Сказав это, она все же сама не спешила уходить. А он ее не торопил. Так они и застыли в своих позах, пока не услышали, как зашевелилась на своем сундуке одна из девочек. К тому же и Достоевского вдруг охватил приступ кашля. Он уткнулся в подушки, Желнина поднялась, но Достоевский свободной рукой попросил ее не уходить.
– Не беспокойтесь, бога ради, это не чахотка, это эмфизема легких, – откашлявшись, произнес он. – А она не заразная.
– Кумыс вам нужно попить, от всяких болячек вылечит.
Достоевский знал свой диагноз и понимал, что вскоре умрет – если не от припадка падучей, то от необратимых изменений в легких. Впрочем, это знание не мешало ему до последних дней оставаться заядлым курильщиком. При этом, как и множество курильщиков в России той эпохи, курил папиросы «Жукова». Но часто и это ему было не по карману, и он тогда примешивал самую простую махорку. Он сам набивал папиросы и только в последние полгода частично перешел на сигары – в рассуждении, что они вызывают не столь сильный кашель. Он умер в результате разрыва легочной артерии – как следствия эмфиземы: означенное в свидетельстве о смерти было зафиксировано: «от болезни легочного кровотечения».
Желнина на следующий день принесла в дом крынку кумыса, купленную на базаре у приезжих киргизов. Дочки было обрадовались, но она остудила их порыв:
– Федор Михайлович болеет. Кумыс для него.
Девочки, понурившись, отошли, но Достоевский, услышавший это, вышел из своей комнаты.
– Что же вы делаете, Клавдия Георгиевна? Меня, здорового мужика, к тому же чужого вам, молоком хотите поить, а малым деткам отказываете. Я тогда тоже не буду пить.
Девочки исподлобья глянули сначала на писателя, затем на мать. Та вздохнула, взяла три кружки и каждому налила поровну.
– Пейте, горюшки мои.
– Ты знаешь, Андрюша, когда практически на твоих глазах убивают человека, к которому ты шел, да еще и убивают за то, что именно тебя интересует, у любого нормального человека, я полагаю, реакция будет такая же, как и у меня. Я просто в шоке. К тому же, как ты уже знаешь, меня с моими коллегами по командировке едва ли не обвинили в этом самом убийстве… Со мной чуть нервный срыв не случился.
– Вот я и говорю, давай тебе путевку в санаторий оформим. Куда-нибудь в Подмосковье. Или на юг хочешь?
– Андрюша, дай мне немного прийти в себя, а потом уже и про санаторий подумать можно. К тому же мне нужно срочно составить отчет о командировке для этого Карамазова, черт бы его подрал.
– Это как же ты о своем благодетеле отзываешься? – засмеялся директор. – Теперь я представляю, как ты обо мне отзываешься в некоторых кругах.
– Андрюша, перестань, дорогой. Я понимаю, что ты шутишь, но поверь, мне сейчас не до шуток. С одной стороны, конечно, человек хотел сделать доброе дело – выкупить рукопись неизвестного романа Достоевского, к тому же он обещал на какое-то время дать мне с этой рукописью поработать. Но, с другой стороны, по его милости и помимо своей воли я на старости лет вляпался в некую криминальную историю.
– Знаешь, Витюша, как говорится, все, что бог ни делает, все к лучшему.
– Ты же знаешь, я не верю ни в какого бога, ни в какого черта.
– Ладно! Возвращайся к себе, займись делом. Это поможет тебе успокоиться. Надумаешь в санаторий поехать, зайди ко мне, я дам команду профкому.
Профессор Мышкин поднялся и, не прощаясь, вышел из кабинета. Директор смотрел ему вслед и участливо покачивал головой.
В кабинете к нему подошла его аспирантка, Анна Сугробова, двадцатисемилетняя красавица с белокурыми вьющимися волосами чуть ниже плеч, тонким острым носиком, такими же тонкими, алого цвета губами и красивыми дугообразными наполовину выщипанными бровями. Всю эту красоту ее лица слегка портили немного неудачные очки. Впрочем, Анна этим не заморачивалась – для нее важнее было удобство, а не красота.
Она тоже переживала за своего пожилого профессора, и прежде не отличавшегося крепким здоровьем, а теперь уж и подавно.
– Да не переживайте вы так, Виктор Алексеевич. Нам с вами еще монографию по неизвестному Достоевскому закончить нужно.
Мышкин улыбнулся. Анна уже давно нашла способ, как успокаивать своего научного руководителя. Этим она ему нравилась еще больше. Она оказалась девушкой не только умной, но и с чисто женскими хитрецой и лукавством. Даже жена, как догадывался Виктор Алексеевич, стала тайно ревновать его к этой аспирантке. Но это уже было бы слишком. Понятно, что у некоторых мужчин его возраста вместе с сединой в бороде появляется и бес в ребре, но Мышкин не из таковских. Он живет со своей Аллой почти сорок лет и не собирается ничего менять в своей семейной жизни.
– Ты вот что, Анечка, напрягись, порыскай еще раз в архивах, в письмах Федора Михайловича; если нужно будет, оформлю тебе командировку в Пушкинский дом. Нужно найти какие-то ниточки к роману, предположительно, «Каторжники».
– Так уже вроде бы все наследие Достоевского изучено вдоль и поперек.
– Значит, не все, коли вдруг обнаруживаются неизвестные доселе рукописи, – недовольно произнес профессор Мышкин.
– Хорошо, Виктор Алексеевич. Я постараюсь.
– Постарайся, пожалуйста. Тогда мы сможем это отразить и в твоей диссертации. Это станет настоящей литературной бомбой!
13
Пребывание в Семипалатинске надоело писателю до смерти; жизнь в нем болезненно мучила его. Даже сами занятия литературой сделались для него не отдыхом, не облегчением, а мукой. Во всем этом Достоевский винил обстановку и слишком частые болезни. С этим нужно было что-то делать, и в мае 1857 года он взял двухмесячный отпуск и уехал в казачий поселок Озёрки, в 16 верстах от Семипалатинска, на живописном берегу седого красавца Иртыша.
Степная ширь, речная прохлада, спокойная, размеренная жизнь казаков, не обремененных в ту пору и в тех краях никакими боевыми действиями, должно было благотворно сказаться на здоровье Федора Михайловича.
Он снял комнату в доме вдовы скончавшегося года четыре назад подъесаула Желнина. Чтобы как-то прокормить и себя, и двух девчушек – семи и восьми лет, Клавдия Георгиевна пошла учительствовать в начальное училище. Ее дом порекомендовала знавшая ее знакомая Достоевского в Семипалатинске, она же и записку для Желниной передала с Достоевским. Клавдия Георгиевна отказывать офицеру не стала – какой-никакой, а дополнительный заработок за сданную комнату никогда не помешает. Впрочем, сдала недорого, войдя в положение бывшего ссыльного, – всего за десять рублей в месяц да плюс 50 копеек за питание в день.
Это была среднего роста, ладно скроенная, полноватая, чернобровая и черноволосая казачка лет тридцати. Пухлые губы, большие, черные же глаза и чуть грубоватый нос дополняли картину.
Достоевский привез с собой, помимо небольшого чемодана с вещами, дорожную палисандровую шкатулку для бумаг, подаренную ему дорогим другом, Чоканом Валихановым, с которым Достоевский познакомился в первые же дни пребывания в Семипалатинске. Это был не простой ящик – он имел двойное, потайное дно. Именно в нем Достоевский и хранил многие свои, написанные в Семипалатинске, тексты, а также письма и некоторые вещи.
Общий язык с хозяйкой дома общительный Достоевский нашел сразу, порою даже помогал ей по хозяйству да объяснял хозяйкиным дочкам какие-то непонятные вопросы по обучению грамоте – мать, занятая учительством, не всегда имела желание возиться с уроками еще и дома. А сама Желнина не обращала внимания на злопыхательства соседок – мол, завела себе женишка из каторжных.
– Давно плети казацкой не пробовала, – сплевывая сквозь зубы, говорили казаки.
Достоевский обживал свое временное жилище не без удовольствия. Он отдыхал здесь душой и телом. Некрашеные, кое-где подгнившие, а где и дырявые стены он решил заклеить бумагой. Но где взять бумагу в таком количестве в этой глуши? В ход пошли его черновые рукописи – получилось даже забавно. Желнина, помогая постояльцу в оклейке стен, иногда останавливалась, читая. Несколько раз спрашивала:
– И вам не жалко своего труда?
– Это черновики, беловой вариант в моей шкатулке ждет своего часа для публикации.
Достоевскому здесь писалось легко, Желнина запретила дочкам входить в комнату к квартиранту, когда он работал. А у Федора Михайловича в голове уже созрел план нового романа о житье-бытье, мытарствах и заботах каторжников. Первую фазу работы над произведением он называл «выдумыванием плана». Но в данном случае выдумывать ничего не нужно было – всему этому он был личным свидетелем. Но не только страдания – любовь тоже будет в романе не на последнем месте. Куда ж без нее! А потом, когда героев из каторжников переведут в солдатчину, нравственные страдания еще более усилятся, дойдет даже до тайной дуэли, в которой один из героев погибнет, а другой снова отправится на каторгу, и неизвестно, кому из них стало лучше. А героиня, любившая обоих, в конце концов сошла с ума…
Так незаметно для Достоевского промчался первый месяц его отпуска в Озёрках. В один из дней, точнее, в одну из ночей, когда он засиделся едва не до рассвета, он почувствовал себя плохо, начинались судороги, голова стала запрокидываться назад, напряглись мышцы всего тела – первые признаки падучей болезни. Понимая, что одному с припадком не справиться, он хотел было позвать хозяйку, но, едва встал на ноги, тут же свалился на пол, зацепив трехногий табурет и глухо застонав. Шум разбудил хозяйку. Она открыла глаза, соображая, что это мог быть за шум, затем встала, не зажигая свечки, как была, в ночной сорочке и с чепцом на голове, подошла к комнате постояльца, негромко позвала:
– Федор Михайлович, что-то случилось?
Ответом ей было молчание.
Она позвала чуть громче, оглянувшись на спящих девочек, – не разбудила ли? Но дочки спали, а Достоевский снова не ответил. Тогда она, осторожно ступая, раздвинула ситцевую ширму, отделявшую комнату писателя, и, сделав пару шагов в темноте, споткнулась о лежавшее тело. Ойкнув от неожиданности, она поняла, что произошло. Быстро вернулась в свою комнату, нашла свечу в подсвечнике, чиркнула спичкой. Неровное, дрожащее пламя слегка притушило мрак. Женщина вернулась в комнату Достоевского, склонилась над ним, а у него уже изо рта пошла пена. Желнина поняла, в чем дело, поставила свечу на пол, метнулась к печи, вытащила из котла деревянную ложку, с огромным усилием разжала ему рот. Он весь дрожал, глухо стеная и покрывшись потом.
Когда приступ стал отступать и Достоевскому стало немного легче, Желнина перетащила его и уложила на широкую скамью, служившую кроватью. Села рядом, поглаживая волосы, утирая капельки пота. Она вглядывалась в лицо Достоевского, и в полумраке ей вдруг показалось, что оно похоже на лицо ее покойного мужа. От такого наваждения ей самой едва не стало плохо, она вздрогнула, и в этот момент Достоевский открыл глаза. Он был все еще слаб и бледен, но смог выдавить из себя слова благодарности:
– Задал я вам хлопот, Клавдия Георгиевна. Это все проклятая каторга, она мне здоровье подорвала.
– Так на то она и каторга, чтобы людей гробить, – тихо ответила Желнина, даже забыв, что ее рука все еще лежит на его волосах.
Опомнившись, она хотела было убрать руку, но Достоевский успел предвосхитить ее движение, приблизил ее ладонь к своим губам и поцеловал. Пальцы ее руки задрожали, она глянула на Достоевского, и взгляды их встретились. Ее неотвратимо влекло к нему – после смерти мужа у нее ни с кем близости не было. Да и Достоевский ничуть не менее лет был лишен женской ласки.
– Вам бы соснуть, Федор Михайлович, – неуверенно произнесла Желнина. – Слабость у вас. Да и мне бы не мешало поспать. Вон, уже светает, а мне рано вставать.
Сказав это, она все же сама не спешила уходить. А он ее не торопил. Так они и застыли в своих позах, пока не услышали, как зашевелилась на своем сундуке одна из девочек. К тому же и Достоевского вдруг охватил приступ кашля. Он уткнулся в подушки, Желнина поднялась, но Достоевский свободной рукой попросил ее не уходить.
– Не беспокойтесь, бога ради, это не чахотка, это эмфизема легких, – откашлявшись, произнес он. – А она не заразная.
– Кумыс вам нужно попить, от всяких болячек вылечит.
Достоевский знал свой диагноз и понимал, что вскоре умрет – если не от припадка падучей, то от необратимых изменений в легких. Впрочем, это знание не мешало ему до последних дней оставаться заядлым курильщиком. При этом, как и множество курильщиков в России той эпохи, курил папиросы «Жукова». Но часто и это ему было не по карману, и он тогда примешивал самую простую махорку. Он сам набивал папиросы и только в последние полгода частично перешел на сигары – в рассуждении, что они вызывают не столь сильный кашель. Он умер в результате разрыва легочной артерии – как следствия эмфиземы: означенное в свидетельстве о смерти было зафиксировано: «от болезни легочного кровотечения».
Желнина на следующий день принесла в дом крынку кумыса, купленную на базаре у приезжих киргизов. Дочки было обрадовались, но она остудила их порыв:
– Федор Михайлович болеет. Кумыс для него.
Девочки, понурившись, отошли, но Достоевский, услышавший это, вышел из своей комнаты.
– Что же вы делаете, Клавдия Георгиевна? Меня, здорового мужика, к тому же чужого вам, молоком хотите поить, а малым деткам отказываете. Я тогда тоже не буду пить.
Девочки исподлобья глянули сначала на писателя, затем на мать. Та вздохнула, взяла три кружки и каждому налила поровну.
– Пейте, горюшки мои.