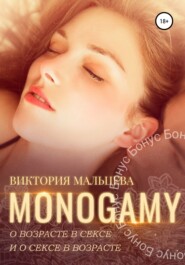По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вспомни меня. Книга 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из его хижины валит дым: он уже вернулся – сегодня неожиданно рано, а я впервые не рада. Я бы взяла «тайм-аут» – несколько часов его отсутствия на обдумывание его же решений.
Забавно, но раньше мне всегда приходилось расчленять только собственные промахи, а теперь вот его выходят на первый план. И что самое странное и… страшное, его поступки намного больнее.
Не правильно это, болезненно не верно, если Цыпа, как бы неприятна она мне ни была, осталась без его поддержки. Он участвовал в том, что сделало её беременной, а значит, самой уязвимой из всех. Без него ей не выжить, ясно же. На её месте я бы изо всех сил постаралась, но будем честными – шансы невелики.
И есть ещё кое-что. Как же можно оставаться таким безразличным к младенцу? Ладно я – все, включая меня саму, уже поняли, что со мной что-то не так, и я не вписываюсь в стандарт эмоциональных реакций на общие для всех события, но, если всё это отбросить, он ведь, получается… отец.
Мне кажется, у него это не обязанность, а потребность должна быть заботиться и защищать их обоих. Разве нет? Тогда чем же он сейчас занят?
В котелке варится птица – сегодня только одна – вот, почему он вернулся раньше.
Он не смотрит на меня, когда я вхожу, и, хотя я ему за это благодарна, меня одновременно забавляет и пугает то, как безошибочно он чувствует моё настроение. Как, впрочем, и я его. Он улыбается мне, когда я хочу ему улыбаться. Он тянется поцеловать, когда я думаю о том, какие красивые у него губы. Он не отрывает взгляд всякий раз, когда у меня вдруг возникает это странное головокружение и чувство, будто я проваливаюсь в другое измерение.
В тот самый первый день трезвости и сознания после болезни и началась моя сказка. Местами она была стыдной, неловкой, непонятной, но всегда до умопомрачения уютной, потому что обо мне никогда ещё так не заботились.
Первым делом он поменял мой спальник на сухой и помог переодеться в сухую одежду. Пока я боролась с напором стыда и смущения, он вынимал мои руки из рукавов так, будто делал это тысячи раз до этого. Моя нагота для него – уже вещь привычная, похоже. Я прикрывала грудь руками и ещё сильнее краснела, понимая, как это глупо: в течение пяти дней моего полусознания никто не прикрывал мне грудь.
И ещё мне открылось, что он умеет быть заботливым на гораздо более тонком уровне, нежели добыча еды и смена белья. Когда мой взгляд в очередной раз болезненно упёрся в галерею моих же трусов над костром, он снял с моей гордости плиту стыда и позора:
– Во время этой болезни люди очень сильно потеют.
И я вспомнила: о да, это правда! И Умник, и Леннон почти никогда не ходили в туалет, потому что вся жидкость выходила из них по?том. А постель бедолаги, чью хижину мы разворотили, была завалена тряпьём – он кутался во всё, что у него было, потому что мёрз, а мёрз, потому что был мокрым и не имел сил переодеться. Умника и Леннона тоже Альфа переодевал, поэтому я сразу и не сообразила.
– Я – гигантская нескончаемая проблема для тебя, – согласилась я с очевидным.
– Мир был бы скучным без проблем, а значит, бессмысленным, – ответил он.
Потом до меня дошло, что всё это он делал, болея сам, и никто о нём не заботился. Правда, и болел он легче всех, что ещё раз подчеркнуло, выпятило – он сильнее всех.
Но он всё-таки болел. У него тоже был жар, и он тоже потел.
Болеть вместе. Быть соучастниками не только в быту, но и в боли, в страдании, страхе. Даже если один менее болен или совсем не болен, болит у него не меньше, только в другом месте. Ему тоже страшно, только совсем другим страхом.
И этот его страх я осознала явно и трезво, когда он обернул меня в спальник, взял на руки и, будучи сам слабым после болезни, понёс на берег. Когда остановился передохнуть, и мы сидели на стволе не пережившего цунами дерева, я напомнила ему:
– Я тяжёлая.
– Нет, ты почти ничего не весишь, – ответил он. – Дело во мне.
Конечно, в нём. Он сам ещё не выздоровел.
А когда мы, наконец, добрались до пляжа, он сказал:
– Вот твоё море.
Альфа долго и тщательно моет руки в глиняной миске, которую вылепила когда-то я, потом принимается отделять крошечные куски мяса от тонких косточек птицы и протягивает их мне. Я не сопротивляюсь, молча жую всё, что он в меня пихает, хотя есть совсем не хочется. Всё это дело потом приходится запить бульоном, и он не соглашается взять хотя бы часть себе.
– Я крепче, – всегда его ответ.
Потом вынимает из моего рюкзака толстую бутылку с витаминами и даёт мне одну.
– Тебе тоже нужно, – настаиваю.
– Я крепче, – мотает головой и быстро прячет банку обратно.
Не было бы у нас этих банок сейчас, если бы не он. И у Леннона с Умником также не было бы шанса. Как и у меня, впрочем.
RichardWalters – Unconditional
Это было давно… но и не в первые дни, впрочем. Я что-то сделала, наверное, снова грибов набрала, а он опять заметил и орал на меня. Я, конечно, огрызалась, и тогда он произнёс эту фразу: «Что бы это ни было, мы вляпались из-за тебя». Потом добавил: «Я в этом уверен». Вот если бы не добавка, у меня не возникло бы даже сомнений, что фраза касалась грибов и прочих моих действий, влекущих потенциальные проблемы. Но вот, «Я в этом уверен» как-то разрушило всю картину. В то время я начала уже сомневаться в собственных способностях, и у меня появились мысли вроде «может, дело не в том, что я меньше всех помню, а в том, что я просто-напросто тупее всех остальных, а не умнее, как мне думалось в самом начале?». Моё непонимание разговоров (хоть своих, хоть чужих) и остающиеся не отвеченными вопросы стали хроническими, и мне это уже было привычно, поэтому я быстро забыла нашу очередную ссору и его слова.
И вот именно сейчас, когда мы оба худые, как скелеты, сидим в его хижине и смотрим друг на друга, в моей памяти вдруг всплывает этот эпизод. И мне приходит в голову, что ключ ко всему мне вручили в самом начале, просто я, недотёпа, сунула его в дальний карман и забыла.
– Ты помнишь что-нибудь? – спрашиваю его прямо.
Он отводит глаза и молчит.
– Ты помнишь, – отвечаю за него.
В моих словах грусть, потому что… если он помнил, почему не сказал? Больно думать, как много ошибок я могла бы избежать, насколько счастливее была бы в эти месяцы, насколько счастливее был бы он – и я в этом не сомневаюсь, потому что вот уже несколько дней живу с ним в сознании, сплю в его руках, смотрю в его глаза, отвечаю на его поцелуи «Я с краешку».
– Ты с самого начала всё помнил?
Мне не хочется быть с ним холодной, да и нет на это права, но по-другому никак не получается.
– Нет, – сразу отвечает, и я выдыхаю.
– А когда?
Он тянет с ответом, долго качает головой, будто сам не верит.
– Когда ты болела… и совсем мало.
Я соображаю долго.
– Когда я болела? Это в самом начале?
– Сейчас.
Он поднимает глаза, а я могу смотреть в них вечно. Со всеми остальными иначе: долгие взгляды причиняют мне дискомфорт, я их избегаю, всячески уклоняюсь и строго лимитирую. А вот с ним – совсем другое дело.
– Почему мне так… уютно с тобой? – неожиданно для себя самой спрашиваю.
От этого вопроса его лицо становится светлее и мягче, он начинает немного улыбаться.
– А ты как думаешь?
– Я думаю, всё дело в том…