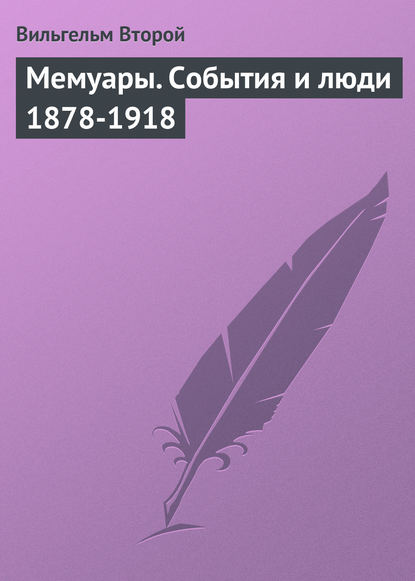По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мемуары. События и люди 1878-1918
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я настаивал на своем предложении, приводя принцип Фридриха Великого: «Я хочу быть королем бедняков». Это мой долг, говорил я, позаботиться об используемых индустрией детях своей страны, защитить их силы и улучшить их условия существования.
Противодействие канцлера моему плану не заставило себя долго ждать. Осуществление этого плана стоило мне много труда и борьбы, так как крупная индустрия отчасти сгруппировалась вокруг канцлера. Коронный совет собрался под моим председательством. На первом заседании неожиданно появился сам канцлер и обратился к собранию с приветственной речью, в которой с иронией критиковал мое начинание, отказывая ему в своем содействии. Затем он покинул зал.
После ухода канцлера собрание осталось под впечатлением этой эффектной сцены. Безапелляционность и категоричность, с которыми великий канцлер, убежденный в своей правоте, выступил в пользу своей политики и против моей, на меня и на всех присутствующих произвели импонирующее воздействие.
Тем не менее, этот случай не мог не задеть меня глубоко. Собрание затем снова возобновило свои работы и доставило богатый материал для дальнейшего развития социального законодательства, вызванного к жизни еще кайзером Вильгельмом Великим, составляющего гордость Германии и выдвигающего такое попечение о трудовом населении, какое нельзя найти ни в одной стране.
После этого я решил созвать международный социальный конгресс, чему князь Бисмарк также воспротивился. Швейцария лелеяла ту же мысль, намереваясь созвать аналогичный конгресс в Берне. Швейцарский посол Рот, узнав о моем намерении, посоветовал принять приглашение в Берлин, отказавшись от приглашения в Берн. Так и случилось. Конгресс мог быть созван в Берлине благодаря лояльности г-на Рота. Материалы конгресса, использованные, правда, только в Германии, были переработаны в соответствующие законопроекты.
Впоследствии я говорил с Бисмарком о высказанном им требовании бороться с социалистами в случае их революционных выступлений при помощи пушек и штыков. Я пытался убедить его в том, что никоим образом не могу запятнать первые годы своего правления кровью детей своего отечества, едва только кайзер Вильгельм Великий смежил свои глаза после счастливого царствования. Бисмарк настаивал на своем и сказал, что он взял бы все на себя. Я только должен предоставить ему свободу действовать. Я ответил, что никак не мог бы согласовать это с моей совестью и с моей ответственностью перед Богом ведь я хорошо знал, что рабочий народ находится в плохом положении, которое обязательно необходимо улучшить.
Разница во взглядах кайзера и канцлера на социальный вопрос, т. е. на участие государства в развитии благосостояния трудового населения, и была, собственно, причиной разрыва между нами. Она навлекла на меня враждебность со стороны Бисмарка, а вместе с тем и неприязнь на долгие годы большей части преданного Бисмарку немецкого народа, в особенности чиновничества.
Эта разница во взглядах канцлера и моих была вызвана его мнением, что социальный вопрос может быть разрешен при помощи суровых мероприятий или войск, а не на основе человеколюбия и тех бредней о гуманности, которые он во мне находил. Бисмарк не был врагом рабочих это я хотел бы подчеркнуть после сказанного. Напротив, он был слишком великий политик, чтобы не понимать важное значение рабочего вопроса для государства. Но он смотрел на его решение исключительно с точки зрения государственной целесообразности. Государство, по его мнению, должно заботиться о рабочих постольку, поскольку правительство найдет это необходимым. Об участии самих рабочих в социальном законодательстве почти не было речи. Подстрекательство и восстания должны сурово подавляться, в случае необходимости и силой оружия. Попечение с одной стороны, железный кулак с другой вот в чем состояла социальная политика Бисмарка. Я же хотел завоевать душу немецкого рабочего и горячо боролся за достижение этой цели. Я был преисполнен ясного сознания своего долга и своей ответственности перед всем моим народом, а, следовательно, и перед трудящимися классами. Рабочие должны были получить то, что им следовало по закону и справедливости. Причем там, где кончались желания и возможности работодателей, рабочим, поскольку это было необходимо, должны были прийти на помощь государь и его правительство. Как только я убеждался в том, что необходимы улучшения, а промышленники хотя бы отчасти не хотели этого признавать, я из чувства справедливости вступался за рабочих.
Я достаточно изучал историю, чтобы не стать жертвой иллюзии о возможности осчастливить весь народ. Мне было ясно, что одному человеку невозможно сделать «счастливым» целый народ. В конце концов, счастлив только тот народ, который доволен или, по крайней мере, хочет быть довольным. Последнее желание предполагает, разумеется, известную степень понимания возможного, т. е. объективность, чего, к сожалению, очень часто не хватает. Я отчетливо понимал, что при безграничных требованиях социалистических вождей беспочвенные вожделения будут все больше разгораться. Но именно для того, чтобы можно было убедительно и с чистой совестью выступать против неосновательных домогательств, именно поэтому нельзя было отказать в признании законных требований и в содействии им.
Политика, преследующая благо рабочих, при конкуренции на мировом рынке, несомненно, наложила тяжкое бремя на всех промышленников Германии известными законами об охране труда, особенно в сравнении с промышленностью, например бельгийской, которая при малой заработной плате могла беспрепятственно выжимать до последней капли все соки из человеческих ресурсов Бельгии, не чувствуя при этом ни угрызений совести, ни сострадания при виде падающей нравственности истощенного, беззащитного народа. Такое положение, какое было в Бельгии, я благодаря моему социальному законодательству сделал невозможным в Германии.
Во время войны я приказал генералу барону фон Биссингу ввести и в Бельгии это законодательство на благо бельгийских рабочих. Первоначально, однако, это законодательство было тяжелым камнем на шее немецкой индустрии в борьбе с мировой конкуренцией и возбуждало недовольство у многих крупных промышленников, что, с их точки зрения, было вполне понятно. Государь, однако, должен всегда иметь в виду благо целого, и поэтому я, не сворачивая, продолжал идти по выбранному пути.
С другой стороны, те рабочие, которые слепо следовали за социалистическими вождями, не отвечали мне никакой благодарностью за оказанное им покровительство и за мои труды. Нас разделял девиз Гогенцоллернов «suum quicue», что означает «Каждому свое», противоречивший девизу социал-демократов «Всем одно и то же».
Меня также занимала мысль хоть отчасти избавить от конкуренции, по крайней мере, индустрию континентальной Европы, введя своего рода ограничения на вывоз за границу и создав, таким образом, облегчение для производства; это, в свою очередь, должно было повести к улучшению жизни трудящихся классов.
Очень характерно то впечатление, которое получали иностранные рабочие при изучении социального законодательства в Германии. За несколько лет до начала войны, в Англии, под давлением рабочего движения, пришли к убеждению, что необходимо больше позаботиться о рабочих. В Германию приехал ряд комиссий, в том числе и рабочих. Посетив под руководством немецких представителей, среди которых были и социалисты, промышленные предприятия, фабрики, благотворительные учреждения, лечебные заведения страховых касс и т. п., они были поражены тем, что им пришлось увидеть. На прощальном обеде, данном в их честь, английский вождь рабочих депутаций обратился к Бебелю с замечанием: «После того, как мы видели здесь, что делается для рабочих Германии, я вас спрашиваю: и вы еще такие же социалисты?» В разговоре с очевидцем англичане заметили, что если бы им удалось после долгой борьбы в своем парламенте провести хотя бы десятую часть того, что в Германии уже в течение многих лет делается для рабочих, то они были бы очень довольны.
Я с интересом следил за этими посещениями английских депутаций и удивлялся их незнанию положения вещей в Германии. Еще больше удивляли меня, однако, переданные английским посольством вопросы английского правительства на ту же тему, изобличавшие прямо поразительное неведение того, что было проделано в Германии в области социальных реформ. В беседе с английским послом я заметил, что Англия ведь в 1890 году была представлена на Берлинском социальном конгрессе и уж, конечно, по крайней мере, через посольство получала сведения о дебатах в рейхстаге, в масштабах размерах проводившихся по поводу отдельных социальных мероприятий. Посол ответил, что у него появилась та же мысль, и поэтому он велел просмотреть старые дела посольства. При этом было констатировано, что посольство самым подробным образом доносило обо всем в Лондон и что о каждой важной стадии успешного развития социальных реформ посылались туда объемистые донесения. Однако, прибавил британец, пожимая плечами: «Так как они шли из Германии, их никто не читал. Их просто прятали в шкафы для бумаг, и там они с тех пор и остались. Это настоящий позор! Германия никого не интересует у нас». Английский король и английский парламент либо не обладали достаточной совестью, либо не имели времени или охоты, чтобы заняться улучшением положения рабочего класса. «Политика окружения», склонявшая к уничтожению Германии, в первую очередь ее промышленности и вместе с ней рабочего класса, была для них гораздо важнее и выгоднее.
9 ноября 1918 года радикальные немецкие социалистические вожди с их кликой примкнули к этому британскому разрушительному намерению. В областях, доступных моему влиянию, например в управлении моим двором, в императорском автомобильном клубе и т. п., я даже в мелочах способствовал проявлению социальной точки зрения. Так, например, из денег, получаемых служителями при осмотре дворцов, я приказал образовать особый фонд, который считался собственностью служителей и с течением времени достиг крупной суммы. Из средств этого фонда служители и их семьи получали прибавки для поездок на курорты, средства на лечение и похороны, на приданое для детей, прибавки на издержки по конфирмации и тому подобные нужды.
По просьбе вновь организованного «императорского автомобильного клуба» я принял покровительство над ним и по его приглашению присутствовал на завтраке в прекрасном помещении выстроенного клубом дома. Здесь я встретил, кроме таких магнатов, как герцоги фон Ратибор, фон Уест и др., также и ряд лиц из берлинской haute finance и индустрии, часть которых вели себя так, словно «взбесились при виде горностая». Когда разговор зашел о шоферах, я предложил основать фонд, который давал бы последним вспомоществование для лечения при несчастных случаях и обеспечение близких на случай смерти. Это предложение встретило общее сочувствие, и фонд имел большой успех. Подобный же фонд я создал впоследствии для капитанов и первых лоцманов в императорском яхт-клубе в Киле.
Особую радость мне доставлял основанный мной «Детский дом» кайзера Вильгельма в Альбеке, куда ежегодно с мая по конец сентября партиями, меняясь через каждые четыре недели, привозили на отдых большое число детей из беднейших рабочих кварталов Берлина. Дом этот еще и теперь находится под испытанным руководством выдающейся начальницы м-ль Киршнер, дочери бывшего берлинского обер-бургомистра, и достиг блестящих результатов в психологическом и физическом воспитании детей. Чахлые, бледные, жалкие дети большого города превращались в свежие, цветущие, жизнерадостные маленькие создания, в успехах которых я часто с радостью убеждался лично. Так как я упомянул о моем разладе с Бисмарком в подходе к рабочему вопросу, то я хотел бы еще, кроме сказанного уже прежде о его принципиальной позиции к нему, привести пример того, как блестяще вел себя однажды князь в деле, касавшемся рабочих, хотя при этом им, конечно, руководили и национальные интересы, он сразу понял, что дело идет об устранении угрозы серьезной безработицы, и, опираясь на весь свой авторитет, принял решительные меры.
Будучи еще принцем Вильгельмом, приблизительно в 1886 году, я узнал, что большая судостроительная верфь «Вулкан» из-за недостатка заказов стоит перед угрозой банкротства, а вместе с тем всей многотысячной рабочей массе грозит остаться без хлеба. Это было бы катастрофой и для города Штеттина. Верфь могла удержаться лишь благодаря заказу на большое судно. По предложению, сделанному в свое время адмиралом фон Штошем, для того чтобы, наконец, освободиться от английского судостроительства, эта верфь смело принялась за дело и выстроила первый немецкий броненосец, крещение которого было совершено моей матерью в день ее рождения в 1874 году в моем присутствии. С тех пор военно-морское ведомство всегда оставалось довольно судами этой верфи, но заказы им давало редко. Руководители же торгового флота не рисковали подражать смелому шагу адмирала фон Штоша. Таким образом, эта доблестная немецкая верфь стояла перед угрозой неизбежного разорения, так как бременский Ллойд отклонил ее предложение построить пассажирский пароход, заметив при этом, что англичане благодаря своим долголетним традициям сумеют это сделать лучше. Нужда была велика. Я поспешил к князю Бисмарку и изложил ему обстоятельства дела. Канцлер пришел в ярость и, сверкая глазами, ударил кулаком по столу. «Что? Эти чертовы перечницы хотят строить свои суда лучше в Англии, чем у нас? Это совершенно неслыханно. И при этом должна погибнуть хорошая немецкая верфь. Черт подери этих купцов!»
Он позвонил, и вошел служитель. «Позовите тотчас же сюда тайного советника X. из Министерства иностранных дел». Через несколько минут, в течение которых князь тяжелыми шагами ходил взад и вперед, появился вызванный X. «Телеграмму в Гамбург послу: Бременский Ллойд должен строить свое новое судно в Штеттине на верфи «Вулкан». Тайный советник быстро исчез, «перекатившись через открытую дверь с развевающимися полами сюртука». После этого князь обратился ко мне и сказал: «Вам я обязан особой благодарностью. Вы оказали отечеству, а также и мне важную услугу. С этих пор строить будут только у нас. Это уже я разъясню ганзейцам. Вы можете телеграфировать верфи «Вулкан», что канцлер ручается за эту постройку; пусть это будет началом длинного ряда других построек, рабочие же, которых вы таким образом спасли от безработицы, пусть благодарят вас». Я известил тайного советника Шлутова в Штеттине. Радость была велика. Это было начало, которое должно было повести к постройке великолепных быстроходных судов.
Когда по моем вступлении на престол я в декабре года поехал в Штеттин, чтобы пожаловать знаки отличия моим померанским гренадерам, я посетил, по просьбе правления, и верфь «Вулкан».
Правление встретило меня у верфи. Затем открылись большие створчатые ворота, и я вошел внутрь. Но вместо работы и шума громыхающих молотков меня встретила глубокая тишина. Все рабочие, обнажив свои головы, стояли полукругом. В середине находился самый старый рабочий с белоснежной бородой, с лавровым венком в руке. Я был поражен. Шлутов прошептал мне: «Маленькая радость, которую рабочие сами себе придумали». Старый кузнец выступил вперед и простыми словами энергично выразил мне благодарность рабочих за то, что я своим ходатайством перед Бисмарком спас от нужды и голода их самих, их жен и детей. Он просил меня принять лавровый венок как знак признательности рабочих. Глубоко тронутый, я принял подарок и выразил радость, что получил свой первый лавровый венок в мирной обстановке, без единой капля крови и из рук честного немецкого рабочего. Это было в 1888 г. Тогда немецкие рабочие еще умели ценить счастье труда.
II. Каприви
Генерал фон Каприви был при моем вступлении на престол начальником адмиралтейства. Он был последним генералом в этой должности. По восшествии на престол, я, на основании предварительного изучения в Англии и у себя дома этого вопроса, энергично принялся за реформу, точнее сказать, за создание сызнова императорского германского флота. Это было не по вкусу дельному, но несколько упрямому и не совсем свободному от тщеславия генералу. За ним, несомненно, были большие заслуги в повышении боеспособности флота, усилении офицерского корпуса и развитии миноносцев. Зато судостроение и замена изнашивающихся материалов новыми были при нем, ко вреду для флота и к огорчению расцветающей и требующей заказов судостроительной индустрии, совершенно в загоне. Каприви, как старый прусский генерал, придерживался взгляда своих сверстников по 1864, 1866 и 1870 1871 годам, что весь центр тяжести боеспособности страны лежит в армии и что так будет и впредь. Потому-де нельзя предъявлять государству большие денежные требования на нужды флота, ибо в таком случае возникла бы опасность сокращения расходов на армию, что стало бы тормозом для развития последней. Это мнение, в котором генерала Каприви нельзя было разубедить, являлось ложным. Отпущенные кредиты не стекались в один резервуар, из которого можно было бы путем передвижения клапана направить денежный поток то в русло армии, то в русло флота. Если Каприви не хотел требовать кредитов для создания флота с таким расчетом, чтобы больше денег выпало на долю армии, то этим он, конечно, своей цели не достигал. Из-за этого армия не получала ни на один грош больше того, что военный министр по бюджету получал согласно своим требованиям. Находившийся тогда в стадии организации статс-секретариат по морским делам должен был совершенно независимо от военного министерства категорически потребовать для флота такую сумму, какая нужна была для защиты нашей торговли и наших колоний. Позже так и произошло.
Каприви вскоре обратился ко мне с просьбой освободить его от занимаемой им должности. Пост этот, как он говорил, уже сам по себе не удовлетворяет его. Помимо этого, у кайзера-де есть разные планы на будущее флота, которые он считает невыполнимыми хотя бы потому, что не хватает офицеров (ежегодный выпуск кадетов был от 60 до 30), а большой флот немыслим без большого офицерского корпуса.
К тому же при инспектировании Его Величества он-де скоро увидел, что кайзер больше понимает в делах флота, чем он, генерал, и это ставит его в трудное положение по отношению к своим подчиненным.
В результате я расстался с ним, предоставив ему командование армейским корпусом. Следуя изречению «Морское ведомство морякам», я впервые назначил руководителем этого ведомства адмирала, что было встречено моряками с большой радостью. Это был адмирал граф Монтс.
После довольно неожиданного для меня ухода князя Бисмарка было трудно найти ему преемника. Кто бы он ни был, преемника этого могучего канцлера с самого начала ожидали тяжелые жертвы без надежды на признание. Его считали бы узурпатором на неподобающем месте, которое он не способен занять.
Критика, критика и еще раз критика, как и вражда со стороны всех приверженцев князя, вот на что мог рассчитывать новый канцлер. Сильное течение должно было противодействовать ему; не меньшее противодействие следовало ожидать и от самого старого князя.
Исходя из этих соображений, я решил остановить свой выбор на человеке из поколения князя Бисмарка, занимавшего руководящее положение во время войны и уже служившего под начальством князя. Таким образом появился Каприви. Его возраст был залогом того, что из него выйдет рассудительный и спокойный советник для осиротевшего молодого кайзера.
Вскоре возник вопрос о продлении договора с Россией и о взаимных гарантиях. Каприви заявил, что он не может его возобновить хотя бы из-за Австрии, так как договор этот, одним своим острием направленный против Австрии, мог бы повести к самым неприятным последствиям в случае, если бы он стал известен в Вене (чего едва ли можно было избежать). Таким образом, договор был расторгнут. По моему мнению, он уже потерял тогда свое главное значение, так как русские больше не поддерживали его так искренне, как раньше. В этом убеждении меня подкрепила записка графа Берхема сотрудника князя Бисмарка.
Консервативные аграрии открыли кампанию против Каприви как «человека без почвы и корня». Горячий бой разыгрался вокруг торговых договоров. Эти затруднения еще более увеличивались оттого, что князь Бисмарк, отказавшись от своих прежних принципов, с присущей ему энергией принимал участие в борьбе против своего преемника. Так началось фрондирование консерваторов против правительства и короны, и князь сам сеял те семена, из которых впоследствии выросли «непонятый Бисмарк» и так часто упоминавшееся в прессе недовольство империей. «Непонятый Бисмарк» в продолжение всего моего царствования оказывал постоянное противодействие моим замыслам и целям словом, устно и письменно, а также пассивным сопротивлением и бессмысленной критикой. По мнению прессы, всегда бывшей к услугам Бисмарка и часто ведшей себя еще более по-бисмарковски, чем сам Бисмарк, все, что делалось, было плохо. Все она находила смешным, в корне и без разбора всячески критикуя мою деятельность. Особенно заметно это сказалось при приобретении нами Гельголанда. Этот остров, тесно прилегающий к большим водным путям, ведшим к главным торговым городам Ганзы, был в руках британцев постоянной угрозой против Гамбурга и Бремена, что делало невозможной даже мысль о постройке флота. Поэтому я твердо решил снова вернуть своему отечеству этот старый немецкий остров. И вскоре в области колониальной политики открылся путь, давший возможность побудить Англию отказаться от красной скалы. Лорд Солсбери согласился отдать «бесплодную скалу» взамен на Занзибар и Биту в Восточной Африке. Из торговых кругов и по донесениям командиров немецких крейсеров и канонерских лодок, стоявших там и крейсировавших у берегов вновь приобретенных Германией восточноафриканских колоний, я знал, что с расцветом Танга, Дар-эс-Салама и прочих колоний у берегов Африки падет значение Занзибара как главного порта для сбыта. Ибо, как только в этих местах будут устроены достаточные приспособления для приема и загрузки торговых судов, уже не нужно будет перевозить товары из глубины страны в Занзибар, чтобы там снова их перегружать, а можно будет грузить эти товары непосредственно в новых гаванях. Таким образом, я был убежден, что обмен для нас приемлем, и что нам предоставляется хорошая возможность избежать трений с Англией из-за колоний и уладить с ней дело полюбовно. Каприви согласился с этим, переговоры были закончены, и однажды вечером за обедом я мог сообщить императрице и некоторым доверенным лицам глубоко радостную новость, что Гельголанд перешел к Германии.
Выгодное бескровное расширение империи удалось. Было выполнено первое условие для создания флота, исполнилось лелеемое в течение столетий желание Ганзы и Северной Германии. Без шума и спокойно совершилось важное событие. Если бы приобретение Гельголанда было совершено во время канцлерства князя Бисмарка, оно, вероятно, было бы встречено ликованием. Но, поскольку это случилось при Каприви, началась критика. Ведь это сделали узурпатор Каприви, осмелившийся занять место князя, и «нерасчетливый», «неблагодарный», импульсивный молодой государь. Если бы Бисмарк только захотел, он в любой день мог бы получить эту «голую скалу». Но он никогда не поступил бы так необдуманно, чтобы пожертвовать за это в пользу англичан многообещающими африканскими владениями, и никогда не позволил бы, чтобы ему нанесли такую пощечину, такие голоса слышались почти со всех сторон. Газеты князя громко присоединяли свой голос к этой критике, разумеется, к огорчению Ганзы.
Странными казались упреки по поводу обмена Занзибара и Биту в прессе князя, который прежде, когда я работал под его руководством, неоднократно говорил мне, что он вообще не придает большого значения колониям, рассматривая их главным образом как случайные объекты для обмена в полюбовных сделках с Англией. Его преемник в случае с Гельголандом поступил в соответствии с таким взглядом и все же был встречен резкой критикой и нападками.
Лишь во время мировой войны мне попались на глаза статьи в немецких газетах, прямо признававшие приобретение Гельголанда актом предусмотрительной политики и в связи с этим приводившие соображения о том, что могло бы случиться, если бы Гельголанд не перешел к Германии. Немецкий народ имеет все основания, чтобы благодарить графа Каприви за этот его акт, сделавший возможным создание флота и победу при Скагерраке. Германский флот это осознал уже давно.
Школьный законопроект графа Цедлица вызвал новые резкие конфликты. Когда последние привели к уходу Цедлица, из среды его сторонников раздался клич: «Если граф уходит, то канцлер тоже должен уйти».
Каприви ушел спокойно и с благородством. Он честно пытался продолжать по своему разумению и по своим силам традиции князя Бисмарка. Со стороны партий он встретил при этом мало поддержки. Тем больше преследовали его критика и вражда со стороны общества и тех, кто по справедливости и во имя государственных интересов должны были бы оказывать ему содействие. Без единого слова самооправдания, сохраняя благородное молчание, Каприви провел остаток своих дней в полном уединении.
III. Гогенлоэ
И снова стоял я перед тяжелой задачей выбора канцлера. Его деятельность должна была протекать приблизительно в той же обстановке и при тех же условиях, как и деятельность его предшественника. Только теперь выдвигалась на первый план тенденция, чтобы это был более опытный государственный деятель, который мог бы внушить князю Бисмарку больше доверия, чем простой генерал. Такой государственный деятель сумел бы лучше следовать по политическому пути князя и давал бы Бисмарку меньше простора для критики и нападок. Эти нападки возбуждали во всем чиновничестве, связанном большей частью еще с эпохой князя, нервозность и недовольство, которые нельзя было не заметить, и которые наносили немалый ущерб работе всего правительственного механизма.
Точно так же и в парламенте оппозиция получала все новые подкрепления из кругов, преданных до тех пор правительству, и обнаруживала свое парализующее влияние. Так, в ведомстве иностранных дел начал сильно сказываться дух Гольштейна мнимого представителя «старых испытанных бисмарковских традиций». В этом ведомстве особенно заметно обнаруживалась неохота к сотрудничеству с кайзером: там полагали, что необходимо самостоятельно продолжать политику Бисмарка. По зрелом размышлении я решил доверить канцлерство князю Гогенлоэ, бывшему тогда наместником имперских земель. Будучи баварским министром, он в начале войны 1870 года добился того, что Бавария стала на сторону Пруссии. С тех пор Бисмарк стал высоко ценить его за преданность империи. Можно было ожидать, что к этому преемнику неприязнь князя не будет так велика. Выбор этого канцлера был сделан, таким образом, под сильным влиянием личности Бисмарка и инспирированного им общественного мнения.
Князь Гогенлоэ был типом старого знатного вельможи. Очень светский и по своему поведению, и по своим манерам, человек острого ума, сквозь который проглядывал легкий оттенок тонкой иронии с устоявшимися благодаря его возрасту взглядами, он был спокойным наблюдателем и проницательным ценителем людей. Несмотря на большую разницу в возрасте между нами, он уживался со мной очень хорошо. Это и внешне подчеркивалось тем, что императрица и я обращались с ним, как со своим дядей, благодаря чему вокруг нас, когда мы были вместе, создавалась атмосфера известной фамильярной дружественности. В беседах со мной, особенно при обсуждении кандидатур чиновников, он давал очень меткие характеристики этих людей, часто связанные с философскими рассуждениями, обличавшими в нем глубоко продуманное отношение к людям и жизни и основанную на житейском опыте зрелую мудрость старого человека.
В первое время канцлерства Гогенлоэ имел место случай, бросающий интересный свет на отношения Германии к Франции и России. Во время братания русских с французами я получил через генеральный штаб и через посольство в Париже точные сведения о том, что Франция намеревается оттянуть часть своих войск из Алжира, чтобы расположить их в Южной Франции либо против Италии, либо против Эльзаса. Я сообщил об этом царю Николаю II с замечанием, что вынужден буду прибегнуть к ответным мероприятиям, если царь не удержит своих союзников от таких провокационных шагов.
Русским министром иностранных дел был тогда князь Лобанов бывший посол в Вене, известный франкофил. Летом 1895 года он посетил Францию, где его приняли очень хорошо. Осенью, когда я находился в охотничьем замке Губертусшток у Эберсвальда, ко мне, по поручению царя, явился на аудиенцию возвращавшийся из Парижа Лобанов. На приеме он обрисовал мне спокойное и рассудительное настроение, найденное им в Париже, и старался успокоить меня насчет вышеупомянутых дислокаций войск, уверяя, что это только пустые, ни на чем не основанные слухи и разговоры. Он-де может дать в этом отношении самые успокоительные заверения, и мне совершенно нечего бояться. Я ответил на это глубокой благодарностью за сделанное сообщение. Но слова «бояться», сказал я, нет в словаре немецкого офицера. Если Франция и Россия хотят войны, то я не могу этому помешать. На это князь, смиренно подняв глаза к небу и перекрестившись, сказал: «О, война! Что за мысль, кто же об этом думает? Этого не должно быть!» Я возразил: «Я уже, конечно, не думаю об этом. Но даже и для наблюдателя, не особенно проницательного, продолжительные чествования и речи, как и официальные и неофициальные визиты из Парижа в Петербург и обратно, являются известными симптомами, которые нельзя оставить без внимания и которые в Германии вызывают большое смущение. Если же против воли моей и моего народа дело дойдет до войны, то я, в надежде на Бога, как и на немецкую армию и немецкий народ, буду уверен, что Германия справится с обоими противниками». К этому я прибавил изречение, сказанное одним русским офицером, членом офицерской депутации, пребывавшей во Франции, о чем мне донесли из Парижа. На вопрос одного французского товарища, надеются ли русские разбить немцев, храбрый славянин ответил: «Нет, мой друг, мы будем совершенно разбиты. Но что же из этого? Мы тогда тоже получим республику». Князь Лобанов сначала посмотрел на меня молча, а затем, пожимая плечами, сказал: «О, война! Об этом нельзя даже и думать».
Офицер высказал только то, что было общим мнением русской интеллигенции и русского общества. Уже во время моего первого пребывания в Петербурге в начале 80-х годов одна великая княгиня совершенно спокойным тоном сказала мне за обедом: «Здесь постоянно сидят на вулкане и ожидают революции каждый день. У славян нет верности монархии, и они не монархисты; в глубине души они все республиканцы и только всегда притворяются и лгут».
Во время канцлерства князя Гогенлоэ в области внешней политики произошли три крупных события: первое открытие в 1896 году начатого канала императора Вильгельма (Северо-Балтийский канал), строительство которого началось при Вильгельме Великом, а на открытие были приглашены эскадры со всего мира; второе приобретение нами в 1897 году Циндао; третье нашумевшая телеграмма президенту Крюгеру. В приобретении Циндао князь Гогенлоэ принял особое участие. Он, как и я, придерживался того мнения, что Германии для ее судов необходимы собственные угольные станции и что законны стремления торговых кругов использовать возможности, открывающиеся с вовлечением Китая в орбиту международной торговли. С этой целью предполагалось основать при условии сохранения суверенных прав Китая и уплаты пошлин торговый пункт с приморской угольной станцией, в чем и сам Китай должен был принять активное участие. Станция должна была служить, прежде всего, торговым целям. Военная же сторона дела должна была быть направлена лишь на защиту развития торгового города, а не стать самоцелью или базисом для дальнейших военных начинаний. Были намечены различные пункты, которые, однако, при ближайшем ознакомлении с ними, оказывались неподходящими, главным образом потому, что они имели плохое сообщение или даже вовсе не были связаны сообщением с внутренней частью страны, не имели хороших перспектив в отношении торговли или не были свободны от чужих притязаний. На основании доклада адмирала Тирпица, бывшего тогда начальником восточноазиатской крейсерской дивизии, я заключения географа барона фон Рихтгофена, нарисовавшего после обращенного к нему запроса многообещающую картину возможного развития Шаньдуна, было, наконец, решено остановиться на создании колонии на берегах бухты Киао-Чау.
Канцлером были собраны сведения о связанной с этим начинанием политической ситуации, которую надо было принять во внимание. Особенно важно было не мешать и не становиться поперек дороги России. Были затребованы дополнительные сведения от нашей восточноазиатской эскадры и получили благоприятные известия о глубине и незамерзаемости бухты Киао-Чау и о перспективах, которые открывались в связи с предполагающимся там открытием гавани.
Благодаря общению с русской «Китайской эскадрой», из разговоров командных лиц между собой выяснилось, что русский адмирал, по приказанию своего правительства, устроился на зимнюю стоянку в этой бухте, но нашел этот пункт таким незаселенным и невероятно пустынным (там не было японских чайных, которые русские считали необходимыми для зимней стоянки), что русская эскадра туда уже никогда больше не вернется. Русский адмирал, как мне доносили, самым настойчивым образом отсоветовал своему правительству обосноваться в этой бухте, так как там абсолютно нечего делать. Таким образом, русские не были заинтересованы в этом пункте. Последняя справка прибыла одновременно с ответом русского министра иностранных дел графа Муравьева немецкому послу, который, по приказанию канцлера, прозондировал по этому поводу почву в Петербурге. Муравьев сообщил, что Россия, правда, не имеет прямых договорных, основанных на соглашении с Китаем, прав на бухту, но все же она предъявляет свои притязания на Киао-Чау на основании «droit du premier mouillage» («право первоначального занятия»), ибо русские суда бросили там якорь раньше других флотилий.
Этот ответ противоречил докладу начальника восточноазиатской эскадры.
Когда я встретился у канцлера с адмиралом Голльманом, чтобы обсудить этот ответ, князь Гогенлоэ по прочтении его, улыбаясь своей тонкой иронической улыбкой, сказал, что он не сумел найти в Министерстве иностранных дел ни одного юриста, который мог бы ему дать справку об этом удивительном «праве»; может быть, это в состоянии сделать представитель морского ведомства. Адмирал Голльман на основании своего опыта заявил, что он никогда и ничего об этом не слыхал; это бессмыслица и выдумка Муравьева, который не хочет, чтобы другой народ обосновался в Киао-Чау. Я посоветовал для разъяснения вопроса затребовать заключение еще жившего тогда известного знатока международного морского права тайного советника адмиралтейства Перельса, признанного авторитета в этой области. Так и сделали. Заключение его было уничтожающим для Муравьева, подтверждало мнение Голльмана и совершенно разрушало легенду о «праве первоначального занятия». Так проходили месяцы, а между тем предстояло мое посещение Петергофа в августе 1897 года. В согласии с князем Гогенлоэ, я решил лично открыто поговорить с царем и, если возможно, положить, таким образом, конец нотам и дипломатическим хитростям Муравьева.
Объяснение произошло в Петергофе. Царь сказал мне, что он совершенно не заинтересован в пунктах южнее линии Тяньзинь Пекин, так что у него нет никаких оснований ставить нам препятствия в Шаньдуне. Его интересы, после того как англичане поставили ему затруднения в Мокло, сосредоточились в Ялу, Порт-Артуре и т. д. Он даже будет рад, если Германия на будущее время окажется желанным соседом России по ту сторону Чилийского залива. После этого у меня был разговор с Муравьевым. Он прибегал к разным трюкам, всячески изворачивался, сославшись, наконец, и на свое знаменитое «право первоначального занятия». Я только и ожидал этого момента и в свою очередь перешел в наступление, основательно приперев его к стенке заключением Перельса. Когда я, наконец, по желанию царя, передал ему результат беседы обоих государей, дипломат еще более смутился, потеряв свое притворное хладнокровие, и капитулировал.