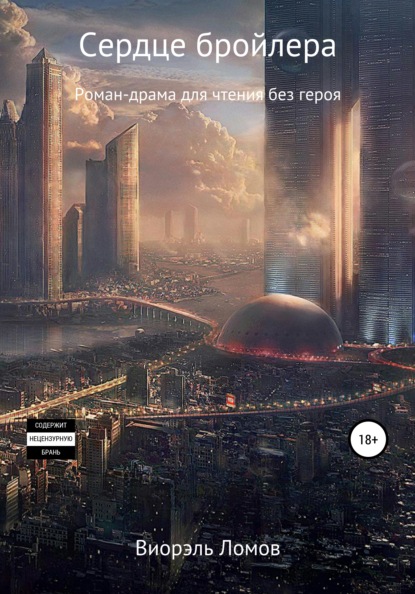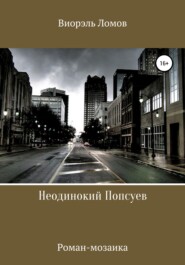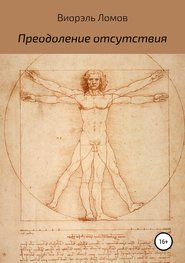По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сердце бройлера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Можно, конечно, и правильно говорить, гекзаметром, но…
– Ты иди, я справлюсь одна. Иди. Если что, найдешь меня по расписанию.
Гурьянов блеснул глазами, взмахнул своими кудрями, поклонился и молча вышел.
***
Настя терялась в догадках. Она могла, конечно, спросить у матери, что все это значит, но сначала хотела разобраться сама. Почему мама так странно (болезненно даже) отреагировала на незнакомого молодого человека. Кстати, очень симпатичного. В дверь он к ней не ломился, в окно не лез. Я представила его, как старинного знакомого. И, на тебе, взять и брякнуться в обморок. Причем не натуральный. Актриса. У актрис хоть роль какая-то, сверхзадача. А тут? Но и брякаться ради пустяка, менять не только планы вечера, но и, может, планы на мою дальнейшую жизнь… Стоп, вот оно где! Планы на мою дальнейшую жизнь. Она, выходит, восприняла мое знакомство с Алексеем, как нечто выходящее за рамки приличий или невозможное по своей сути. Ну, насчет приличий, тут все пристойно до тошноты. А вот невозможное по сути – не знаю… Настя задумалась.
Притворство матери бросилось в глаза, когда она ловко подоткнула немощной рукой халат себе под бок, чтоб не дуло.
– Мама, что это значит? – Настя зажгла свет.
Анна Ивановна приоткрыла один глаз.
– Ушел? – спросила она.
– Ма, ты меня напугала. Что за комедию ты устроила? Как маленькая, ей-богу!
– Ой-ой-ой! Не смеши – я напугала тебя! Тебя напугаешь!
Настя была втайне польщена такой оценкой, но продолжала допытываться у матери о причине ее столь странного поведения.
– В кои веки привела кавалера, старинного знакомого, а она бряк в обморок. Как в пьесе. В драмтеатре конкурс объявили. Иди…
– Брось врать-то: старинного знакомого! Где подцепила его, старинного знакомого, в какой такой библиотеке? По его холеной физиономии видно, что он сто лет как дорогу туда забыл. Когда познакомились-то? Неделю, две назад? – в голосе ее за небрежностью слышалась настороженность.
– Сегодня. В институте.
– Поздравляю, – облегченно вздохнула мать. – Гора с плеч.
– Какая гора?
– Большая. Тебе не разглядеть. Дай-ка цитрамон. Третью пью, не помогает.
– Раз не помогает, зачем пьешь?
– Ты поможешь? Воды принеси.
Она знает его. Она знает Гурьянова. Откуда? Или… Или она знает его отца? Его отца… Ну и что?..
Настя во сне открыла глаза и увидела, как перед ними раскачивается, как маятник, ладонь матери, туда-сюда, туда-сюда, и никак нельзя было ее остановить и от нее избавиться. Мало того, под утро она стала раскачиваться под слова: Гурь-янов… Гурь-янов… Гурь-янов…
С детства Настя видела сны и привыкла, что все они так или иначе у нее сбываются.
Акт 2. «Три товарища» (1970—1978 гг.)
1. Такая радостная встреча, что искры сыплются из глаз
С молодости (особенно до женитьбы) Дерюгин был доволен всем в жизни. Всё хоккей, говорил он. Жил он в своем доме на берегу Нежи, и река была одним из слагаемых его довольства. Не говоря уже о микроклимате, включавшем, разумеется, сам вид водного бассейна и всегда свежий воздух. Река давала Дерюгину рыбу, раков, выгул и выпас трех десятков гусей и уток, камыш и прутья для корзин на продажу, в половодье лес для строительства и отопления и всякую другую дрянь.
День с самого утра выдался на редкость удачным. Еще до первого рейса – трепался о том о сем с кассиршей Тоськой, подходит Емельчук, сторож, вынимает из сумки щенка колли.
– Толян, дарю! – говорит. – Топить жалко. Красивый.
И впрямь – загляденье! Дерюгин любил эту породу собак. У него уже были две. И он любил рассказывать всем своим знакомым, какие красивые это были собаки, какая густая и пышная у них шерсть. Он и сейчас повторился:
– Замечательные были собаки. Когда умирали, чего-то не прижились, через год померли одна за другой, я из них шапки делал – очень хорошие получались шапки, пышные и красивые. А этого я Артуром назову. Редкое собачье имя!
Где-то он услышал это имя, и оно ему понравилось. Вырастет Артур, опять будет в доме собака, думал он, и на сердце его становилось тепло.
Кассир Смирнова воскликнула:
– Да как же ты мог из собаки сделать шапку!
Дерюгин посмотрел на Тоську и не понял вопроса, но на всякий случай сказал:
– Шапка-то получилась не абы как, красивая вышла шапка! Я вон ее до сих пор ношу, а вторую племяшу дарил – отказался, а зря. Артура буду в ней воспитывать. Должна понравиться – собачья шерсть, родня какая никакая.
После ужина Дерюгин вышел покурить перед сном. Полоска заката на глазах превратилась в полосу. Дерюгин сидел на скамейке у ворот и курил, сплевывая в специально сделанное для этого дела углубление слева от скамейки, скрытое от посторонних глаз выдвигающейся крышечкой. Уже стемнело, но река была еще достаточно светлой. Вдалеке темнели какие-то пятна. Дерюгин сплюнул пару раз и обратил внимание на то, что пятна вроде как переместились слева направо, то есть по течению реки. Никак, плывут, заключил он. И мысль тут же подвигла на дело. Он отвязал лодку и поплыл к темным пятнам. Это оказались шпалы. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – воскликнул он. Удача-то какая, и сколько их тут. В аккурат на баньку плывут. Откуда такие? Он быстро стал цеплять шпалы и буксировать их к берегу. Уже совсем стемнело, когда он справился с этим делом. Двадцать пять шпал – такой был подарок вечера. Дерюгин перетаскал их за домик и, уставший, но довольный, сел покурить. Ну, подфартило! Возле ног лежали три шпалы, которые он выловил еще по весне. Они проросли травой, засыпались песком, надо будет ломиком завтра поддеть, подумал он. Хорошо, выходной. От реки доносились звуки жизни. Кто-то плавал на лодке, скрипел уключинами и, похоже, был чем-то недоволен. Во всяком случае, ругался. Кто бы это мог быть, заинтересовался Дерюгин, и прикурил новую папироску от первой. Минут десять еще скрипели уключины, плескала вода, ругался невидимый голос, потом из мглы нарисовалась тень. Пристала лодка, тень подошла к Дерюгину и спросила мужским голосом, тем, что выражал недовольство:
– Не видал тут кого-нибудь, кто таскал шпалы на берег?
Дерюгин даже уронил потухшую папироску на землю.
– Нет, – сказал он, – не видал. Вот лежат три шпалы, так они еще с весны тут лежат.
– Вот же паразиты! – в сердцах сказал ночной голос. – Я с баржи возле излучины шпалы поскидал. То-се, нет шпал! Сказали, кто-то кружил по реке в этом месте с полчаса назад. Не видал?
– Да нет же, только что с работы пришел, – сказал Дерюгин. – Закурить еще не успел. Будешь?
Тень ушла, слилась с тенью лодки, а потом эти слившиеся тени слились и с рекой. Хороший выдался вечер. Сразу на половину баньки шпал хватит! Хоккей!
***
И надо же, после такой везухи пошла полоса неудач, связанная с женой Зинаидой. У Дерюгина как какая неудача – обязательно от Зинки! Прямо магнитные силовые линии, то засасывают, то отталкивают. На следующий день в десять вечера приперлась какая-то девица. Вчера забыла, мать ее, диплом в его автобусе, а он, нет, чтоб пройти мимо, заметил его и забрал с собой, о чем доложил диспетчеру. Разумеется, девица его нашла, и нашла именно в тот момент, когда он, в свой единственный выходной день, совпавший с воскресеньем, после плотного ужина расположился с Зинаидой на тахте. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – сказал он, встал и отдал студентке диплом. Девица сказала, что уже поздно, не проводит ли он ее до транспорта, а то тут дикие (!) места. Пришлось проводить. Транспорта не было минут сорок. Зинаида устроила, понятно, сцену, после которой на тахту уже не тянуло. Что тоже имело свои последствия.
В понедельник, также на ночь глядя, Зинка при стечении соседей закатила ему форменную истерику по ничем не обоснованному подозрению в супружеской измене с соседкой Валькой, якобы случившейся в реке. Ну, были они в реке! Пляжик тут от дома неподалеку, мысок, кустики, протока. После работы пошел помыться. Валька там. Ну, побегали, побрызгали друг на друга водой. Ну, задел пару раз за задницу. Так там мудрено не задеть. Откуда ни зайдешь – всюду она. Подумаешь, нежности! На пляже – что делать еще? Что, по жопе хлопнуть – измена?! Принесло же Зинку именно в этот момент! И вообще, при чем тут река? Что, если невмоготу изменить, на реку переться?
***
Во вторник того хуже. С утра не встала и не накормила. Попил чайку без всего. Пряник, мышами не догрызенный, специально, наверное, в блюдце оставила! С утра то свеча, то зеркальце. Да еще без обеда – колесо, так его растак, менял! Дерюгин трясся от возбуждения, возведенного обстоятельствами в куб. Куб, как известно, символ бесконечности. Чтобы успокоиться, он курил одну папироску за другой. Баранку еще крутить и крутить. На остановке была толпа. Нехай ждут! Еще шесть минут. Отдохнули на дачках? Теперь ждите! Для гармонии чувств. Ишь, елозят от нетерпения. Елозьте-елозьте. Дерюгин вылез из автобуса, обошел его, постукал ногой по шинам. Скорей бы этот чертов институт кончить да куда на завод пойти. Осточертела шоферская дерготня! Покурил, выглядывая в толпе знакомых. Знакомых не было. Пора, кажется… А это что за Дрон! Дрон-выпендрон! В сторонке стоит (гордый!), сигаретки смолит. Болгарские, кажется. Ну, смоли-смоли…
Дерюгин подогнал автобус к остановке. После обычной давки все влезли в «салон» и разместились на креслах и в проходе. Заработал двигатель. «Дрон» последним заскочил на подножку, на ходу сделав еще несколько быстрых затяжек. В дверях обернулся, бросил сигарету и плюнул ей вслед. Сигарета попала в левый глаз, а плевок в правый глаз парню в спортивной кепке, возникшему в дверях. Парень, понятно, озверел. «Дрон» выставил руки и не пускал его в автобус. Несколько секунд борьба шла с переменным успехом. «Кепка» то заскакивал на подножку, то соскакивал и, держась за поручень, бежал рядом. Дверь захлопнулась – в тот самый момент, когда «кепка» был на улице, а «Дрон» в автобусе. Правда, в автобусе он был не весь: его голова торчала снаружи, а руки, просунутые в дверь, спасали шею. Автобус набирал скорость, а рядом с ним бежал «кепка» и бил «Дрона» по лицу. Дерюгин не без интереса наблюдал за этим и – ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – въехал в бетонный столб по правую руку.
Люди в «салоне» посыпались на пол и друг на друга. Двери раскрылись. «Дрон», пошатываясь, спустился на землю. Он крутил головой и тер себе шею. Дерюгин выскочил из кабины и с кулаками кинулся на «кепку». Но, сообразив, что «Дрон» помят, а «кепка» просто оплеван, сменил направление главного удара и в сердцах отвесил «Дрону» такую оплеуху, что того кинуло на столб.
– Безобразие! – сказали граждане. – Напьются с утра!