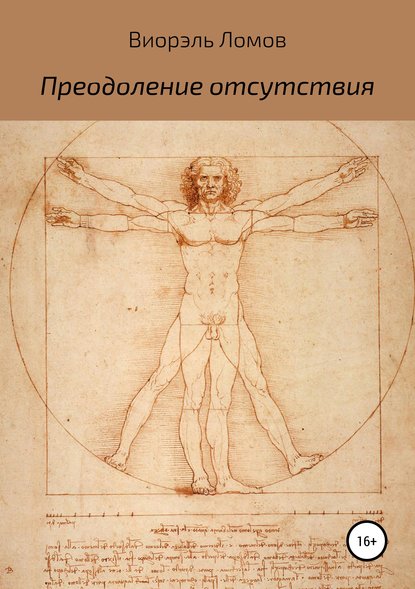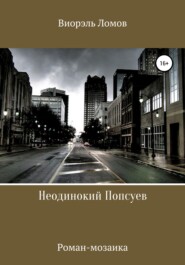По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Преодоление отсутствия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
При следующем раскате грома Васька сорвался с липы и сломал себе руку. Юсовцы навестили его в больнице, и Димка, видя, что у Васьки основные боли позади и пальцы шевелятся, утешил приятеля:
– Это ничего, раз только руку сломал!..
***
– Счастлив тот, кто при свете молнии скажет: вот она наша жизнь, – произнес Рассказчик и на минуту задумался. – Но получается, что время и курица несутся, обгоняя друг друга, а это и есть история… Занудная история. Кстати, о занудстве…
***
Если всех зануд построить в колонну и повести на парад, знаменосцем у них был бы Уткин, учитель истории, или Утконос. Невзрачный женоподобный тип, лет сорока, плешивый и с острым, как у муравья, брюшком, он воспринимался несерьезно и с внутренним протестом. Во всяком случае, невозможно было представить себе, как Уткин, едва ли имевший с такой внешностью хоть одну личную историю за душой, мог иметь хоть какое-то отношение к истории отечественной, не говоря уже о всемирной.
Стоял он, как криво вбитый гвоздь, а ходил всегда внаклонку. И когда заходил в класс, сперва появлялась указка с обломанным концом, потом плешь, нос в прожилках, узкие плечи, расширяющееся книзу туловище, и под конец – ноги в узеньких коротеньких брючках и черных нечищеных ботинках. Ребята злословили, что брючки ему перешивает из детских штанишек его мама – швея (Уткин не был женат), а ботинки чистит папа – старшина. Несуразность фигуры, казалось, спорила с несуразностью одежды, и обе бывали биты несуразностью самого облика учителя истории, от которого, согласись, должно все-таки веять если не величием, то хотя бы некой значительностью. Ребята обсуждали его манеру входить в класс – «как клин», «свиньей идет», пробовали удержать в наклонной позе равновесие – и не могли добиться такого угла наклона и не падать. Ходить внаклонку и вовсе ни у кого не получалось. «Он будто воз тащит в гору, – сказал Мурлов. – Или всю жизнь идет против ветра. Разве можно идти против ветра истории? Да и вообще что-нибудь делать против ветра?»
Исторические уроки Уткин, естественно, черпал из учебника истории. Он рьяно блюл все пункты и параграфы утвержденного инстанциями пособия и не отступал от них ни на шаг – ни влево, ни вправо, точно учебник был проходом в минном поле для конвоируемого контингента. Единственным методическим отступлением, вернее, дополнением к учебнику, были составленные им к каждой теме хронологические таблицы не только важнейших, но и всех, заслуживающих хотя бы одного упоминания, исторических событий. Это были грандиозные таблицы, включающие данные из Библии, различных мифологий и справочников. А такие слова, как «гекатонхейры», «ситофилакс», «Идиставизо», «Цинциннат», и сотни подобных им, не могли не нравиться прилежным школярам, особенно если учесть, что каждое из этих слов было привязано к конкретному времени. Так вот, эти таблички Уткин в конце каждого урока из тетрадочки перерисовывал на доску. (Спроси сейчас кого, что такое ситофилакс, скажут – сифилис; гекатонхейры – вообще материться начнут). На следующем уроке он требовал от учеников воспроизведения всей этой «хренологии», как называли ее ребята, и за малейшую неточность лепил двойки, а если путали государства или, не дай бог, столетия – колы. Подсказчиков и тех, кто не знал темы урока, тут же исключал из исторического процесса – выгонял из класса, отнюдь не облегчая тем самым их участь: на следующем занятии они должны были отвечать на его вопросы по всему пройденному курсу, что было смерти подобно. Смеялся, отрывисто и гулко, он только в одном случае: когда не могли вспомнить – до нашей эры было какое-то событие или не до нашей. Один раз ему даже стало плохо от смеха и вызывали скорую помощь.
К середине года школьники уже прекрасно помнили все битвы, войны, реформы, смуты, царствования, восстания, все громкие имена и звонкие названия, и множество чисел по обе стороны от Р.Х., каждое из которых было привязано к чему-то одному. Словом, ужас, как сказала одна слабонервная мама. Это верно. Ведь каждое историческое событие представляет собой такую кашу, расхлебать которую удается далеко не всегда и не каждому. Что же говорить тогда о всемирной истории? А таблички вносили какую-никакую ясность; и когда приходило очередное проверяющее из ОНО, все ученики с немыслимой легкостью называли трудно выговариваемые имена и географические названия и жонглировали бесчисленными круглыми и не круглыми датами, ловко нанизывая их на стержень темы.
Сами же уроки, как ни странно, были, увы, скучнее самого Уткина и своей монотонностью навевали такую тоску и скуку, что даже самые последние разгильдяи принуждали себя зубрить сей предмет, чтобы потом не пасть жертвой иезуитских пыток и допросов Утконоса, сопровождаемых остротами типа: «Ну да, ты с Жанной д’Арк на костре не горел, ты в это время гонял мяч. Зубрите, – призывал он всех остальных, – ибо закон всех этих имен и чисел постигнут не многие из вас! А без этих имен и чисел – вы ничто! Ноль».
В такие минуты диву можно было даться: неужели и та жизнь, которой они жили все, которая в этот момент бурлила за окнами школы, слышалась в глухом ударе бутса о кожаный мяч, звонком девичьем смехе, велосипедном звонке, а еще пуще – в них самих, неужели эта жизнь когда-то будет такой же бестолковой, путаной и ненужной, подчиненной неведомому никому закону, и неужели из нее запомнятся только памятные даты да громкие имена и названия, неужели от меня, от Васьки, от самого Уткина ничего не останется через сто, через тысячу лет? Куда денутся его плешь и муравьиное брюшко? Вся эта «хренология»? Наши переживания по поводу чьих-то исторических успехов или неудач? Зачем тогда жить? – рассуждал Мурлов, и не слушал Уткина. И напрасно. Уткин, оказывается, обращался в этот момент к нему и, не дождавшись от Мурлова ответа, вкатил ему пару, чем несказанно огорчил юного философа. Тем более, что он подготовился сегодня к уроку.
На следующем уроке истории Уткин взял свою тетрадочку в клеточку, всю испещренную хронологическими таблицами, мелок и провел на доске первую линию. Мел скользил, крошился и не писал. Уткин отложил мелок, взял другой. Тот тоже скользил, не оставляя следа. То же самое произошло с третьим мелком, четвертым… На полочке лежало семь мелков, и Уткин перепробовал их все. После седьмого он скомандовал: «Дежурный, мел!» Дежурный принес четыре куска мела. Ни один мелок не писал. После третьего мелка в классе захихикали, после седьмого стали смеяться, а на одиннадцатом уже натурально завыли. Никогда еще история не была такой интересной. В самом деле, повторяйся любая история по десять раз, появился бы какой-нибудь новый неожиданный интерес к ней.
– Староста! В чем дело?
Если бы староста знал, в чем дело.
– Живо! К директору! Позвать его сюда!
Директор въехал в класс, как тяжелый раскаленный утюг на пионерский галстук, и тут же все выровнялось и разгладилось. Уткин объяснился. Директор выгнал всех учеников за дверь и велел заходить по одному на допрос. Через пять минут двое с дрожью в голосе, словно выдавали себя, выдали Мурлова – весь класс видел, как он натирал перед уроком доску не то воском, не то канифолью.
Вечером в кабинете директора, в присутствии Уткина, Мурлова-отца, классного руководителя и завуча, директор спросил Димку:
– Ты зачем это сделал?
Мурлов-сын выждал паузу и отчеканил (губы его не дрожали):
– Вся история состоит из героев и предателей. Вот я и сделал это с единственной целью: выявить в нашем классе предателей!
– Герой нашелся! – сказал директор.
А Уткин добавил:
– Какой там герой! Провокатор. История еще состоит из провокаторов.
С этого дня Мурлов полюбил историю. Если бы он ее любил раньше, он уже знал бы, что предатель – каждый двенадцатый, а если задуматься – каждый шестой. А все остальные – провокаторы. Простим ему: незнание не вина, а беда. Димка почувствовал, что история – это когда хотя бы один человек выступит против другого, защищая свою правду. А уж потом всякие уткины этому событию припишут место и время и скажут, что тут правда, а что нет.
Дома отец как-то недовольно сказал Димке:
– Э-эх, паря, я-то думал, у тебя с башкой в порядке. Убитые да калеки делают историю, – он показал ему правую руку, на которой не хватало двух, прокуренных до войны, пальцев. – А предателей и героев мало. Как сумасшедших. Никто не хочет быть ими. Это ненормально. Ими становятся по чьей-то злой воле.
А где-то через неделю Уткин задержал Мурлова после урока и затеял с ним неожиданный и странный разговор:
– Ты прости меня за провокатора.
Мурлов опешил.
– Когда я был такой, как ты, тоже лет тринадцати-четырнадцати, отец мой работал учителем истории в школе, а мама – в райкоме. И фамилия их была Борисовы, а не Уткины. Это я – Уткин, не помнящий родства. Отец своими глазами видел, как все было в семнадцатом году и потом, в двадцатые годы, да и документов тогда много разных водилось, дотошный был человек (не до тошноты, как я, а?), но у него язык не поворачивался говорить против совести. Уж такое воспитание получил. Естественно, ученики узнавали от него многое такое, что по их детскому неразумению им неположено было знать. Арестовали… Мать правду искала – в райкоме! – и ее взяли. Остался я один. Представь – ты один. Никого. А хочется есть. Хочется простого участия… Сидели они в разных местах, и один ничего не знал о другом. Тогда в камеру заходили и говорили: сегодня на букву, скажем, «А»; и кто был на букву «А», прощался со всеми другими буквами, и его больше никто не видел. Так вот, говорят, в камерах матери и отца в один день объявили: сегодня на букву «Б»… Им бы тогда какую-нибудь другую букву или хотя бы разные! Вот она, какая азбука.
Мурлов тогда мало что понял из этого сумбура. Он только видел в уткинских глазах страшное одиночество, и вся его странная фигура не была почему-то смешна, а, как было написано в учебнике литературы, «была исполнена трагизма». Трагична она была – это понял Мурлов много лет спустя. Запомнил Димка эту школьную азбуку на всю жизнь, и когда годы спустя, уразумел до конца ее неестественную простоту, ему так захотелось увидеть Уткина, что он тут же пошел в школу. Но Уткина в школе не было, он переехал в другой город. И когда Мурлов подумал – завел ли Уткин семью? – у него на сердце стало холодно, значит, нет, не завел.
Уже в институте как-то случайно он забрел на конференцию «Проблемы истории и современность». Первый же доклад произвел на него удручающее впечатление, так как он, во-первых, был скучен, длинен и непонятен, как для христианина призыв муэдзина, во-вторых, все проблемы истории сводил к одной – к торжеству, в конечном итоге, идей добра, справедливости и пролетарского интернационализма, а в-третьих, вряд ли после него можно было ожидать чего-либо доброго, так как выступал член-корреспондент Академии наук все-таки.
После двух-трех выступлений и сообщений на подобную тему, пробираясь к выходу, Мурлов услышал какие-то странные для слуха речи. Поначалу он подумал, что слышит чуть ли не шаманские заклинания. Выступал учитель истории из поселковой школы с показательным уроком, это была очередная причуда очередных руководителей – на научные конференции приглашать практиков из глубинки для притока свежего исторического воздуха. Понятно, кто бы стал вслушиваться в детский лепет провинциала после программного выступления членкора на солидной конференции, где одних докторов исторических наук было больше, чем учителей истории в области. Но слушали! Хотя более удивительным было то, что он говорил.
И после выступления треть присутствующих встала и приветствовала учителя аплодисментами, может быть, даже и в пику официозу, треть негодовала или смеялась, а треть спала, как всегда она спит, независимо от того, бомбы сыплются им на голову или зажигательные фразы.
А учитель говорил, как пел:
«И родился у Есугай-баатура, монгольского хана из рода Борджигин, и старшей жены его Оэлун, из олхонутского племени, в урочище Делиун-булдах в 553 году – сын Темучжин, что означало мирное – «кузнец». И родился он, сжимая в правой руке своей запекшийся сгусток крови. И взгляд его был, что огонь, а лицо, что заря. И снился его будущему тестю вещий сон, будто слетел к нему на руку белый сокол, зажавший в когтях солнце и луну. И взрослел ханский сын не по дням, а по часам. Отца потеряв, рано стал Темучжин сиротой. Убив брата Бектера, словно ресницу вынул из глаза, повзрослел сразу на целую жизнь. Друга нашел – несравненного нукера Боорчу. И вот в 573 год хиджры, год змеи, широколобый и хитрый сын Есугая с побратимом Чжамухой впервые вкусил прелесть и хмель кровавой победы. Судьба или рок, нойоны и нукеры поставили его ханом своего улуса, и дали титул ему – Чингисхан.
И полвека без малого опустошал «кузнец счастья» родной ему континент, вытаптывал страны и на месте городов оставлял пустыни. Вырезал народы и покрывал бескрайние степи белыми костями да черным вороньем. Ибо всюду у него был враг: от заката солнца и до восхода его, и от нового месяца до старого. Ибо сжато было его собственное сердце когтями злобы и страха.
И до тех пор были в когтях его солнце и месяц, пока на исходе лета, в пятнадцатый день среднего месяца осени, в год свиньи – не покинул он этот тленный мир. Завещав на прощание послушным эмирам перебить всех жителей осажденной столицы Тангутов, дабы память о нем сохранилась навечно. Что и было сделано с тщанием в 1227 году от Рождества Христова.
И был сопровождаем его последний путь кровавой резней. Гибли все, кто встречался живой на этом пути с мертвым покорителем мира. А в могилу его были отправлены 40 лучших коней и 40 красивейших девушек Азии. Дабы не было ему скучно и смертельно одиноко на том свете».
И даже как-то неожиданно, но логически бесспорно, последовали затем оригинальные рассуждения о соотношении случайности и закономерности в явлениях такого масштаба, о роли личности в истории, в полном смысле актерской, где театральными подмостками служит народ.
«О роли личности в истории говорят в тех случаях, когда эта личность из заурядной, то есть самой естественной для человека, становится незаурядной, для чего совершает несколько поступков, совершить которые не придет в голову нормальному человеку. Роль народных масс при этом состоит в том, чтобы меньше скрипеть и не прогибаться, когда тебя топчут в очередном историческом акте. И не было еще случая, чтобы они позволили раздавить себя, и тем не менее их давили, давили и давили».
Треть негодовала или смеялась – это было на удивление мало. Треть аплодировала – это было неожиданно. Треть спала – это было нормально. В общем же, выступление было идеологически не выдержано, а теоретически – не верно. Смягчающим обстоятельством была разве что принадлежность поселкового учителя к периферийной, и значит, невостребованной части граждан необъятной страны. А в целом, Мурлов захотел после этого стать историком, как тот сельский учитель, как Джавахарлал Неру, как – да-да! – историк на букву У – Уткин.
Глава 12. Туннельный эффект
– Историком Мурлов не стал. Почему не стал – это тоже своего рода история. А все истории не расскажешь, – сказал Рассказчик и закашлялся. – Черт! Прохватило где-то. Першит горло. Хотел рассказать о Фаине…
– О ком? – спросил я.
– О Фаине, – спокойно ответил Рассказчик. – Но сегодня не буду. Жив буду, завтра расскажу. А сейчас спать давай.
Но спать мне толком не пришлось.
С некоторых пор стали происходить странные вещи: с каждым днем появлялось все больше граждан, слышавших ночью или под утро какие-то шумы, шаги, бормотанье, шорохи, видевших тени и какое-то свечение. А то вдруг раздавалось приглушенное чихание, сыпалась штукатурка, падали прислоненные к стене доски. Один раз две убогие старушонки, приставшие к нам по пути, и вовсе услышали пение, и, как они клятвенно заверяли, то была духовная музыка.
А вчера и я, наконец-то, услышал прямо над ухом шелест или шорох, черт его знает что, как от крыльев. Если допустить, что это была летучая мышь, то вряд ли: летучая мышь летает бесшумно, дергано и быстро, а тут, казалось, что-то зависло над головой и примеряется, куда ему сесть. В темноте раздался визг старушонки, а потом причитания: «Свят, свят, свят! Ангел крылом осенил! Прямо по голове. Коснулся и улетел».
А позавчера тонкий голос, явившийся из пустоты и полумрака, сообщил рано утром Веронике Михайловне и Саре Абрамовне, что «московское время тридцать часов!», а потом, ни к селу, ни к городу, перешел сразу к событиям за рубежом и воскликнул: «Президент Билл Клинтон!»