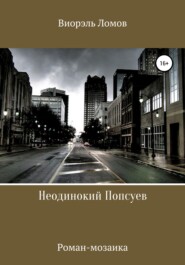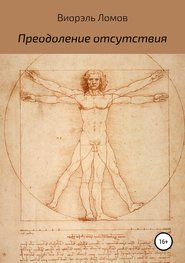По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Елена Прекрасная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лицо сумасшедшее,
Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее!
Моди внимательно вслушивался в русскую речь.
– Это стихи о катастрофе? Так? Чьи они? Твои?
– Николая. Мужа, – ответила Анна. – Стихи о катастрофе, да, о грядущей катастрофе.
– Только такими и могут быть истинные стихи. У мужчин.
Моди вдруг показалось, что писец приподнимается со скрещенных ног и протягивает ему папирус и палочку. Художник явственно слышал глухой голос, донесшийся из глубин времен:
– Пиши!
У Модильяни всё поплыло перед глазами. Он качнулся, Анна поддержала его под руку. Ей стало жаль этого несчастного наркомана, но рядом с каменным изваянием, в котором жизни было больше, чем во всех рисунках Модильяни, очарование образа гениального, не признанного никем художника безвозвратно ушло, как и не было его.
– Что с тобой? – спросила она, продолжая смотреть на неподвижного писца.
– Он зовет меня к себе! – с вызовом произнес Моди. И вдруг он увидел перед собой нечеткий, будто бы колеблющийся в мареве бюст красавицы с лебединой шеей и губами, которые – он знал это! – были источником вечного наслаждения. Это была она, дива, богиня, царица, которую он увидел во сне, и которая потом всё время являлась ему во снах и в моменты наивысшего творческого экстаза.
Одноглазый бюст, покачиваясь, проплыл мимо него, явившись из непонятных глубин грядущего, лукаво подмигнул ему единственным глазом и канул в еще более непонятных глубинах прошлого.
«Вот и славненько, – подумала Кольгрима, покидая Лувр. – Вряд ли теперь Анна захочет стать очередным силуэтом на бумажной салфетке этого сероглазого красавца. Да и он сам неистовее будет искать только одну ее, пригрезившуюся, ненаглядную. То-то ошарашен будет Моди, когда через год немецкий археолог Борхард раскопает в пустыне бюст Нефертити и подарит миру чудо, соразмерное Мона Лизе. Вот тогда-то он, бедняга, еще до войны инкогнито побывав в Берлине ради лицезрения изваяния царицы, и сопьется окончательно, поняв, что ему такой красотой не обладать и такого шедевра не создать». Впрочем, тетушка до конца не была уверена, что бюст подлинный. Скорее всего, фальшивый артефакт, но кому до этого есть дело!
Глава 11. Начать сначала
Прогноз бесов – что метеопрогноз: то ли сбудется, то ли не сбудется – бес его знает! Во всяком случае, утро пришло и ужасов не принесло. «Обленились голубчики! Или просто так постращали?» – размышляла Кольгрима. Приготовила завтрак, разбудила Елену. Справившись о самочувствии девушки, она поинтересовалась, спокоен ли был ее сон.
– Спала как убитая, – зевнула та. – И еще бы спала!
– Ну, как спят убитые, ты не знаешь. И это хорошо. А отоспаться еще будет время. Мне надо срочно отлучиться по делам. Не знаю, надолго ли. Вот несколько книг об Анне Ахматовой. Посмотри. Там и о Модильяни есть, несоразмерно много. Он, конечно, поразил Анну своей экстравагантностью и талантом, но «летописцы» врут: Амедео ничтожно мало значил в ее жизни. И вообще, всякая любовная интрижка не более, чем булыжник, о который запинаешься возле «Ротонды». Помнишь?
– Помню, – кивнула Елена, добавив: – Дядюшка Колфин.
– Поучительная вещь – биографии поэтесс, если в них отделить зерна от плевел, то бишь плоть от духа, – продолжила Кольгрима. – Но ты у меня умница: отделишь. Если к полуночи не вернусь, спокойно спи. Зеркало только завесь. Как будто в доме покойник.
– Тетушка! Что ты!
– Ничего. Дело житейское. Утром не появлюсь, ступай к родителям. Вот два ключа – от этой квартиры и от дома под Бердском. Это городок в Новосибирской области. Поднимешься на чердак. Под крышей около трубы тайник. В нем папка с бумагами. Не затягивай. Дом ветхий. Вот адрес и как проехать. Уже в дверях тетушка сказала, не глядя на Лену:
– Можешь и тут остаться, если не боишься привидений. Они не злые. К злым, таким как я, приходят злые приведения. А ты у меня добрая. Если домой не пойдешь, родители сами придут к тебе послезавтра. Я им сообщила. Ну что ж, попрощаемся на всякий случай… Как там у Байрона в Пушкинском изложении: «Faretheewell! End if for ever, still for ever, fare thee well»*. И тряпки с зеркала не снимай.
________________________________
* «Прощай – и если навсегда, то навсегда прощай» (англ.).
– И вот еще что. – Похоже, тетушка поначалу не хотела говорить этого: – Может, и впрямь, не увидимся. Тут неприятности из-за меня могут с тобой случиться. Зачем они тебе? Вернешься из Бердска, события подскажут, что делать дальше. Как сделаешь, тут же уезжай в Новосибирск. Там твоя родственница живет. Бабкой Клавдией зовут. Вот ее адрес. Матери не говори, что едешь к ней. Они в контрах, лет десять не переписываются. Соври что-нибудь. Я сама сообщу Клавдии о твоем приезде. Какое-то время поживи у нее.
Видно было, что Кольгрима не торопится уходить. Будто боится увидеть за порогом что-то таинственное и бесповоротно ужасное.
– Новосибирск – не Питер, конечно, но там скорее поймешь, что по-настоящему живут как раз там, на темном спокойном дне страны, а не на беспокойной сверкающей ее поверхности. В столицах что? Блеск, гам, прах…. Город замечательный. Там даже есть единственный в мире памятник, установленный в честь лабораторной мыши. Мышку, которая позировала сначала художнику, а потом скульптору, я специально обучила, как ей быть терпеливой и умной моделью… Ну, прощай!
Елене показалось, что в глазах тетушки блеснули слезы.
Ночь прошла спокойно. Напугала, правда, люстра в холле. Когда Лена щелкнула выключателем, свет не сразу погас, а стал таять, превращаясь из золотистого в мертвенно-голубой. Лампочки ужасали, как глаза монстра.
Утром Елена собрала вещи и направилась к родителям. И хотя те были несказанно рады возвращению дочери, она уже через день улетела в Новосибирск. Найти дом на берегу реки Бердь не составило труда, хотя он был за пределами садового общества. Участок был запущен, дом покосился и почернел. Калитка открылась с трудом и со скрипом. Замок тоже проржавел. Елена с трудом провернула ключ. Боязливо поеживаясь, вошла в жилище. «Похоже, тут сто лет никого не было, – подумала девушка. – Зачем тетушка послала сюда, в эту глушь? Лишь бы бомжей не было».
В тайнике оказалась синяя папка с рисунками и фотокарточка. Пожелтевшее от времени фото запечатлело элегантную даму в бархатном платье в крупную продольную полоску и шляпке с атласной лентой и молодого человека, явно художника или поэта. Не вызывало сомнений, что фотографии не меньше ста лет. На обороте выцвела надпись. «Я и Моди. Париж. 1910». Еще лежал обкусанный простой карандаш со сломанным грифелем «Koh-I-Noor» и задеревеневший ластик.
Два рисунка сохранились хорошо, третий был смят. Лена разгладила лист. «В ожидания мгновения радости», – прочла она. Под рисунками лежала свернутая бумажная салфетка. На ней было написано: «Эта папка, три рисунка и карандаш принадлежали Модильяни. Позировала ему я. На фото он и я. Фото сделал … (имя фотографа не прочитывалось). К.».
«К. Кольгрима?» – подумала Елена. Возвращаться было поздно, и девушка решила переночевать в доме. Долго не могла уснуть, тревожили мысли, непривычные звуки. Со двора донеслось воронье карканье. Во сне или в полудреме явилась тетушка в личине черного ворона и разъяснила, что на рисунках и на фото Елена собственной персоной, да-да, в далеком 1910 году, в который при желании можно всегда заглянуть запросто, как в булочную. Стоит только сильно захотеть.
– Захочешь – позови, – напоследок сказала Кольгрима.
В углу стоял сундук со съехавшей набок крышкой. Елена подняла крышку, та отвалилась. Порывшись среди ветхого барахла, девушка обнаружила желтую, как лимон, куртку и красный льняной кушак. Конечно же – Лена готова была руку дать на отсечение – то были куртка и кушак Модильяни!
Проснулась девушка от крика «Nevermore!», и весь день ее мучила головная боль и тревога.
Когда Лена вернулась домой и показала матери рисунки и фотографию, та без раздумий сказала:
– Да ведь это ты!
Отец подтвердил слова жены.
– Конечно, ты. Никаких сомнений у меня лично нет. А кто тебя так классно нарисовал? И фотка крутая. Под старину. Слышь, мать, закажем такие же?
– Рисовал Модильяни, – тихо произнесла девушка. – И на фото он.
Отец не удивился, так как ему по большому счету было всё равно, как была фамилия живописца, но мать от неожиданности села на стул.
– Какой Модильяни? – спросила она, вглядываясь в рисунки и в подпись художника.
– Самый обычный. Амедео.
– Тот самый? – Она перевела взгляд на фото.
– Тот самый.
– Это же целое состояние! Известность! – Мать подбежала к зеркалу и оценила свой вид в виду открывшихся перспектив. – Пора пополнять гардероб!
Впрочем, эту затею она отложила на денек-другой и с утра занялась звонками и эсэмэсками нужным людям и организациям.