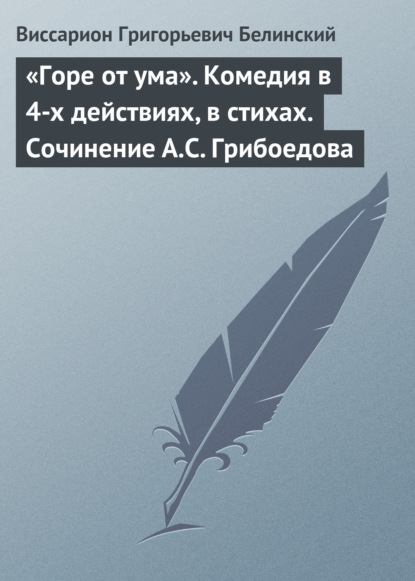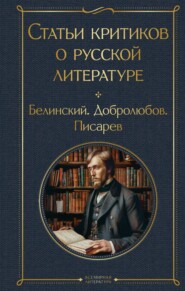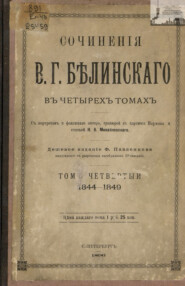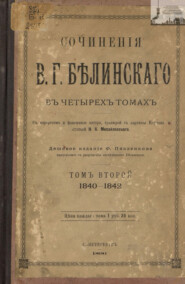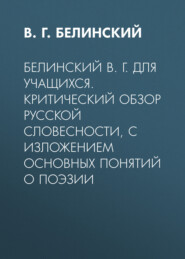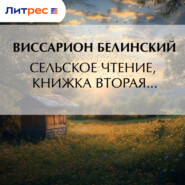По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Горе от ума». Комедия в 4-х действиях, в стихах. Сочинение А.С. Грибоедова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.
Но что он представляет собою, как не противоречие идеи с формою? Он враждует с человеческим обществом за его предрассудки, противные правам природы, за его стеснительные условия и между тем сам вносит эти предрассудки к бедным детям природы, эти стеснительные условия к полудиким детям вольности; однако ж из этого противоречия выходит не смех, а убийство и ужас трагический – торжество нравственного закона. Чацкий Грибоедова представляет собою то же противоречие идеи с формою: он хочет исправить общество от его глупостей, и чем же? своими собственными глупостями, рассуждая с глупцами и невеждами о «высоком и прекрасном», читая проповеди и диспутации на балах и всякого ругая, как вырвавшийся из сумасшедшего дома. И его противоречие смешно, потому что оно – буря в стакане воды, тогда как противоречие Алеко – страшная буря на океане. Герои трагедии – герои человечества, его могущественнейшие проявления; герои комедии – люди обыкновенные, хотя бы даже и умные и благородные. Мир трагедии – мир бесконечного в страстях и воле человека; мир комедии – мир ограниченности, конечности. Если в комедии между действующими лицами есть герой человечества, он играет в ней обыкновенную роль, так что в нем никто не видит, а разве только подозревает в возможности героя человечества. Но как скоро он является таким героем и осуществляет своею судьбою торжество нравственного закона, то хотя бы все остальные лица были дураки и смешили вас до слез своим противоречием с разумною действительностию – драматическое произведение уже не комедия, а трагедия.
Но есть еще нечто среднее между трагедиею и комедиею. Может быть такое произведение, которое, не представляя собою трагической коллизии как осуществления нравственного закона, тем не менее выражает собою положительную сторону бытия, явление разумной действительности, жизнь духа. Мы выше сказали, что на какой бы степени ни явился дух – его явление есть уже действительность в разумном и положительном смысле этого слова. Как две полярности одной и той же силы, как две противоположные крайности одной и той же идеи – идеи действительности, мы представили «Тараса Бульбу» и «Ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»; теперь мы должны для уяснения нашей мысли указать на третье произведение того же поэта – «Старосветские помещики». Вы смеетесь, читая изображение незатейливой жизни двух милых оригиналов, – жизни, которая протекает в ежеминутном «покушивании» разных разностей; вы смеетесь над этою простодушною любовию, скрепленною могуществом привычки и потом превратившеюся в привычку; но ваш смех весело добродушен, и в нем нет ничего досадного, оскорбительного; но вас поражает родственною горестью смерть доброй Пульхерии Ивановны, и вы после болезненно сочувствуете безотрадной горести старого младенца, апоплексически замершего душевно и телесно от утраты своей няньки, лелеявшей его бестребовательную жизнь и сделавшейся ему необходимою, как воздух для дыхания, как свет для очей, и вам, наконец, тяжело становится при виде ниспровержения домашних пенатов хлебосольной четы, которое произвел глупый племянник, приценявшийся на ярмарках к оптовым ценам, а покупавший только кремешки и огнивки. Отчего же так привязывают вас к себе эти люди, добродушные, но ограниченные, даже и не подозревающие, что может существовать сфера жизни, высшая той, в которой они живут и которая вся состоит в спанье или в потчеванье и кушании? Оттого, что это были люди, по своей натуре не способные ни к какому злу, до того добрые, что всякого готовы были угостить насмерть, люди, которые до того жили один в другом, что смерть одного была смертию для другого, смертию, в тысячу раз ужаснейшею, нежели прекращение бытия; следовательно, основою их отношений была любовь, из которой вышла привычка, укреплявшая любовь. Это любовь еще на слишком низкой ступени своего проявления, но вышедшая из общего, родового, вовеки не иссякающего источника любви. Это уже явление духа, хотя еще слабое и ограниченное, ступень духа, хотя еще и низшая; но уже явление не призрака, а духа, уже положение, а не отрицание жизни, – словом, своего рода разумная действительность. Мы жалеем, что не можем указать ни на одно произведение такого рода в драматической форме: оно было бы именно таким, которое не есть ни трагедия, ни комедия, но то среднее между ними, о котором мы говорим. Такого-то рода произведения назывались в старину «слезными комедиями» и «мещанскими трагедиями», а потом «драмами». Они обыкновенно заключали в себе трогательное и даже «бедственное» происшествие, «благополучно окончившееся». Плодовитая досужесть Коцебу в особенности снабжала XVIII век этими «драмами», которые были бы именно тем, о чем мы говорим, если б были художественны. И в самом деле, такие средние между трагедиею и комедиею «драмы», по своей сущности, удобнее к так называемой «благополучной развязке», хотя эта «счастливая развязка» и отнюдь не составляет ни их сущности, ни их необходимого условия. Мы выше сказали, что кровавая развязка не есть непременное условие даже самой трагедии; но трагедия необходимо требует жертв – кто бы они ни были, добрые или злые, и чрез что бы ими ни были, чрез смерть или утрату надежды на счастие жизни, – ибо только в борьбе может вполне и торжественно осуществиться торжество нравственного закона, которое есть высочайшее торжество духа и величайшее явление мировой жизни; почему и трагедия есть высшая сторона, цвет и торжество драматической поэзии. Из этого ясно видно, что «драма» может изображать явления разумной действительности на всех ее ступенях, а не только на первых, как в приведенных нами в пример «Старосветских помещиках». От комедии она существенно разнится тем, что представляет не отрицательную, а положительную сторону жизни; а от трагедии она существенно разнится тем, что, даже и выражая торжество нравственного закона, делает это не чрез трагическое столкновение, в самом себе неизбежно заключающее условие жертв, и, следовательно, лишена трагического величия и не досягает до высших мировых сфер духа. Мы думаем, что, вследствие такого умозрительного построения, можно причислить к «драмам», например, Шекспирова «Венецианского купца» и пушкинского «Анджело» и в «Кавказском пленнике» видеть, в эпическом роде, соответственное ей явление.
Итак, мы нашли три вида драматической поэзии – трагедию, драму и комедию, выводя их не по внешним признакам, а из идеи самой поэзии. Для большей определенности в этих технических словах мы должны сказать еще несколько слов о сбивчивом употреблении слова «драма». Словом «драма» выражают и общее родовое понятие произведений целого отдела поэзии, так что всякая пьеса в драматической форме, трагедия ли то, комедия или даже водевиль, есть уже драма; потом, под словом же «драма» разумеют высший род драматической поэзии – трагедию. Поэтому пьесы Шекспира называют то драмами, то трагедиями, но в обоих случаях означая этими словами высший драматический род, то, что немцы называют Trauerspiel[7 - Трагедия.]. Другие хотят их называть только «драмами», оставляя название «трагедии» за греческими произведениями этого рода и желая словом «драма» отличить христианскую трагедию, герой которой есть субъективная личность внутреннего и самоцельного человека, от языческой трагедии, герой которой – народ, в лице царей и героев, как представителей народа, как объективных личностей, и потом как трагедии в маске и на котурне, и с хором – органом таинственного и незримо присутствующего героя – колоссального призрака судьбы. Некоторые хотят присвоить название «трагедии» особенному роду произведений новейшего искусства, ведущего свое начало от «мистерий» средних веков, – драмам лирическим, каковы суть: «Фауст» Гете, герой которой есть целое человечество в лице одного человека, и «Орлеанская дева» Шиллера, герой которой есть целый народ, таинственно спасаемый высшими силами в лице чудной девы, которой имя и явление необъяснимо утверждено историей. Нам кажется, что каждое из этих мнений имеет свое основание, и наша цель была не указать на справедливейшее, но дать знать о существовании всех. Кто поймет идею этих мнений, для того не будет казаться сбивчивым различное употребление слова «драма».
Трагедия или комедия, как и всякое художественное произведение, должна представлять собою особый, замкнутый в самом себе мир, то есть должна иметь единство действия, выходящее не из внешней формы, но из идеи, лежащей в ее основании. Она не допускает в себя ни чуждых своей идее элементов, ни внешних толчков, которые бы помогали ходу действия, но развивается имманентно, то есть изнутри самой себя, как дерево развивается из зерна. Поэтому всякая пьеса в драматической форме, вполне выражающая и вполне исчерпывающая свою идею, целая и оконченная в художественном значении, то есть представляющая собою отдельный и замкнутый в самом себе мир, есть или трагедия, или комедия, смотря по сущности ее содержания, но нисколько не смотря на ее объем и величину, хотя бы она простиралась не далее пяти страниц. Так, например, пьесы Пушкина «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Русалка», «Борис Годунов» и «Каменный гость» – суть трагедии во всем смысле этого слова, как выражающие, в драматической форме, идею торжества нравственного закона и представляющие, каждая в отдельности, совершенно особый и замкнутый в самом себе мир.
Теперь посмотрим, каким образом комедия может представлять собою особый, замкнутый в самом себе мир, для чего бросим беглый взгляд на высокохудожественное произведение в этом роде – на комедию Гоголя «Ревизор».
В основании «Ревизора» лежит та же идея, что и в «Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»: в том и в другом произведении поэт выразил идею отрицания жизни, идею призрачности, получившую под его художническим резцом свою объективную действительность. Разница между ими не в основной идее, а в моментах жизни, схваченных поэтом, в индивидуальностях и положениях действующих лиц. Во втором произведении мы видим пустоту, лишенную всякой деятельности; в «Ревизоре» пустоту, наполненную деятельностию мелких страстей и мелкого эгоизма. Чтобы произведения его были художественны, то есть представляли собою особый, замкнутый в самом себе мир, он взял из жизни своих героев такой момент, в котором сосредоточивалась вся целостность их жизни, ее значения, сущность, идея, начало и конец: в первом – ссору двух приятелей, во втором – ожидание и прием ревизора. Все чуждое этой ссоре и этому ожиданию и приему ревизора не могло войти в повесть и комедию, и та и другая начаты с начала и кончены в конце: нам не нужно знать подробности детства обоих друзей-врагов, ни того, что было с ними после, как их видел поэт: мы знаем это из повести, потому что знаем этих героев с головы до ног, знаем всю сущность их жизни, вполне исчерпанную поэтом в описании их ссоры. Так точно, на что нам знать подробности жизни городничего до начала комедии? Ясно и без того, что он в детстве был учен на медные деньги, играл в бабки, бегал по улицам, и как стал входить в разум, то получил от отца уроки в житейской мудрости, то есть в искусстве нагревать руки и хоронить концы в воду. Лишенный в юности всякого религиозного, нравственного и общественного образования, он получил в наследство от отца и от окружающего его мира следующее правило веры и жизни: в жизни надо быть счастливым, а для этого нужны деньги и чины, а для приобретения их взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье перед властями, знатностью и богатством, ломанье и скотская грубость перед низшими себя. Простая философия! Но заметьте, что в нем это не разврат, а его нравственное развитие, его высшее понятие о своих объективных обязанностях: он муж, следовательно, обязан прилично содержать жену; он отец, следовательно, должен дать хорошее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партию и, тем устроив ее благосостояние, выполнить священный долг отца. Он знает, что средства его для достижения этой цели грешны перед богом, но он знает это отвлеченно, головою, а не сердцем, и он оправдывает себя простым правилом всех пошлых людей: «Не я первый, не я последний, все так делают». Это практическое правило жизни так глубоко вкоренено в нем, что обратилось в правило нравственности; он почел бы себя выскочкою, самолюбивым гордецом, если бы, хоть позабывшись, повел себя честно в продолжение недели. Да оно и страшно быть «выскочкою»: все пальцы уставятся на вас, все голоса подымутся против вас; нужна большая сила души и глубокие корни нравственности, чтоб бороться с общественным мнением. И не Сквозники-Дмухановские увлекаются могучим водоворотом этой магической фразы – «все так делают» – и, как Молоху, приносят ей в жертву и таланты, и силы души, и внешнее благосостояние. Наш городничий был не из бойких от природы, и потому «все так делают» было слишком достаточным аргументом для успокоения его мозолистой совести; к этому аргументу присоединился другой, еще сильнейший для грубой и низкой души: «Жена, дети, казенного жалованья не стаёт на чай и сахар». Вот вам и весь Сквозник-Дмухановский до начала комедии. Что касается до форм, в каких он выражался и проявлялся до того, они все те же, все его же, как и во время комедии. Так же нетрудно понять, что с ним было и по окончании комедии, как он дожил свой век. Художественная обрисовка характера в том и состоит, что если он дан вам поэтом в известный момент своей жизни, вы уже сами можете рассказать всю его жизнь и до и после этого момента. Конец «Ревизора» сделан поэтом опять не произвольно, но вследствие самой разумной необходимости: он хотел показать нам Сквозник-Дмухановского всего, как он есть, и мы видели его всего, как он есть. Но тут скрывается еще другая, не менее важная и глубокая причина, выходящая из сущности пьесы. В комедии, как выражении случайностей, все должно выходить из идеи случайностей и призраков и только чрез это получать свою необходимость: почтенный наш городничий жил и вращался в мире призраков, но как у него необходимо были свои понятия о действительности, хотя и отвлеченные, и сверх того самый основательный страх действительности, известной под именем уголовного суда, то и должно было выйти комическое столкновение, как сшибка естественного влечения сердца к воровству и плутням с страхом наказания за воровство и плутни, страхом, который увеличивался еще и некоторым беспокойством совести. «У страха глаза велики», – говорит мудрая русская пословица: удивительно ли, что глупый мальчишка, промотавшийся в дороге трактирный денди, был принят городничим за ревизора? Глубокая идея! Не грозная действительность, а призрак, фантом или, лучше сказать, тень от страха виновной совести должны были наказать человека призраков. Городничий Гоголя – не карикатура, не комический фарс, не преувеличенная действительность и в то же время нисколько не дурак, но, по-своему, очень и очень умный человек, который в своей сфере очень действителен, умеет ловко взяться за дело – своровать и концы в воду схоронить, подсунуть взятку и задобрить опасного ему человека. Его приступы к Хлестакову, во втором акте, – образец подьяческой дипломатии. Итак, конец комедии должен совершиться там, где городничий узнает, что он был наказан призраком и что ему еще предстоит наказание со стороны действительности или по крайней мере новые хлопоты и убытки, чтобы увернуться от наказания со стороны действительности. И потому приход жандарма с известием о приезде истинного ревизора прекрасно оканчивает пьесу и сообщает ей всю полноту и всю самостоятельность особого, замкнутого в самом себе мира. В художественном произведении нет ничего произвольного и случайного, но все необходимо и логически вытекает из его идеи. Каждое лицо в нем, способствуя развитию главной идеи, в то же время есть и само себе цель, живет своею особною жизнию. Далее мы из «Ревизора» разовьем подробно эту идею, а пока заметим мимоходом, что вследствие этого взгляда на искусство Мольер – такой же художник, как Гомеров Тирсис-красавец, и так же похож на Шекспира, как титулярный советник Поприщин на Фердинанда VIII, короля испанского. Конечно, французы правы, что ставят Мольера выше Корнеля и Расина: он действительно был человек с большим талантом, с неистощимою живостию и остротою французского ума; он истощил все богатство разговорного французского языка, воспользовался всею его грациозною игривостию для выражения смешных противоречий; он подметил и верно схватил многие черты своего времени. Но он велик в частностях, а не в целом; но его действующие лица – не действительные существа, а карикатуры, так же как его произведения – сатиры, а не комедии, так же как сам он поэт местами, а не художник, который потому художник, что творит целое, стройное здание, выросшее из одной идеи. Например, в его «Скупом» Гарпагон, конечно, хорош, как мастерски написанная карикатура, но все другие лица – резонеры, ходячие сентенции о том, что скупость есть порок; ни одно из них не живет своею жизнию и для самого себя, но все придуманы, чтобы лучше оттенить собою героя quasi-комедии. То же и в «Тартюфе»: все лица присочинены для главного, и сам Тартюф так нехитер, что мог обмануть только одного человека, и то потому, что это один – пошлый дурак. Завязка и развязка мнимых комедий Мольера никогда не выходит из основной идеи и взаимных отношений действующих лиц, но всегда придумывается как рама для картины, не создается как необходимая форма. Это оттого, что у него никогда не было идеи и поэзия для него никогда не была сама себе цель, но средство исправлять общество осмеянием пороков. Какой это художник!..
Многие находят страшною натяжкою и фарсом ошибку городничего, принявшего Хлестакова за ревизора, тем более что городничий – человек, по-своему, очень умный, то есть плут первого разряда. Странное мнение или, лучше сказать, странная слепота, не допускающая видеть очевидность! Причина этого заключается в том, что у каждого человека есть два зрения – физическое, которому доступна только внешняя очевидность, и духовное, проникающее внутреннюю очевидность как необходимость, вытекающую из сущности идеи. Вот когда у человека есть только физическое зрение, а он смотрит им на внутреннюю очевидность, то и естественно, что ошибка городничего ему кажется натяжкою и фарсом. Представьте себе воришку-чиновника, такого, каким вы знаете почтенного Сквозника-Дмухановского: ему виделись во сне две какие-то необыкновенные крысы, каких он никогда не видывал, – черные, неестественной величины – пришли, понюхали и пошли прочь. Важность этого сна для последующих событий была уже кем-то очень верно замечена[8 - Смотри «Литературные прибавления к „Инвалиду“», 1839, № 3, т. II. (Прим. В. Г. Белинского.)] В самом деле, обратите на него все ваше внимание: им открывается цепь призраков, составляющих действительность комедии. Для человека с таким образованием, как наш городничий, сны – мистическая сторона жизни, и чем они несвязнее и бессмысленнее, тем для него имеют большее и таинственнейшее значение. Если бы, после этого сна, ничего важного не случилось, он мог бы и забыть его; но, как нарочно, на другой день он получает от приятеля уведомление, что «отправился инкогнито из Петербурга чиновник с секретным предписанием обревизовать в губернии все относящееся по части гражданского управления». Сон в руку! Суеверие еще более запугивает и без того запуганную совесть; совесть усиливает суеверие. Обратите особенное внимание на слова «инкогнито» и «с секретным предписанием». Петербург есть таинственная страна для нашего городничего, мир фантастический, которого форм он не может и не умеет себе представить. Нововведения в юридической сфере, грозящие уголовным судом и ссылкою за взяточничество и казнокрадство, еще более усугубляют для него фантастическую сторону Петербурга. Он уже допытывается у своего воображения, как приедет ревизор, чем он прикинется и какие пули будет он отливать, чтобы разведать правду. Следуют толки у честной компании об этом предмете. Судья-собачник, который берет взятки борзыми щенками и потому не боится суда, который на своем веку прочел пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен, находит причину присылки ревизора, достойную своего глубокомыслия и начитанности, говоря, что «Россия хочет вести войну, и потому министерия нарочно отправляет чиновника, чтоб узнать, нет ли где измены». Городничий понял нелепость этого предположения и отвечает: «Где нашему уездному городишке? Если б он был пограничным, еще бы как-нибудь возможно предположить, а то стоит черт знает где – в глуши… Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Засим он дает совет своим сослуживцам быть поосторожнее и быть готовыми к приезду ревизора; вооружается против мысли о грешках, то есть взятках, говоря, что «нет человека, который бы не имел за собою каких-нибудь грехов», что «это уже так самим богом устроено» и что «волтерианцы напрасно против этого говорят»; следует маленькая перебранка с судьею о значении взяток; продолжение советов; ропот против проклятого инкогнито. «Вдруг заглянет: а! вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья? – Тяпкин-Ляпкин. – А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто попечитель богоугодных заведений? – Земляника. – А подать сюда Землянику! Вот что худо!»… В самом деле, худо! Входит наивный почтмейстер, который любит распечатывать чужие письма в надежде найти в них «разные этакие пассажи… назидательные даже… лучше, нежели в «Московских ведомостях»«. Городничий дает ему плутовские советы «немножко распечатывать и прочитывать всякое письмо, чтобы узнать – не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки». Какая глубина в изображении! Вы думаете, что фраза «или просто переписки» бессмыслица или фарс со стороны поэта: нет, это неумение городничего выражаться, как скоро он хоть немного выходит из родных сфер своей жизни. И таков язык всех действующих лиц в комедии! Наивный почтмейстер, не понимая, в чем дело, говорит, что он и так это делает. «Я рад, что вы это делаете, – отвечает плут-городничий простяку-почтмейстеру, – это в жизни хорошо» и, видя, что с ним обиняками немного возьмешь, напрямки просит его – всякое известие доставлять к нему, а жалобу или донесение просто задерживать. Судья потчует его собачонкою, но он отвечает, что ему теперь не до собак и зайцев: «У меня в ушах только и слышно, что инкогнито проклятое; так и ожидаешь, что вдруг отворятся двери и войдет…»
И в самом деле, двери отворяются с шумом, и вбегают Петры Ивановичи Бобчинский и Добчинский. Это городские шуты, уездные сплетники; их все знают как дураков и обходятся с ними или с видом презрения, или с видом покровительства. Они бессознательно это чувствуют и потому изо всей мочи перед всеми подличают и, чтобы только их терпели, как собак и кошек в комнате, всем подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уездных городков. Вообще с ними обращаются без чинов, как с собаками и кошками: надоедят – выгоняют. Их дни проходят в шатанье и собирании новостей и сплетней. Обогатясь подобною находкой, они вдруг вырастают сознанием своей важности и уже бегут к знакомым смело, в уверенности хорошего приема. «Чрезвычайное происшествие!» – кричит Бобчинский. «Неожиданное известие!» – восклицает Добчинский, вбегая в комнату городничего, где все настроены на один лад, а особливо сам городничий весь сосредоточен на idee fixe[9 - Навязчивой идее (франц.).]. «Что такое?» – «Приходим в гостиницу!», – восклицает Добчинский. «Приходим в гостиницу», – перебивает его Бобчинский. Начинается рассказ самый обстоятельный, самый подробный, от начала до конца: зачем пошли в гостиницу, где, как, когда, при каких обстоятельствах, – словом, по всем правилам топиков или общих мест старинных риторик. Чудаки перебивают друг друга; каждому хочется насладиться своею важностию, быть центром общего внимания, а вместе и занять себя, наполнить свою пустоту пустым содержанием. Забавнее всего то, что им самим хочется как можно скорее добраться до эффектного конца, а между тем и хочется продолжить свое торжество и рассказать все сначала и подробнее. Бобчинский овладевает рассказом, говоря, что у Добчинского «и зуб со свистом и слога такого нету», и Добчинскому осталось только помогать жестами рассказу счастливого Бобчинского, изредка обегать его некоторыми фразами, которые тот снова перехватывает и продолжает свой рассказ. Наконец дошли до «молодого человека недурной наружности, в партикулярном платье». Представьте себе, какое впечатление должен был произвести этот «молодой человек недурной наружности, в партикулярном платье» на воображение городничего, уже и без того настроенное ожиданием проклятого «инкогнито»! И вот, наконец, Бобчинский передает донесение трактирщика Власа: «Молодой человек, чиновник, едущий из Петербурга – Иван Александрович Хлестаков, а едет в Саратовскую губернию, и что чрезвычайно странно себя аттестует: больше полуторы недели живет, дальше не едет, забирает все на счет и денег хоть бы копейку заплатил». Следует остроумная сметка проницательного Бобчинского: «С какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит бог знает куда – в Саратовскую губернию? Это, верно, не кто другой, как самый тот чиновник». Не естествен ли после этого ужас городничего?
Городничий. Что вы говорите? не может быть! Да нет, это вам так показалось. Это кто-нибудь другой.
Бобчинский. Помилуйте, как не он! И денег не платит, и не едет – кому же быть, как не ему? И с какой стати жил бы он здесь, когда ему прописана подорожная в Саратов?
Понимаете ли вы хотя в возможности эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? на каких законах разума основаны они? Вот он – вот источник комического и смешного! Видите ли вы, какая драма, какое столкновение противоположных интересов, проистекающих из характеров действующих лиц и их взаимных отношений, выразилось в этих двух монологах! Городничий уже верит страшному известию, и как утопающий хватается за соломинку, так он пустым вопросом хочет как бы отдалить на время сознание горькой истины, чтобы дать себе время опомниться; Бобчинский, напротив, всеми силами старается поддержать и в других и в самом себе уверенность в справедливости известия, которое вдруг придало ему такую важность. Да, в этой комедии нет ни одного слова, строгой и непреложной необходимости которого нельзя б было доказать из самой сущности идеи и действительности характеров. Но вот Бобчинский по тем же причинам, как и его достойный друг, и с такою же основательностию и очевидностию подает голос о несомненности факта:
Он, он!.. ей-богу, он!.. Я ставлю бог знает что… Такой наблюдательный: все обсмотрел и по углам везде, и даже заглянул в тарелки наши полюбопытствовать, что едим. Такой осмотрительный, что боже сохрани…
После такого довода нет больше сомнения! Такой наблюдательный, что даже в тарелки заглядывал! Боже мой, да если бы в эту минуту бедному городничему сказали о наблюдательности его кучера, он принял бы его за ревизора, отличительным признаком которого, в его испуганном воображении, непременно должна быть наблюдательность…
Видите ли, с каким искусством поэт умел завязать эту драматическую интригу в душе человека, с какою поразительною очевидностию умел он представить необходимость ошибки городничего? Если и теперь не видите – перечтите комедию или, что еще лучше, – посмотрите ее на сцене; если и тут не увидите – так это уже вина вашего зрения, а мы не берем на себя трудной обязанности научить слепого безошибочно судить о цветах. Если нужны еще доказательства, не из сущности идеи произведения почерпнутые, а внешние, практические, рассудочные и резонерские, без которых многие люди ничего не понимают, заметим им, что подобные случаи часто бывают в жизни: сосредоточьтесь на идее, от которой зависит ваша участь, – вы начнете говорить о ней с первым встречным на улице, приняв его за своего приятеля, к которому вы шли говорить о ней. По крайней мере, это очень возможно.
Пропускаем остальную половину первого акта – отчаяние городничего при мысли, что ревизор в полторы недели мог узнать о невинно высеченной им унтер-офицерской жене, о покраже у арестантов провизии, о нечистоте на улицах; его радость при мысли, что ревизор – молодой человек; его распоряжения; сцену с квартальными; просьбу Добчинского взять его с собою или хоть позволить «бежать за дрожками петушком, петушком», чтобы только посмотреть в щелочку, «так, знаете, из дверей только увидеть, как там он… больше сущность и поступки его, а я ничего»; замечание городничего квартальному, что он «не по чину берет»; сцену с частным приставом, донесшим о квартальном Держиморде, который поехал по случаю драки, для порядка, и воротился пьян; дальнейшие распоряжения городничего; его животные переходы от раскаяния к ругательствам на купцов, не догадавшихся подарить ему новой шпаги, хотя и видели, что старая уже не годится; его обещание поставить такую свечу, какой никто еще не ставил, и угрозу «на каждого бестию-купца наложить по три пуда воска», когда беда минет; сцену Анны Андреевны, расспрашивающей мужа за дверью о том, с усами ли ревизор и с какими усами; брань ее на дочь, которая своею кокетливостию при туалете лишила ее возможности поскорее разузнать о ревизоре; эту пикировку с дочерью, в которой поблеклая кокетка уездного города представляется как бы видящею в молодой дочери свою соперницу; скажем коротко, что во всем этом, как и в предшествовавшем, поэт остался верен своей идее, не изменил ей ни словом, ни чертою; что все это больше, нежели портрет или зеркало действительности, но более походит на действительность, нежели действительность походит сама на себя, ибо все это – художественная действительность, замыкающая в себе все частные явления подобной действительности…
Перед вами Осип – герой лакейской природы, представитель целого рода бесчисленных явлений, из которых он ни на одно не похож, как две капли воды, но из которых каждое похоже на него, как две капли воды. В своем большом монологе, где, между прочим, читает он нравоучение самому себе для своего барина, он высказывает всего себя, свои отношения к барину и, наконец, самого барина. Вы видите деревенского слугу, который пожил в Петербурге, постиг достоинство столичной жизни и галантерейного обращения, но, по пословице, «сколько волка ни корми, он все в лес глядит», предпочитает мирную деревенскую жизнь треволнениям столицы, в которой худо без денег, иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голода. В истинно художественном произведении всегда видно, как взаимные отношения персонажей действуют на самый их характер, и потому вам тотчас станет ясно, что Осип грубиян столько же по натуре, сколько и по презрению к своему барину, которого глупость он понимает по-своему. Этот барин «один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими». Он франт и щеголь, потому что дурак и столичный житель: глупцы скорее всего перенимают внешние стороны высшей их жизни. Отец содержит его прилично, но он мотает батюшкины денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому тщеславию, а потом спускает платье на рынке, до новой присылки денег. «Он действует и говорит без всякого соображения; не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли; речь его отрывиста, и слова вылетают совершенно неожиданно». Он слышал, что есть на свете вещь, которая называется литературою, и в его пустой голове в беспорядке улеглись имена сочинений и названия журналов и сочинителей: Брамбеус и Смирдин, «Библиотека для чтения» и «Сумбека», «Юрий Милославский» и «Фенелла». Он денди не по одному модному платью, но и по манерам, денди трактирный, одна из тех фигур, которые красуются на вывесках московских трактиров, цирюлен и портных. В Пензе его обыграл начистую пехотный капитан; он за это досадует на случай и несчастие, но не на капитана, к которому он благоговеет, как дилетант к художнику, потому что, «что ни говори, а удивительно бестия штосы срезывает: всего каких-нибудь четверть часа посидел и все обобрал – славно играет!» Великое достоинство в его глазах!
Посмотрите, как робко и какими косвенными вопросами хочет он узнать от Осипа, есть ли у них табак: о, он боится его нравоучений и его грубости! Посмотрите, как он подличает перед трактирным прислужником, справляясь о его здоровье и о числе приезжающих в их трактир, и как ласково просит его поторопиться принести ему обедать! Какая сцена, какие положения, какой язык!
Хлестаков. А соуса почему нет?
Слуга. Соуса нет.
Хлестаков. Отчего же нет! я видел сам, проходя мимо кухни, как готовилась рыба и котлеты.
Слуга. Да это, может быть, для тех, которые почище-с.
Хлестаков. Ах ты, дурак!
Слуга. Да-с.
Хлестаков. Поросенок ты скверный!.. Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт меня возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?
Слуга. Да уж известно, что не такие.
Хлестаков. Какие же?
Слуга. Обнаковенно какие! они уж известно: они деньги платят.
Где подсмотрел, где подслушал поэт эти сцены и этот язык? И почему только один он так подсмотрел и так подслушал? Может быть, потому, что он подсматривал и подслушивал, как и все, то есть не подсматривая и не подслушивая, да в фантазии-то его это отразилось не так, как у всех. А ведь и эти все – тоже поэты и художники и как блины пекут и трагедии, и драмы, и оперы, и комедии, и водевили…
Входит Осип и говорит барину, что «там чего-то приехал городничий, осведомляется и спрашивает о вас»: новое комическое столкновение! У Хлестакова воображение настроено на мысли о жалобах трактирщика, о тюрьме… Он испугался тюрьмы, но утешился мыслию, что если поведут его туда благородным образом, то ничего; но мысль о двух купеческих дочерях и офицерах, которых он видел на улице, снова приводит его в отчаяние… Можете представить, в какой настроенности его воображения входит к нему городничий… В высшей степени комическое положение!.. Но мы пропускаем эту превосходную сцену – она говорит сама за себя, а для кого она нема, тем не много помогут наши толкования. Скажем только, что в этой сцене городничий является во всем своем блеске: с одной стороны, как чуждый фантастическому для него понятию петербургского чиновника и весь сосредоточенный на мысли о «проклятом инкогнито», он все глупости Хлестакова принимает за тонкие штуки, а с другой, преловко и прехитро выкидывает свои тонкие штуки и улаживает дело.
Третье действие, а Анна Андреевна все еще у окна с своею дочерью – в высшей степени комическая черта! Тут не одно праздное любопытство пустой женщины: ревизор молод, а она кокетка, если не больше… Дочь говорит, что кто-то идет – мать сердится: «Где идет? у тебя вечно какие-нибудь фантазии; ну да, идет». Потом вопрос, кто идет: дочь говорит, что это Добчинский – мать опять не соглашается и опять упрекает дочь ни в чем: «Какой Добчинский? тебе всегда вдруг вообразится этакое! совсем не Добчинский. Эй, вы, ступайте сюда! скорее!» Наконец обе разглядывают; дочь говорит: «А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский!» Мать отвечает: «Ну да, Добчинский, теперь я вижу – из чего же ты споришь?» Можно ли лучше поддержать достоинство матери, как не быть всегда правою перед дочерью и не делая всегда дочь виноватою перед собою? Какая сложность элементов выражена в этой сцене: уездная барыня, устарелая кокетка, смешная мать! Сколько оттенков в каждом ее слове, как значительно, необходимо каждое ее слово! Вот что значит проникать в таинственную глубину организации предмета и во внешность выводить то, что кроется в самых недоступных для зрения тканях и нервах внутренней организации! Поэт заставляет насквозь видеть эти характеры и внутри находить причины всего внешнего, являющегося. Сцена Анны Андреевны с Добчинским: та и другой являются тут во всей своей прозрачности. Она спрашивает его, тот ли это ревизор, о котором уведомляли ее мужа: «Настоящий; я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем». Потом он пересказывает свидание городничего с Хлестаковым так, как оно отразилось в его понятии и как должно было отразиться в понятии городничего, и заключает, что он тоже «перетрухнул немножко». «Да вам-то чего бояться – ведь вы не служите?» – спрашивает она его. «Да так, знаете, когда вельможа говорит, то чувствуешь страх», – отвечает простак. На вопрос городничихи о наружности ревизора он его описывает так, как он отразился в его узкой голове: «Молодой, молодой человек: лет двадцати трех; а говорит совершенно как старик. Извольте, говорит, я поеду: и туда и туда… (размахивает руками) так, это все славно». Видите ли в этих бессмысленных словах немножко идиотское неумение отдать себе отчет в собственном впечатлении и выразить его словом? Далее: «Я, говорит, и написать и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно». Видите ли из этого, что чем Хлестаков был пошлее, бессвязнее в своих фразах, трактирнее в своих манерах, тем большее придавал он себе значение не только в глазах Добчинского, но и самого городничего? Есть люди, которые почитают в книгах глубоким и мудрым все, чего они не понимают: приведите к ним какого-нибудь глупца или ловкого мистификатора, как автора этой умной книжки, чем нелепее он будет выражаться, тем больше они будут ему удивляться. Для городничего ревизор был слишком премудрою книгою, потому уже только, что он ревизор, – с этой точки зрения его трудно было сдвинуть, и потому все, что Хлестаков ни врал после к явной своей невыгоде, только еще более поддерживало городничего в его заблуждении, вместо того, чтобы вывести из него и открыть ему глаза.
Сцена матери и дочери, советующихся о туалете, чтобы их не осмеяла какая-нибудь «столичная штучка», и спор о палевом платье, которое, по мнению матери, к лицу ей, так как у ней самые темные глаза, потому что «она и гадает всегда на трефовую даму», и возражение дочери, что к ней не идет цветное платье, потому что она «больше червонная дама», – эта сцена и этот спор окончательно и резкими чертами обрисовывают сущность, характеры и взаимные отношения матери и дочери, так что последующее уже нисколько не удивляет в них вас, как не удивляет сумма четырех, вышедшая из умножения двух на два. Вот в этом-то состоит типизм изображения: поэт берет самые резкие, самые характеристические черты живописуемых им лиц, выпуская все случайные, которые не способствуют к оттенению их индивидуальности. Но он выбирает не по сортировке, не по соображению и сличению более годных с менее годными, он даже и не думает, не заботится об этом, но все это выходит у него само собою, потому что изображаемые им на бумаге лица прежде всего изобразились у него в фантазии, и изобразились во всей полноте своей и целости, со всеми родовыми приметами, от цвета волос до родимого пятнышка на лице, от звука голоса до покроя платья. Положить их на бумагу – для него уже акт второстепенный, почти механический труд. И посмотрите, как легко у него все выходит: в этой коротенькой, как бы слегка и небрежно наброшенной сцене вы видите прошедшее, настоящее и будущее, всю историю двух женщин, а между тем она вся состоит из спора о платье и вся как бы мимоходом и нечаянно вырвалась из-под пера поэта!..
Сцена явления Хлестакова в доме городничего в сопровождении свиты из городского чиновничества и самого Сквозника-Дмухановского; представление Анны Андреевны и Марьи Антоновны; любезничанье и вранье Хлестакова; – каждое слово, каждая черта во всем этом, общность и характер всего этого – торжество искусства, чудная картина, написанная великим мастером, никогда не жданное, никем не подозревавшееся изображение всеми виденного, всем знакомого и, несмотря на то, всех удивившего и поразившего своей новостию и небывалостию!.. Здесь характер Хлестакова – этого второго лица комедии – развертывается вполне, раскрывается до последней видимости своей микроскопической мелкости и гигантской пошлости. К сожалению, это лицо понято меньше прочих лиц и еще не нашло для себя достойного артиста на театрах обеих столиц. Многим характер Хлестакова кажется резок, утрирован, если можно так выразиться, его болтовня, напоминающая не любо, не слушай – врать не мешай, – изысканно-неправдоподобною. Но это потому, что всякий хочет видеть и, следовательно, видит в Хлестакове свое понятие о нем, а не то, которое существенно заключается в нем. Хлестаков является к городничему в дом после внезапной перемены его судьбы: не забудьте, что он готовился идти в тюрьму, а между тем нашел деньги, почет, угощение, что он после невольного и мучительного голода наелся досыта, отчего и без вина можно прийти в какое-то полупьяное расслабление, а он еще и подпил. Как и отчего произошла эта внезапная перемена в его положении, отчего перед ним стоят все навытяжку – ему до этого нет дела; чтобы понять это, надо подумать, а он не умеет думать, он влечется, куда и как толкают его обстоятельства. В его полупьяной голове, при обремененном желудке, все передвоилось, все перемесилось – и Смирдин с Брамбеусом, и «Библиотека» с «Сумбекою», и Маврушка с посланниками. Слова вылетают у него вдохновенно; оканчивая последнее слово фразы, он не помнит ее первого слова. Когда он говорил о своей значительности, о связях с посланниками, – он не знал, что он врет, и нисколько не думал обманывать: сказав первую фразу, он продолжал как бы против воли, как камень, толкнутый с горы, катится уже не посредством силы, а собственною тяжестию. «Меня даже хотели сделать вице-канцлером (зевает во всю глотку). О чем, бишь, я говорил?» Если бы ему сказали, что он говорил о том, как отец секал его розгами, он, наверное, уцепился бы за эту мысль и начал бы не говорить, а как будто продолжать, что это очень больно, что он всегда кричал, но что «при нынешнем образовании этим ничего не возьмешь».
Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно случайно, мимоходом, и притом не самим собою, а ревизором. Но кто его сделал ревизором? страх городничего, следовательно, он создание испуганного воображения городничего, призрак, тень его совести. Поэтому он является во втором действии и исчезает в четвертом, – и никому нет нужды знать, куда он поехал и что с ним стало: интерес зрителя сосредоточен на тех, которых страх создал этот фантом, а комедия была бы не кончена, если бы окончилась четвертым актом. Герой комедии – городничий, как представитель этого мира призраков.
В «Ревизоре» нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны, как необходимые части, художественно образующие собою единое целое, округленное внутренним содержанием, а не внешнею формою, и потому представляющее собою особный и замкнутый в самом себе мир. Скрепя сердце пропускаем VII, VIII, IX и Х явления третьего акта и остановимся только на оцепенении городничего, как бы кто ударил его обухом по голове: «так совсем ошеломило! страх такой напал: еще такого важного человека никогда не видал (задумывается); с министрами играет и во дворец ездит… так вот, право, чем больше думаешь… черт его знает, не знаешь, что и делается в голове, как будто стоишь на какой-нибудь колокольне или тебя хотят повесить». Это говорит уездный чиновник, служака, начавший службу по-старинному, что называлось «тянуть лямку»; а вот голос чиновницы нового времени, которая всегда образованнее своего мужа: «А я никакой совершенно не ощутила робости, я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет». Бесподобна и эта выходка философствующего городничего: «Чудно все завелось теперь на свете: народ все тоненький, поджаристый такой. Никак не узнаешь, что он важная особа». Это голос старого чиновника, врасплох застигнутого новым временем: он уже и прежде слышал, а теперь собственными глазами удостоверился, что нынче-де уже по голове, а не по брюху делаются важными особами.
В первых сценах четвертого акта Хлестаков беседует с самим собою и является все тем же, все самим же собою и не изменяет себе ни одним словом, ни одним движением. После дивных сцен с чиновниками города, у которых он набрал денег, он еще в первый раз догадывается, что его принимают не за то, что он есть, а за великого государственного человека. Причина этого явления и могущие выйти из него следствия не в силах остановить на себе его внимания. Это одна из тех голов, которые не в состоянии переварить самого простого понятия и глотают, не жевавши. Он очень рад, что его приняли за важную особу: «Я это люблю. Мне нравится, если меня почитают за важного человека. В моей физиономии точно есть что-то такое внушающее…» и не докончил, сколько потому, что это фраза слышанная, а не своя, столько и потому, что вдруг перепрыгнул к другому предмету: «Это с их стороны тоже благородная черта, что они готовы дать взаймы денег». Видите ли: его приняли за важную особу – оттого, что у него «в физиономии есть что-то внушающее»; это должная дань его личным достоинствам, а не другая, более важная для чиновников причина; что ему надавали денег, это не взятки, а заем, и он на ту минуту, как говорит, вполне убежден, что возвратит им свой долг. Но Осип умнее своего барина: он все понимает и ласково, тоже как будто мимоходом, советует ему уехать, говоря: «Погуляли здесь два денька, ну – и довольно; что с ними связываться! плюньте на них! неровен час: какой-нибудь другой наедет», и обольщает его тройкою лихих лошадей с колокольчиком. Эта приманка, равно как и мимоходом сказанное предостережение, что «батюшка будет гневаться за то, что так замешкались», и решила Хлестакова последовать благоразумному совету. Следует сцена с купцами, в которой вы видите как на ладони это купечество уездного городка, которое выучилось кое-как зашибать деньгу, а еще не обрилось и не умылось, чтобы от его бородки не пахло капустою; которое плохо знает грамотку и живет на «авось», то есть где выторговал, а где надул, и с которым, по всему этому, городничий обходится без чинов. «Схватит за бороду, говорит, ах ты татарин»; которое, наконец, любит коли давать, так давать – возьми и подносик, и головку сахара, и кулечек с винами, и не триста, – что триста! – пятьсот, только дело сделай. Язык неподражаемо верен. Хлестаков опять не изменяет себе – берет взаймы, о взятках слышать не хочет и если где приходит в маленькое недоумение, там толкает его Осип и заставляет не быть без действия. Но вот входит Марья Антоновна: она в комнате чужого молодого человека ищет маменьки… Ее приход толкает Хлестакова, то есть заставляет делать то, чего он не думал делать. Он франт, она «барышня»: следовательно, ему должно волочиться за нею. Что из этого выйдет – такая мысль не может прийти в его пустую и легкую голову, которая действует под влиянием внешнего обстоятельства, под впечатлением настоящей минуты. «Барышня» глупа, пуста и пошла, но она уже прочла несколько романов, и у ней есть альбом, в который Хлестаков должен написать какие-нибудь этакие новенькие «стишки». О, ему это ничего не стоит – он много знает наизусть стихов; например: «О ты, что в горести напрасно», и проч. И вот он на коленях перед нею. Уйди она – он через минуту забыл бы об этой сцене, как совсем небывалой; но входит мать и толкает его «просить руки» Марьи Антоновны. Он уезжает в полной уверенности, что он жених и что все сделалось как должно; но извозчик крикнул, колокольчик залился – и Хлестаков готов спросить себя: «На чем, бишь, я остановился?»
Первые сцены пятого акта представляют нам городничего в полноте его грубого блаженства животной натуры. Здесь поэт является глубоким анатомиком души человеческой, проникает в самые недоступные тайники ее и выводит наружу все крывшееся в них. В самом деле, в пятом акте городничий является в своем апотеозе, полным определением своей сущности, вполне определившеюся возможностию: все темное, грозное, низкое и грубое, что крылось в его природе, развивалось воспитанием и обстоятельствами, все это всплыло со дна наверх, изнутри явилось наружу, и явилось так добродушно, так комически, что вы невольно смеетесь там, где бы должны были ужасаться. «Что, – говорит он жене, – тебе и во сне не виделось: просто из какой-нибудь городничихи и вдруг, фу ты канальство! С каким дьяволом породнились!» – «Какие мы с тобою теперь птицы сделались! А, Анна Андреевна! высокого полета, черт побери!» Из труса он делается нахалом, мещанином, который вдруг попал в знатные люди; страх Сибири прошел – он уже не обещает богу пудовой свечи и грозится еще жить и обирать купцов; велит кричать о своем счастии всему городу, «валять в колокола; коли торжество, так торжество, черт возьми!» Его дочь выходит замуж за такого человека, «что и на свете еще не было, что может и прогнать всех в городе, и в тюрьму посадить, и все, что хочет». Боже мой! к лицу ли ему генеральство! А он в неистовом восторге, в бешеной комической страсти от мысли, что будет генералом… «Ведь почему хочется быть генералом? потому что, случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанты поскачут везде вперед: лошадей! и там на станциях никому не дадут, все дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь: обедаешь где-нибудь у губернатора, а там: стой, городничий! Ха-ха-ха! Вот что, канальство, заманчиво!»
Так проявляются грубые страсти животной натуры! Это страсть – и страсть бешеная: у нашего городничего сверкают глаза, в голосе тон исступления, движения порывисты. Если не верите – посмотрите на Щепкина в этой роли. В комедии есть свои страсти, источник которых смешон, но результаты могут быть ужасны. По понятию нашего городничего, быть генералом значит видеть перед собою унижение и подлость от низших, гнести всех негенералов своим чванством и надменностию; отнять лошадей у человека нечиновного или меньшего чином, по своей подорожной имеющего равное на них право; говорить братец и ты тому, кто говорит ему ваше превосходительство и вы, и проч. Сделайся наш городничий генералом – и, когда он живет в уездном городе, горе маленькому человеку, если он, считая себя «не имеющим чести быть знакомым с г. генералом», не поклонится ему или на балу не уступит места, хотя бы этот маленький человек готовился быть великим человеком!.. тогда из комедии могла бы выйти трагедия для «маленького человека»…
Приход купцов усиливает волнение грубых страстей городничего: из животной радости он переходит в животную злобу. Сначала хочет говорить тихо, с сосредоточенной яростию и злобною ирониею; но животная натура не дает ему выдержать этой роли: власть над собою принадлежит только образованным людям; он постепенно приходит в большую и большую ярость и разражается ругательствами. Он пересчитывает Абдулину свои благодеяния, то есть напоминает случаи, где они вместе казну обкрадывали… Купцы являются теми же купцами: они низко кланяются, низко подличают. Великодушный городничий смягчается, но на условии, чтобы «засусленные бороды, аршинники, самоварники, протоканалии и архибестии» не думали «отбояриться от него каким-нибудь балычком или головою сахара», ибо-де «он выдает дочку свою не за какого-нибудь дворянина»…
Начинают собираться гости. Городничий снова в своем петушьем величии. Перед ним все подличают, как перед знатною особою; поздравляют вслух с «необыкновенным благополучием» и ругают вполголоса. Городничиха, как и с самого начала пятого акта, играет роль случайной дамы, которая, однако, нисколько не удивлена своим счастием, как по праву принадлежащим ее достоинствам и как давно привычным ей. Она показывает, что равнодушна к нему. Но устарелая кокетка берет верх над знатною дамою: она почти оспоривает жениха у своей дочери. Входит простодушный почтмейстер и пренаивно открывает всем глаза насчет мнимого ревизора, доказав очевидно, что он «и не уполномоченный и не особа». Сцена чтения письма Хлестакова – в высшей степени комическая. Но что же наш городничий? – Вы думаете, ему стыдно, мучительно стыдно видеть себя так жестоко одураченным собственною ошибкою, так тяжко наказанным за свои грехи? Как бы не так! Бездарность, посредственность или даже обыкновенный талант тотчас бы воспользовались случаем заставить городничего раскаяться и исправиться; но талант необыкновенный глубже понимает натуру вещей и творит не по своему произволу, а по закону разумной необходимости. Городничий пришел в бешенство, что допустил обмануть себя мальчишке, вертопраху, у которого молоко на губах не обсохло, он, который «тридцать лет жил на службе», которого «ни один купец, ни один подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал; пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду; трех губернаторов обманул!» – Вы думаете: ему совестно, мучительно совестно смотреть на тех людей, перед которыми он сейчас только так ломался, которые унижались и подличали перед его мнимою знатностию? Ничего не бывало! Когда дражайшая его половина обнаруживает всю свою глупость наивным вопросом: «Как же?.. ведь это не может быть… Он совсем ведь обручился с нашей Машенькой?» – он не только не старается замять позорного для них обоих объяснения, но еще с досадою на ее недогадливость очень ясно толкует ей, в чем дело: «А разве ты не видишь, что у него все это фу-фу? Пустейший человек, черт бы побрал его! Вот подлинно, если бог захочет наказать, так отнимет разум. Ну, что в нем было такого, чтоб можно было принять за важного человека иль вельможу? Пусть бы имел он что-нибудь внушающее уважение, а то черт знает что: дрянь, сосулька! Тоньше серной спички!» Засим обманутые чудаки бросаются с ругательствами на Петров Ивановичей, как первых вестовщиков о приезде ревизора. Брань сыплется на них градом; они сваливают вину друг на друга, как вдруг явление жандарма с известием о приезде истинного ревизора прерывает эту комическую сцену и, как гром, разразившийся у их ног, заставляет их окаменеть от ужаса и таким образом превосходно замыкает собою целость пьесы.
Все сказанное нами о «Ревизоре» отнюдь не есть разбор этого превосходного произведения искусства. Подробный разбор хода всей пьесы, характеров ее действующих лиц, их взаимные отношения и их взаимодействия друг на друга завели бы нас далеко и отвлекли бы от главного предмета – «Горе от ума», а наша статья и без того вышла слишком велика. Скрепя сердце и обуздывая руку, мы не показали подробно развития действия, а наскоро пробежали его, не останавливались на отдельных лицах, но, так сказать, зацеплялись за них. Наша цель была – намекнуть на то, чем должна быть комедия, художественно созданная. Для этого мы старались намекнуть на идею «Ревизора», а вследствие ее – не только на естественность, но и на необходимость ошибки городничего, принявшего Хлестакова за ревизора, ошибки, составляющей завязку, интригу и развязку комедии, а чрез все это указать по возможности на целость (Totalitat) пьесы, как особого, в самом себе замкнутого мира. Не нам судить, до какой степени выполнили мы все это; по крайней мере теперь читатели могут ясно видеть наши требования от искусства и наш критериум для суждения о комедии.
Русская комедия начиналась задолго еще до Фонвизина, но началась только с Фонвизина. Его «Недоросль» и «Бригадир» наделали страшного шума при своем появлении и навсегда останутся в истории русской литературы, если не искусства, как одно из примечательнейших явлений. В самом деле, эти две комедии суть произведения ума сильного, острого, человека даровитого; но они мастерские сатиры на современное общество, а следовательно, не художественные произведения, следовательно, и не комедии. Ни одна из них не представляет собою целого, замкнутого собою мира, возникшего из творческого зачатия, но представляет пресмешную карикатуру на глупость и невежество; в них нет основной идеи в философическом значении этого слова, но есть намерение, цель, и цель вне, а не внутри их заключенная. Поэтому каждая из них разделена на две части, на смешную и серьезную, потому что действующие лица разделены на два разряда: на дураков и умных. Дураки очень милы и потешны, а умники – скучные резонеры. Завязка, интрига и развязка – общее место, старая, обветшалая форма, как в комедиях Мольера. Правда, в изображении дураков видна некоторая объективность и что-то похожее на поэтическую обрисовку, потому что каждый из дураков глуп по-своему; но это слабо, и индивидуальные особности глупцов больше внешние, чем внутренние, из идеи вытекающие; а главное, из карикатурных образов этих дураков всегда более или менее выглядывает смеющаяся фигура самого автора. Одним словом, «Недоросль» и «Бригадир» – превосходные, хотя и не без больших недостатков, произведения литературы, но отнюдь не произведения искусства.
После комедий Фонвизина много наделала шума «Ябеда» Капниста; но это произведение даже и в литературном смысле не заслуживает никакого внимания. Успех его был основан не на его литературном или каком-либо достоинстве, но на цели, которая состояла в нападке на лихоимство. Завязка, интрига и развязка пошлые, стихи дубовые, язык варварски книжный.
С 1823 года начала ходить по рукам публики рукописная комедия Грибоедова «Горе от ума». Она наделала ужасного шума, всех удивила, возбудила негодование и ненависть во всех, занимавшихся литературою ex officio[10 - По обязанности (лат.).], и во всем старом поколении; только немногие, из молодого поколения и не принадлежавшие к записным литераторам и ни к какой литературной партии, были восхищены ею. Десять лет ходила она по рукам, распавшись на тысячи списков: публика выучила ее наизусть, враги ее уже потеряли голос и значение, уничтоженные потоком новых мнений, и она явилась в печати тогда уже, когда у ней не осталось ни одного врага, когда не восхищаться ею, не превозносить ее до небес, не признавать гениальным произведением считалось образцовым безвкусием. И вдруг в одном петербургском журнале, в 1835 году, какой-то (говорили и печатали тогда, будто московский) критик объявил, что «Горе от ума» такое слабое произведение, что хуже даже «Недовольных»… Разумеется, публика приняла это за одну из тех милых шуточек, до которых так страстны иные журналы. Но вот недавно, по случаю выхода в свет второго издания «Горя от ума», в другом петербургском журнале (современном задним числом) объявлено, что «Горе от ума» должно стоять подле комедий Фонвизина и что те, которые, подобно издателю комедии Грибоедова (г. Ксенофонту Полевому), видят в ее авторе «человека с большим дарованием», только прячутся за его имя.
Такова судьба комедии Грибоедова. Но все это доказывает только, что «Горе от ума» есть явление необыкновенное, произведение таланта сильного, могучего, а вместе с тем, что для нее уже настало время оценки критической, основанной не на знакомстве с ее автором и даже не на знании обстоятельств его жизни, а на законах изящного, всегда единых и неизменяемых.
«Горе от ума» принято было с враждою и ожесточением и литераторами и публикою. Иначе не могло и быть: литературные знаменитости тогдашнего времени состояли из людей прошлого века или образованных по понятиям прошлого века. Не забудьте, что в то время сам Мерзляков, человек с большим талантом и поэтическою душою, разбирал с кафедры неподражаемые красоты трагедий Сумарокова и подсмеивался над Шекспиром, Шиллером и Гете, как над представителями эстетического безвкусия, а в Обществе любителей российской словесности читал свои трактаты о трагедии, производя ее от козла. Великими писателями считались тогда люди, которые теперь неизвестны даже по именам. Пушкин еще только удивлял одних и бесил других. Словом, это было последнее время французского классицизма в нашей литературе. Представьте же себе, что комедия Грибоедова, во-первых, была написана не шестиногими ямбами с пиитическими вольностями, а вольными стихами, как до того писались одни басни; во-вторых, она была написана не книжным языком, которым никто не говорил, которого не знал ни один народ в мире, а русские особенно слыхом не слыхали, видом не видали, но живым, легким разговорным русским языком; в-третьих, каждое слово комедии Грибоедова дышало комическою жизнию, поражало быстротою ума, оригинальностию оборотов, поэзиею образов, так что почти каждый стих в ней обратился в пословицу или поговорку и годится для применения то к тому, то к другому обстоятельству жизни, – а по мнению русских классиков, именно тем и отличавшихся от французских, язык комедии, если она хочет прослыть образцовою, непременно должен был щеголять тяжелостию, неповоротливостию, тупостию, изысканностию острот, прозаизмом выражений и тяжелою скукою впечатления; в-четвертых, комедия Грибоедова отвергла искусственную любовь, резонеров, разлучников и весь пошлый, истертый механизм старинной драмы; а главное и самое непростительное в ней было – талант, талант яркий, живой, свежий, сильный, могучий… Да, литераторам не могла понравиться комедия Грибоедова; они должны были ожесточиться против нее!.. За что же общество так сильно осердилось на нее? За то, что она была самою злою сатирою на это общество. Она заклеймила остатки XVIII века, дух которого бродил еще, как заколдованная тень, ожидая себе осинового кола, которым и было «Горе от ума». Новое поколение вскоре не замедлило объявить себя за блестящее произведение Грибоедова, потому что вместе с ним оно смеялось над старым поколением, видя в «Горе от ума» злую сатиру на него и не подозревая в нем еще злейшей, хотя и безумышленной сатиры на самого себя, в лице полоумного Чацкого…
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.
Но что он представляет собою, как не противоречие идеи с формою? Он враждует с человеческим обществом за его предрассудки, противные правам природы, за его стеснительные условия и между тем сам вносит эти предрассудки к бедным детям природы, эти стеснительные условия к полудиким детям вольности; однако ж из этого противоречия выходит не смех, а убийство и ужас трагический – торжество нравственного закона. Чацкий Грибоедова представляет собою то же противоречие идеи с формою: он хочет исправить общество от его глупостей, и чем же? своими собственными глупостями, рассуждая с глупцами и невеждами о «высоком и прекрасном», читая проповеди и диспутации на балах и всякого ругая, как вырвавшийся из сумасшедшего дома. И его противоречие смешно, потому что оно – буря в стакане воды, тогда как противоречие Алеко – страшная буря на океане. Герои трагедии – герои человечества, его могущественнейшие проявления; герои комедии – люди обыкновенные, хотя бы даже и умные и благородные. Мир трагедии – мир бесконечного в страстях и воле человека; мир комедии – мир ограниченности, конечности. Если в комедии между действующими лицами есть герой человечества, он играет в ней обыкновенную роль, так что в нем никто не видит, а разве только подозревает в возможности героя человечества. Но как скоро он является таким героем и осуществляет своею судьбою торжество нравственного закона, то хотя бы все остальные лица были дураки и смешили вас до слез своим противоречием с разумною действительностию – драматическое произведение уже не комедия, а трагедия.
Но есть еще нечто среднее между трагедиею и комедиею. Может быть такое произведение, которое, не представляя собою трагической коллизии как осуществления нравственного закона, тем не менее выражает собою положительную сторону бытия, явление разумной действительности, жизнь духа. Мы выше сказали, что на какой бы степени ни явился дух – его явление есть уже действительность в разумном и положительном смысле этого слова. Как две полярности одной и той же силы, как две противоположные крайности одной и той же идеи – идеи действительности, мы представили «Тараса Бульбу» и «Ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»; теперь мы должны для уяснения нашей мысли указать на третье произведение того же поэта – «Старосветские помещики». Вы смеетесь, читая изображение незатейливой жизни двух милых оригиналов, – жизни, которая протекает в ежеминутном «покушивании» разных разностей; вы смеетесь над этою простодушною любовию, скрепленною могуществом привычки и потом превратившеюся в привычку; но ваш смех весело добродушен, и в нем нет ничего досадного, оскорбительного; но вас поражает родственною горестью смерть доброй Пульхерии Ивановны, и вы после болезненно сочувствуете безотрадной горести старого младенца, апоплексически замершего душевно и телесно от утраты своей няньки, лелеявшей его бестребовательную жизнь и сделавшейся ему необходимою, как воздух для дыхания, как свет для очей, и вам, наконец, тяжело становится при виде ниспровержения домашних пенатов хлебосольной четы, которое произвел глупый племянник, приценявшийся на ярмарках к оптовым ценам, а покупавший только кремешки и огнивки. Отчего же так привязывают вас к себе эти люди, добродушные, но ограниченные, даже и не подозревающие, что может существовать сфера жизни, высшая той, в которой они живут и которая вся состоит в спанье или в потчеванье и кушании? Оттого, что это были люди, по своей натуре не способные ни к какому злу, до того добрые, что всякого готовы были угостить насмерть, люди, которые до того жили один в другом, что смерть одного была смертию для другого, смертию, в тысячу раз ужаснейшею, нежели прекращение бытия; следовательно, основою их отношений была любовь, из которой вышла привычка, укреплявшая любовь. Это любовь еще на слишком низкой ступени своего проявления, но вышедшая из общего, родового, вовеки не иссякающего источника любви. Это уже явление духа, хотя еще слабое и ограниченное, ступень духа, хотя еще и низшая; но уже явление не призрака, а духа, уже положение, а не отрицание жизни, – словом, своего рода разумная действительность. Мы жалеем, что не можем указать ни на одно произведение такого рода в драматической форме: оно было бы именно таким, которое не есть ни трагедия, ни комедия, но то среднее между ними, о котором мы говорим. Такого-то рода произведения назывались в старину «слезными комедиями» и «мещанскими трагедиями», а потом «драмами». Они обыкновенно заключали в себе трогательное и даже «бедственное» происшествие, «благополучно окончившееся». Плодовитая досужесть Коцебу в особенности снабжала XVIII век этими «драмами», которые были бы именно тем, о чем мы говорим, если б были художественны. И в самом деле, такие средние между трагедиею и комедиею «драмы», по своей сущности, удобнее к так называемой «благополучной развязке», хотя эта «счастливая развязка» и отнюдь не составляет ни их сущности, ни их необходимого условия. Мы выше сказали, что кровавая развязка не есть непременное условие даже самой трагедии; но трагедия необходимо требует жертв – кто бы они ни были, добрые или злые, и чрез что бы ими ни были, чрез смерть или утрату надежды на счастие жизни, – ибо только в борьбе может вполне и торжественно осуществиться торжество нравственного закона, которое есть высочайшее торжество духа и величайшее явление мировой жизни; почему и трагедия есть высшая сторона, цвет и торжество драматической поэзии. Из этого ясно видно, что «драма» может изображать явления разумной действительности на всех ее ступенях, а не только на первых, как в приведенных нами в пример «Старосветских помещиках». От комедии она существенно разнится тем, что представляет не отрицательную, а положительную сторону жизни; а от трагедии она существенно разнится тем, что, даже и выражая торжество нравственного закона, делает это не чрез трагическое столкновение, в самом себе неизбежно заключающее условие жертв, и, следовательно, лишена трагического величия и не досягает до высших мировых сфер духа. Мы думаем, что, вследствие такого умозрительного построения, можно причислить к «драмам», например, Шекспирова «Венецианского купца» и пушкинского «Анджело» и в «Кавказском пленнике» видеть, в эпическом роде, соответственное ей явление.
Итак, мы нашли три вида драматической поэзии – трагедию, драму и комедию, выводя их не по внешним признакам, а из идеи самой поэзии. Для большей определенности в этих технических словах мы должны сказать еще несколько слов о сбивчивом употреблении слова «драма». Словом «драма» выражают и общее родовое понятие произведений целого отдела поэзии, так что всякая пьеса в драматической форме, трагедия ли то, комедия или даже водевиль, есть уже драма; потом, под словом же «драма» разумеют высший род драматической поэзии – трагедию. Поэтому пьесы Шекспира называют то драмами, то трагедиями, но в обоих случаях означая этими словами высший драматический род, то, что немцы называют Trauerspiel[7 - Трагедия.]. Другие хотят их называть только «драмами», оставляя название «трагедии» за греческими произведениями этого рода и желая словом «драма» отличить христианскую трагедию, герой которой есть субъективная личность внутреннего и самоцельного человека, от языческой трагедии, герой которой – народ, в лице царей и героев, как представителей народа, как объективных личностей, и потом как трагедии в маске и на котурне, и с хором – органом таинственного и незримо присутствующего героя – колоссального призрака судьбы. Некоторые хотят присвоить название «трагедии» особенному роду произведений новейшего искусства, ведущего свое начало от «мистерий» средних веков, – драмам лирическим, каковы суть: «Фауст» Гете, герой которой есть целое человечество в лице одного человека, и «Орлеанская дева» Шиллера, герой которой есть целый народ, таинственно спасаемый высшими силами в лице чудной девы, которой имя и явление необъяснимо утверждено историей. Нам кажется, что каждое из этих мнений имеет свое основание, и наша цель была не указать на справедливейшее, но дать знать о существовании всех. Кто поймет идею этих мнений, для того не будет казаться сбивчивым различное употребление слова «драма».
Трагедия или комедия, как и всякое художественное произведение, должна представлять собою особый, замкнутый в самом себе мир, то есть должна иметь единство действия, выходящее не из внешней формы, но из идеи, лежащей в ее основании. Она не допускает в себя ни чуждых своей идее элементов, ни внешних толчков, которые бы помогали ходу действия, но развивается имманентно, то есть изнутри самой себя, как дерево развивается из зерна. Поэтому всякая пьеса в драматической форме, вполне выражающая и вполне исчерпывающая свою идею, целая и оконченная в художественном значении, то есть представляющая собою отдельный и замкнутый в самом себе мир, есть или трагедия, или комедия, смотря по сущности ее содержания, но нисколько не смотря на ее объем и величину, хотя бы она простиралась не далее пяти страниц. Так, например, пьесы Пушкина «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Русалка», «Борис Годунов» и «Каменный гость» – суть трагедии во всем смысле этого слова, как выражающие, в драматической форме, идею торжества нравственного закона и представляющие, каждая в отдельности, совершенно особый и замкнутый в самом себе мир.
Теперь посмотрим, каким образом комедия может представлять собою особый, замкнутый в самом себе мир, для чего бросим беглый взгляд на высокохудожественное произведение в этом роде – на комедию Гоголя «Ревизор».
В основании «Ревизора» лежит та же идея, что и в «Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»: в том и в другом произведении поэт выразил идею отрицания жизни, идею призрачности, получившую под его художническим резцом свою объективную действительность. Разница между ими не в основной идее, а в моментах жизни, схваченных поэтом, в индивидуальностях и положениях действующих лиц. Во втором произведении мы видим пустоту, лишенную всякой деятельности; в «Ревизоре» пустоту, наполненную деятельностию мелких страстей и мелкого эгоизма. Чтобы произведения его были художественны, то есть представляли собою особый, замкнутый в самом себе мир, он взял из жизни своих героев такой момент, в котором сосредоточивалась вся целостность их жизни, ее значения, сущность, идея, начало и конец: в первом – ссору двух приятелей, во втором – ожидание и прием ревизора. Все чуждое этой ссоре и этому ожиданию и приему ревизора не могло войти в повесть и комедию, и та и другая начаты с начала и кончены в конце: нам не нужно знать подробности детства обоих друзей-врагов, ни того, что было с ними после, как их видел поэт: мы знаем это из повести, потому что знаем этих героев с головы до ног, знаем всю сущность их жизни, вполне исчерпанную поэтом в описании их ссоры. Так точно, на что нам знать подробности жизни городничего до начала комедии? Ясно и без того, что он в детстве был учен на медные деньги, играл в бабки, бегал по улицам, и как стал входить в разум, то получил от отца уроки в житейской мудрости, то есть в искусстве нагревать руки и хоронить концы в воду. Лишенный в юности всякого религиозного, нравственного и общественного образования, он получил в наследство от отца и от окружающего его мира следующее правило веры и жизни: в жизни надо быть счастливым, а для этого нужны деньги и чины, а для приобретения их взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье перед властями, знатностью и богатством, ломанье и скотская грубость перед низшими себя. Простая философия! Но заметьте, что в нем это не разврат, а его нравственное развитие, его высшее понятие о своих объективных обязанностях: он муж, следовательно, обязан прилично содержать жену; он отец, следовательно, должен дать хорошее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партию и, тем устроив ее благосостояние, выполнить священный долг отца. Он знает, что средства его для достижения этой цели грешны перед богом, но он знает это отвлеченно, головою, а не сердцем, и он оправдывает себя простым правилом всех пошлых людей: «Не я первый, не я последний, все так делают». Это практическое правило жизни так глубоко вкоренено в нем, что обратилось в правило нравственности; он почел бы себя выскочкою, самолюбивым гордецом, если бы, хоть позабывшись, повел себя честно в продолжение недели. Да оно и страшно быть «выскочкою»: все пальцы уставятся на вас, все голоса подымутся против вас; нужна большая сила души и глубокие корни нравственности, чтоб бороться с общественным мнением. И не Сквозники-Дмухановские увлекаются могучим водоворотом этой магической фразы – «все так делают» – и, как Молоху, приносят ей в жертву и таланты, и силы души, и внешнее благосостояние. Наш городничий был не из бойких от природы, и потому «все так делают» было слишком достаточным аргументом для успокоения его мозолистой совести; к этому аргументу присоединился другой, еще сильнейший для грубой и низкой души: «Жена, дети, казенного жалованья не стаёт на чай и сахар». Вот вам и весь Сквозник-Дмухановский до начала комедии. Что касается до форм, в каких он выражался и проявлялся до того, они все те же, все его же, как и во время комедии. Так же нетрудно понять, что с ним было и по окончании комедии, как он дожил свой век. Художественная обрисовка характера в том и состоит, что если он дан вам поэтом в известный момент своей жизни, вы уже сами можете рассказать всю его жизнь и до и после этого момента. Конец «Ревизора» сделан поэтом опять не произвольно, но вследствие самой разумной необходимости: он хотел показать нам Сквозник-Дмухановского всего, как он есть, и мы видели его всего, как он есть. Но тут скрывается еще другая, не менее важная и глубокая причина, выходящая из сущности пьесы. В комедии, как выражении случайностей, все должно выходить из идеи случайностей и призраков и только чрез это получать свою необходимость: почтенный наш городничий жил и вращался в мире призраков, но как у него необходимо были свои понятия о действительности, хотя и отвлеченные, и сверх того самый основательный страх действительности, известной под именем уголовного суда, то и должно было выйти комическое столкновение, как сшибка естественного влечения сердца к воровству и плутням с страхом наказания за воровство и плутни, страхом, который увеличивался еще и некоторым беспокойством совести. «У страха глаза велики», – говорит мудрая русская пословица: удивительно ли, что глупый мальчишка, промотавшийся в дороге трактирный денди, был принят городничим за ревизора? Глубокая идея! Не грозная действительность, а призрак, фантом или, лучше сказать, тень от страха виновной совести должны были наказать человека призраков. Городничий Гоголя – не карикатура, не комический фарс, не преувеличенная действительность и в то же время нисколько не дурак, но, по-своему, очень и очень умный человек, который в своей сфере очень действителен, умеет ловко взяться за дело – своровать и концы в воду схоронить, подсунуть взятку и задобрить опасного ему человека. Его приступы к Хлестакову, во втором акте, – образец подьяческой дипломатии. Итак, конец комедии должен совершиться там, где городничий узнает, что он был наказан призраком и что ему еще предстоит наказание со стороны действительности или по крайней мере новые хлопоты и убытки, чтобы увернуться от наказания со стороны действительности. И потому приход жандарма с известием о приезде истинного ревизора прекрасно оканчивает пьесу и сообщает ей всю полноту и всю самостоятельность особого, замкнутого в самом себе мира. В художественном произведении нет ничего произвольного и случайного, но все необходимо и логически вытекает из его идеи. Каждое лицо в нем, способствуя развитию главной идеи, в то же время есть и само себе цель, живет своею особною жизнию. Далее мы из «Ревизора» разовьем подробно эту идею, а пока заметим мимоходом, что вследствие этого взгляда на искусство Мольер – такой же художник, как Гомеров Тирсис-красавец, и так же похож на Шекспира, как титулярный советник Поприщин на Фердинанда VIII, короля испанского. Конечно, французы правы, что ставят Мольера выше Корнеля и Расина: он действительно был человек с большим талантом, с неистощимою живостию и остротою французского ума; он истощил все богатство разговорного французского языка, воспользовался всею его грациозною игривостию для выражения смешных противоречий; он подметил и верно схватил многие черты своего времени. Но он велик в частностях, а не в целом; но его действующие лица – не действительные существа, а карикатуры, так же как его произведения – сатиры, а не комедии, так же как сам он поэт местами, а не художник, который потому художник, что творит целое, стройное здание, выросшее из одной идеи. Например, в его «Скупом» Гарпагон, конечно, хорош, как мастерски написанная карикатура, но все другие лица – резонеры, ходячие сентенции о том, что скупость есть порок; ни одно из них не живет своею жизнию и для самого себя, но все придуманы, чтобы лучше оттенить собою героя quasi-комедии. То же и в «Тартюфе»: все лица присочинены для главного, и сам Тартюф так нехитер, что мог обмануть только одного человека, и то потому, что это один – пошлый дурак. Завязка и развязка мнимых комедий Мольера никогда не выходит из основной идеи и взаимных отношений действующих лиц, но всегда придумывается как рама для картины, не создается как необходимая форма. Это оттого, что у него никогда не было идеи и поэзия для него никогда не была сама себе цель, но средство исправлять общество осмеянием пороков. Какой это художник!..
Многие находят страшною натяжкою и фарсом ошибку городничего, принявшего Хлестакова за ревизора, тем более что городничий – человек, по-своему, очень умный, то есть плут первого разряда. Странное мнение или, лучше сказать, странная слепота, не допускающая видеть очевидность! Причина этого заключается в том, что у каждого человека есть два зрения – физическое, которому доступна только внешняя очевидность, и духовное, проникающее внутреннюю очевидность как необходимость, вытекающую из сущности идеи. Вот когда у человека есть только физическое зрение, а он смотрит им на внутреннюю очевидность, то и естественно, что ошибка городничего ему кажется натяжкою и фарсом. Представьте себе воришку-чиновника, такого, каким вы знаете почтенного Сквозника-Дмухановского: ему виделись во сне две какие-то необыкновенные крысы, каких он никогда не видывал, – черные, неестественной величины – пришли, понюхали и пошли прочь. Важность этого сна для последующих событий была уже кем-то очень верно замечена[8 - Смотри «Литературные прибавления к „Инвалиду“», 1839, № 3, т. II. (Прим. В. Г. Белинского.)] В самом деле, обратите на него все ваше внимание: им открывается цепь призраков, составляющих действительность комедии. Для человека с таким образованием, как наш городничий, сны – мистическая сторона жизни, и чем они несвязнее и бессмысленнее, тем для него имеют большее и таинственнейшее значение. Если бы, после этого сна, ничего важного не случилось, он мог бы и забыть его; но, как нарочно, на другой день он получает от приятеля уведомление, что «отправился инкогнито из Петербурга чиновник с секретным предписанием обревизовать в губернии все относящееся по части гражданского управления». Сон в руку! Суеверие еще более запугивает и без того запуганную совесть; совесть усиливает суеверие. Обратите особенное внимание на слова «инкогнито» и «с секретным предписанием». Петербург есть таинственная страна для нашего городничего, мир фантастический, которого форм он не может и не умеет себе представить. Нововведения в юридической сфере, грозящие уголовным судом и ссылкою за взяточничество и казнокрадство, еще более усугубляют для него фантастическую сторону Петербурга. Он уже допытывается у своего воображения, как приедет ревизор, чем он прикинется и какие пули будет он отливать, чтобы разведать правду. Следуют толки у честной компании об этом предмете. Судья-собачник, который берет взятки борзыми щенками и потому не боится суда, который на своем веку прочел пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен, находит причину присылки ревизора, достойную своего глубокомыслия и начитанности, говоря, что «Россия хочет вести войну, и потому министерия нарочно отправляет чиновника, чтоб узнать, нет ли где измены». Городничий понял нелепость этого предположения и отвечает: «Где нашему уездному городишке? Если б он был пограничным, еще бы как-нибудь возможно предположить, а то стоит черт знает где – в глуши… Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Засим он дает совет своим сослуживцам быть поосторожнее и быть готовыми к приезду ревизора; вооружается против мысли о грешках, то есть взятках, говоря, что «нет человека, который бы не имел за собою каких-нибудь грехов», что «это уже так самим богом устроено» и что «волтерианцы напрасно против этого говорят»; следует маленькая перебранка с судьею о значении взяток; продолжение советов; ропот против проклятого инкогнито. «Вдруг заглянет: а! вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья? – Тяпкин-Ляпкин. – А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто попечитель богоугодных заведений? – Земляника. – А подать сюда Землянику! Вот что худо!»… В самом деле, худо! Входит наивный почтмейстер, который любит распечатывать чужие письма в надежде найти в них «разные этакие пассажи… назидательные даже… лучше, нежели в «Московских ведомостях»«. Городничий дает ему плутовские советы «немножко распечатывать и прочитывать всякое письмо, чтобы узнать – не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки». Какая глубина в изображении! Вы думаете, что фраза «или просто переписки» бессмыслица или фарс со стороны поэта: нет, это неумение городничего выражаться, как скоро он хоть немного выходит из родных сфер своей жизни. И таков язык всех действующих лиц в комедии! Наивный почтмейстер, не понимая, в чем дело, говорит, что он и так это делает. «Я рад, что вы это делаете, – отвечает плут-городничий простяку-почтмейстеру, – это в жизни хорошо» и, видя, что с ним обиняками немного возьмешь, напрямки просит его – всякое известие доставлять к нему, а жалобу или донесение просто задерживать. Судья потчует его собачонкою, но он отвечает, что ему теперь не до собак и зайцев: «У меня в ушах только и слышно, что инкогнито проклятое; так и ожидаешь, что вдруг отворятся двери и войдет…»
И в самом деле, двери отворяются с шумом, и вбегают Петры Ивановичи Бобчинский и Добчинский. Это городские шуты, уездные сплетники; их все знают как дураков и обходятся с ними или с видом презрения, или с видом покровительства. Они бессознательно это чувствуют и потому изо всей мочи перед всеми подличают и, чтобы только их терпели, как собак и кошек в комнате, всем подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уездных городков. Вообще с ними обращаются без чинов, как с собаками и кошками: надоедят – выгоняют. Их дни проходят в шатанье и собирании новостей и сплетней. Обогатясь подобною находкой, они вдруг вырастают сознанием своей важности и уже бегут к знакомым смело, в уверенности хорошего приема. «Чрезвычайное происшествие!» – кричит Бобчинский. «Неожиданное известие!» – восклицает Добчинский, вбегая в комнату городничего, где все настроены на один лад, а особливо сам городничий весь сосредоточен на idee fixe[9 - Навязчивой идее (франц.).]. «Что такое?» – «Приходим в гостиницу!», – восклицает Добчинский. «Приходим в гостиницу», – перебивает его Бобчинский. Начинается рассказ самый обстоятельный, самый подробный, от начала до конца: зачем пошли в гостиницу, где, как, когда, при каких обстоятельствах, – словом, по всем правилам топиков или общих мест старинных риторик. Чудаки перебивают друг друга; каждому хочется насладиться своею важностию, быть центром общего внимания, а вместе и занять себя, наполнить свою пустоту пустым содержанием. Забавнее всего то, что им самим хочется как можно скорее добраться до эффектного конца, а между тем и хочется продолжить свое торжество и рассказать все сначала и подробнее. Бобчинский овладевает рассказом, говоря, что у Добчинского «и зуб со свистом и слога такого нету», и Добчинскому осталось только помогать жестами рассказу счастливого Бобчинского, изредка обегать его некоторыми фразами, которые тот снова перехватывает и продолжает свой рассказ. Наконец дошли до «молодого человека недурной наружности, в партикулярном платье». Представьте себе, какое впечатление должен был произвести этот «молодой человек недурной наружности, в партикулярном платье» на воображение городничего, уже и без того настроенное ожиданием проклятого «инкогнито»! И вот, наконец, Бобчинский передает донесение трактирщика Власа: «Молодой человек, чиновник, едущий из Петербурга – Иван Александрович Хлестаков, а едет в Саратовскую губернию, и что чрезвычайно странно себя аттестует: больше полуторы недели живет, дальше не едет, забирает все на счет и денег хоть бы копейку заплатил». Следует остроумная сметка проницательного Бобчинского: «С какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит бог знает куда – в Саратовскую губернию? Это, верно, не кто другой, как самый тот чиновник». Не естествен ли после этого ужас городничего?
Городничий. Что вы говорите? не может быть! Да нет, это вам так показалось. Это кто-нибудь другой.
Бобчинский. Помилуйте, как не он! И денег не платит, и не едет – кому же быть, как не ему? И с какой стати жил бы он здесь, когда ему прописана подорожная в Саратов?
Понимаете ли вы хотя в возможности эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? на каких законах разума основаны они? Вот он – вот источник комического и смешного! Видите ли вы, какая драма, какое столкновение противоположных интересов, проистекающих из характеров действующих лиц и их взаимных отношений, выразилось в этих двух монологах! Городничий уже верит страшному известию, и как утопающий хватается за соломинку, так он пустым вопросом хочет как бы отдалить на время сознание горькой истины, чтобы дать себе время опомниться; Бобчинский, напротив, всеми силами старается поддержать и в других и в самом себе уверенность в справедливости известия, которое вдруг придало ему такую важность. Да, в этой комедии нет ни одного слова, строгой и непреложной необходимости которого нельзя б было доказать из самой сущности идеи и действительности характеров. Но вот Бобчинский по тем же причинам, как и его достойный друг, и с такою же основательностию и очевидностию подает голос о несомненности факта:
Он, он!.. ей-богу, он!.. Я ставлю бог знает что… Такой наблюдательный: все обсмотрел и по углам везде, и даже заглянул в тарелки наши полюбопытствовать, что едим. Такой осмотрительный, что боже сохрани…
После такого довода нет больше сомнения! Такой наблюдательный, что даже в тарелки заглядывал! Боже мой, да если бы в эту минуту бедному городничему сказали о наблюдательности его кучера, он принял бы его за ревизора, отличительным признаком которого, в его испуганном воображении, непременно должна быть наблюдательность…
Видите ли, с каким искусством поэт умел завязать эту драматическую интригу в душе человека, с какою поразительною очевидностию умел он представить необходимость ошибки городничего? Если и теперь не видите – перечтите комедию или, что еще лучше, – посмотрите ее на сцене; если и тут не увидите – так это уже вина вашего зрения, а мы не берем на себя трудной обязанности научить слепого безошибочно судить о цветах. Если нужны еще доказательства, не из сущности идеи произведения почерпнутые, а внешние, практические, рассудочные и резонерские, без которых многие люди ничего не понимают, заметим им, что подобные случаи часто бывают в жизни: сосредоточьтесь на идее, от которой зависит ваша участь, – вы начнете говорить о ней с первым встречным на улице, приняв его за своего приятеля, к которому вы шли говорить о ней. По крайней мере, это очень возможно.
Пропускаем остальную половину первого акта – отчаяние городничего при мысли, что ревизор в полторы недели мог узнать о невинно высеченной им унтер-офицерской жене, о покраже у арестантов провизии, о нечистоте на улицах; его радость при мысли, что ревизор – молодой человек; его распоряжения; сцену с квартальными; просьбу Добчинского взять его с собою или хоть позволить «бежать за дрожками петушком, петушком», чтобы только посмотреть в щелочку, «так, знаете, из дверей только увидеть, как там он… больше сущность и поступки его, а я ничего»; замечание городничего квартальному, что он «не по чину берет»; сцену с частным приставом, донесшим о квартальном Держиморде, который поехал по случаю драки, для порядка, и воротился пьян; дальнейшие распоряжения городничего; его животные переходы от раскаяния к ругательствам на купцов, не догадавшихся подарить ему новой шпаги, хотя и видели, что старая уже не годится; его обещание поставить такую свечу, какой никто еще не ставил, и угрозу «на каждого бестию-купца наложить по три пуда воска», когда беда минет; сцену Анны Андреевны, расспрашивающей мужа за дверью о том, с усами ли ревизор и с какими усами; брань ее на дочь, которая своею кокетливостию при туалете лишила ее возможности поскорее разузнать о ревизоре; эту пикировку с дочерью, в которой поблеклая кокетка уездного города представляется как бы видящею в молодой дочери свою соперницу; скажем коротко, что во всем этом, как и в предшествовавшем, поэт остался верен своей идее, не изменил ей ни словом, ни чертою; что все это больше, нежели портрет или зеркало действительности, но более походит на действительность, нежели действительность походит сама на себя, ибо все это – художественная действительность, замыкающая в себе все частные явления подобной действительности…
Перед вами Осип – герой лакейской природы, представитель целого рода бесчисленных явлений, из которых он ни на одно не похож, как две капли воды, но из которых каждое похоже на него, как две капли воды. В своем большом монологе, где, между прочим, читает он нравоучение самому себе для своего барина, он высказывает всего себя, свои отношения к барину и, наконец, самого барина. Вы видите деревенского слугу, который пожил в Петербурге, постиг достоинство столичной жизни и галантерейного обращения, но, по пословице, «сколько волка ни корми, он все в лес глядит», предпочитает мирную деревенскую жизнь треволнениям столицы, в которой худо без денег, иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голода. В истинно художественном произведении всегда видно, как взаимные отношения персонажей действуют на самый их характер, и потому вам тотчас станет ясно, что Осип грубиян столько же по натуре, сколько и по презрению к своему барину, которого глупость он понимает по-своему. Этот барин «один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими». Он франт и щеголь, потому что дурак и столичный житель: глупцы скорее всего перенимают внешние стороны высшей их жизни. Отец содержит его прилично, но он мотает батюшкины денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому тщеславию, а потом спускает платье на рынке, до новой присылки денег. «Он действует и говорит без всякого соображения; не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли; речь его отрывиста, и слова вылетают совершенно неожиданно». Он слышал, что есть на свете вещь, которая называется литературою, и в его пустой голове в беспорядке улеглись имена сочинений и названия журналов и сочинителей: Брамбеус и Смирдин, «Библиотека для чтения» и «Сумбека», «Юрий Милославский» и «Фенелла». Он денди не по одному модному платью, но и по манерам, денди трактирный, одна из тех фигур, которые красуются на вывесках московских трактиров, цирюлен и портных. В Пензе его обыграл начистую пехотный капитан; он за это досадует на случай и несчастие, но не на капитана, к которому он благоговеет, как дилетант к художнику, потому что, «что ни говори, а удивительно бестия штосы срезывает: всего каких-нибудь четверть часа посидел и все обобрал – славно играет!» Великое достоинство в его глазах!
Посмотрите, как робко и какими косвенными вопросами хочет он узнать от Осипа, есть ли у них табак: о, он боится его нравоучений и его грубости! Посмотрите, как он подличает перед трактирным прислужником, справляясь о его здоровье и о числе приезжающих в их трактир, и как ласково просит его поторопиться принести ему обедать! Какая сцена, какие положения, какой язык!
Хлестаков. А соуса почему нет?
Слуга. Соуса нет.
Хлестаков. Отчего же нет! я видел сам, проходя мимо кухни, как готовилась рыба и котлеты.
Слуга. Да это, может быть, для тех, которые почище-с.
Хлестаков. Ах ты, дурак!
Слуга. Да-с.
Хлестаков. Поросенок ты скверный!.. Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт меня возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?
Слуга. Да уж известно, что не такие.
Хлестаков. Какие же?
Слуга. Обнаковенно какие! они уж известно: они деньги платят.
Где подсмотрел, где подслушал поэт эти сцены и этот язык? И почему только один он так подсмотрел и так подслушал? Может быть, потому, что он подсматривал и подслушивал, как и все, то есть не подсматривая и не подслушивая, да в фантазии-то его это отразилось не так, как у всех. А ведь и эти все – тоже поэты и художники и как блины пекут и трагедии, и драмы, и оперы, и комедии, и водевили…
Входит Осип и говорит барину, что «там чего-то приехал городничий, осведомляется и спрашивает о вас»: новое комическое столкновение! У Хлестакова воображение настроено на мысли о жалобах трактирщика, о тюрьме… Он испугался тюрьмы, но утешился мыслию, что если поведут его туда благородным образом, то ничего; но мысль о двух купеческих дочерях и офицерах, которых он видел на улице, снова приводит его в отчаяние… Можете представить, в какой настроенности его воображения входит к нему городничий… В высшей степени комическое положение!.. Но мы пропускаем эту превосходную сцену – она говорит сама за себя, а для кого она нема, тем не много помогут наши толкования. Скажем только, что в этой сцене городничий является во всем своем блеске: с одной стороны, как чуждый фантастическому для него понятию петербургского чиновника и весь сосредоточенный на мысли о «проклятом инкогнито», он все глупости Хлестакова принимает за тонкие штуки, а с другой, преловко и прехитро выкидывает свои тонкие штуки и улаживает дело.
Третье действие, а Анна Андреевна все еще у окна с своею дочерью – в высшей степени комическая черта! Тут не одно праздное любопытство пустой женщины: ревизор молод, а она кокетка, если не больше… Дочь говорит, что кто-то идет – мать сердится: «Где идет? у тебя вечно какие-нибудь фантазии; ну да, идет». Потом вопрос, кто идет: дочь говорит, что это Добчинский – мать опять не соглашается и опять упрекает дочь ни в чем: «Какой Добчинский? тебе всегда вдруг вообразится этакое! совсем не Добчинский. Эй, вы, ступайте сюда! скорее!» Наконец обе разглядывают; дочь говорит: «А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский!» Мать отвечает: «Ну да, Добчинский, теперь я вижу – из чего же ты споришь?» Можно ли лучше поддержать достоинство матери, как не быть всегда правою перед дочерью и не делая всегда дочь виноватою перед собою? Какая сложность элементов выражена в этой сцене: уездная барыня, устарелая кокетка, смешная мать! Сколько оттенков в каждом ее слове, как значительно, необходимо каждое ее слово! Вот что значит проникать в таинственную глубину организации предмета и во внешность выводить то, что кроется в самых недоступных для зрения тканях и нервах внутренней организации! Поэт заставляет насквозь видеть эти характеры и внутри находить причины всего внешнего, являющегося. Сцена Анны Андреевны с Добчинским: та и другой являются тут во всей своей прозрачности. Она спрашивает его, тот ли это ревизор, о котором уведомляли ее мужа: «Настоящий; я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем». Потом он пересказывает свидание городничего с Хлестаковым так, как оно отразилось в его понятии и как должно было отразиться в понятии городничего, и заключает, что он тоже «перетрухнул немножко». «Да вам-то чего бояться – ведь вы не служите?» – спрашивает она его. «Да так, знаете, когда вельможа говорит, то чувствуешь страх», – отвечает простак. На вопрос городничихи о наружности ревизора он его описывает так, как он отразился в его узкой голове: «Молодой, молодой человек: лет двадцати трех; а говорит совершенно как старик. Извольте, говорит, я поеду: и туда и туда… (размахивает руками) так, это все славно». Видите ли в этих бессмысленных словах немножко идиотское неумение отдать себе отчет в собственном впечатлении и выразить его словом? Далее: «Я, говорит, и написать и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно». Видите ли из этого, что чем Хлестаков был пошлее, бессвязнее в своих фразах, трактирнее в своих манерах, тем большее придавал он себе значение не только в глазах Добчинского, но и самого городничего? Есть люди, которые почитают в книгах глубоким и мудрым все, чего они не понимают: приведите к ним какого-нибудь глупца или ловкого мистификатора, как автора этой умной книжки, чем нелепее он будет выражаться, тем больше они будут ему удивляться. Для городничего ревизор был слишком премудрою книгою, потому уже только, что он ревизор, – с этой точки зрения его трудно было сдвинуть, и потому все, что Хлестаков ни врал после к явной своей невыгоде, только еще более поддерживало городничего в его заблуждении, вместо того, чтобы вывести из него и открыть ему глаза.
Сцена матери и дочери, советующихся о туалете, чтобы их не осмеяла какая-нибудь «столичная штучка», и спор о палевом платье, которое, по мнению матери, к лицу ей, так как у ней самые темные глаза, потому что «она и гадает всегда на трефовую даму», и возражение дочери, что к ней не идет цветное платье, потому что она «больше червонная дама», – эта сцена и этот спор окончательно и резкими чертами обрисовывают сущность, характеры и взаимные отношения матери и дочери, так что последующее уже нисколько не удивляет в них вас, как не удивляет сумма четырех, вышедшая из умножения двух на два. Вот в этом-то состоит типизм изображения: поэт берет самые резкие, самые характеристические черты живописуемых им лиц, выпуская все случайные, которые не способствуют к оттенению их индивидуальности. Но он выбирает не по сортировке, не по соображению и сличению более годных с менее годными, он даже и не думает, не заботится об этом, но все это выходит у него само собою, потому что изображаемые им на бумаге лица прежде всего изобразились у него в фантазии, и изобразились во всей полноте своей и целости, со всеми родовыми приметами, от цвета волос до родимого пятнышка на лице, от звука голоса до покроя платья. Положить их на бумагу – для него уже акт второстепенный, почти механический труд. И посмотрите, как легко у него все выходит: в этой коротенькой, как бы слегка и небрежно наброшенной сцене вы видите прошедшее, настоящее и будущее, всю историю двух женщин, а между тем она вся состоит из спора о платье и вся как бы мимоходом и нечаянно вырвалась из-под пера поэта!..
Сцена явления Хлестакова в доме городничего в сопровождении свиты из городского чиновничества и самого Сквозника-Дмухановского; представление Анны Андреевны и Марьи Антоновны; любезничанье и вранье Хлестакова; – каждое слово, каждая черта во всем этом, общность и характер всего этого – торжество искусства, чудная картина, написанная великим мастером, никогда не жданное, никем не подозревавшееся изображение всеми виденного, всем знакомого и, несмотря на то, всех удивившего и поразившего своей новостию и небывалостию!.. Здесь характер Хлестакова – этого второго лица комедии – развертывается вполне, раскрывается до последней видимости своей микроскопической мелкости и гигантской пошлости. К сожалению, это лицо понято меньше прочих лиц и еще не нашло для себя достойного артиста на театрах обеих столиц. Многим характер Хлестакова кажется резок, утрирован, если можно так выразиться, его болтовня, напоминающая не любо, не слушай – врать не мешай, – изысканно-неправдоподобною. Но это потому, что всякий хочет видеть и, следовательно, видит в Хлестакове свое понятие о нем, а не то, которое существенно заключается в нем. Хлестаков является к городничему в дом после внезапной перемены его судьбы: не забудьте, что он готовился идти в тюрьму, а между тем нашел деньги, почет, угощение, что он после невольного и мучительного голода наелся досыта, отчего и без вина можно прийти в какое-то полупьяное расслабление, а он еще и подпил. Как и отчего произошла эта внезапная перемена в его положении, отчего перед ним стоят все навытяжку – ему до этого нет дела; чтобы понять это, надо подумать, а он не умеет думать, он влечется, куда и как толкают его обстоятельства. В его полупьяной голове, при обремененном желудке, все передвоилось, все перемесилось – и Смирдин с Брамбеусом, и «Библиотека» с «Сумбекою», и Маврушка с посланниками. Слова вылетают у него вдохновенно; оканчивая последнее слово фразы, он не помнит ее первого слова. Когда он говорил о своей значительности, о связях с посланниками, – он не знал, что он врет, и нисколько не думал обманывать: сказав первую фразу, он продолжал как бы против воли, как камень, толкнутый с горы, катится уже не посредством силы, а собственною тяжестию. «Меня даже хотели сделать вице-канцлером (зевает во всю глотку). О чем, бишь, я говорил?» Если бы ему сказали, что он говорил о том, как отец секал его розгами, он, наверное, уцепился бы за эту мысль и начал бы не говорить, а как будто продолжать, что это очень больно, что он всегда кричал, но что «при нынешнем образовании этим ничего не возьмешь».
Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно случайно, мимоходом, и притом не самим собою, а ревизором. Но кто его сделал ревизором? страх городничего, следовательно, он создание испуганного воображения городничего, призрак, тень его совести. Поэтому он является во втором действии и исчезает в четвертом, – и никому нет нужды знать, куда он поехал и что с ним стало: интерес зрителя сосредоточен на тех, которых страх создал этот фантом, а комедия была бы не кончена, если бы окончилась четвертым актом. Герой комедии – городничий, как представитель этого мира призраков.
В «Ревизоре» нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны, как необходимые части, художественно образующие собою единое целое, округленное внутренним содержанием, а не внешнею формою, и потому представляющее собою особный и замкнутый в самом себе мир. Скрепя сердце пропускаем VII, VIII, IX и Х явления третьего акта и остановимся только на оцепенении городничего, как бы кто ударил его обухом по голове: «так совсем ошеломило! страх такой напал: еще такого важного человека никогда не видал (задумывается); с министрами играет и во дворец ездит… так вот, право, чем больше думаешь… черт его знает, не знаешь, что и делается в голове, как будто стоишь на какой-нибудь колокольне или тебя хотят повесить». Это говорит уездный чиновник, служака, начавший службу по-старинному, что называлось «тянуть лямку»; а вот голос чиновницы нового времени, которая всегда образованнее своего мужа: «А я никакой совершенно не ощутила робости, я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет». Бесподобна и эта выходка философствующего городничего: «Чудно все завелось теперь на свете: народ все тоненький, поджаристый такой. Никак не узнаешь, что он важная особа». Это голос старого чиновника, врасплох застигнутого новым временем: он уже и прежде слышал, а теперь собственными глазами удостоверился, что нынче-де уже по голове, а не по брюху делаются важными особами.
В первых сценах четвертого акта Хлестаков беседует с самим собою и является все тем же, все самим же собою и не изменяет себе ни одним словом, ни одним движением. После дивных сцен с чиновниками города, у которых он набрал денег, он еще в первый раз догадывается, что его принимают не за то, что он есть, а за великого государственного человека. Причина этого явления и могущие выйти из него следствия не в силах остановить на себе его внимания. Это одна из тех голов, которые не в состоянии переварить самого простого понятия и глотают, не жевавши. Он очень рад, что его приняли за важную особу: «Я это люблю. Мне нравится, если меня почитают за важного человека. В моей физиономии точно есть что-то такое внушающее…» и не докончил, сколько потому, что это фраза слышанная, а не своя, столько и потому, что вдруг перепрыгнул к другому предмету: «Это с их стороны тоже благородная черта, что они готовы дать взаймы денег». Видите ли: его приняли за важную особу – оттого, что у него «в физиономии есть что-то внушающее»; это должная дань его личным достоинствам, а не другая, более важная для чиновников причина; что ему надавали денег, это не взятки, а заем, и он на ту минуту, как говорит, вполне убежден, что возвратит им свой долг. Но Осип умнее своего барина: он все понимает и ласково, тоже как будто мимоходом, советует ему уехать, говоря: «Погуляли здесь два денька, ну – и довольно; что с ними связываться! плюньте на них! неровен час: какой-нибудь другой наедет», и обольщает его тройкою лихих лошадей с колокольчиком. Эта приманка, равно как и мимоходом сказанное предостережение, что «батюшка будет гневаться за то, что так замешкались», и решила Хлестакова последовать благоразумному совету. Следует сцена с купцами, в которой вы видите как на ладони это купечество уездного городка, которое выучилось кое-как зашибать деньгу, а еще не обрилось и не умылось, чтобы от его бородки не пахло капустою; которое плохо знает грамотку и живет на «авось», то есть где выторговал, а где надул, и с которым, по всему этому, городничий обходится без чинов. «Схватит за бороду, говорит, ах ты татарин»; которое, наконец, любит коли давать, так давать – возьми и подносик, и головку сахара, и кулечек с винами, и не триста, – что триста! – пятьсот, только дело сделай. Язык неподражаемо верен. Хлестаков опять не изменяет себе – берет взаймы, о взятках слышать не хочет и если где приходит в маленькое недоумение, там толкает его Осип и заставляет не быть без действия. Но вот входит Марья Антоновна: она в комнате чужого молодого человека ищет маменьки… Ее приход толкает Хлестакова, то есть заставляет делать то, чего он не думал делать. Он франт, она «барышня»: следовательно, ему должно волочиться за нею. Что из этого выйдет – такая мысль не может прийти в его пустую и легкую голову, которая действует под влиянием внешнего обстоятельства, под впечатлением настоящей минуты. «Барышня» глупа, пуста и пошла, но она уже прочла несколько романов, и у ней есть альбом, в который Хлестаков должен написать какие-нибудь этакие новенькие «стишки». О, ему это ничего не стоит – он много знает наизусть стихов; например: «О ты, что в горести напрасно», и проч. И вот он на коленях перед нею. Уйди она – он через минуту забыл бы об этой сцене, как совсем небывалой; но входит мать и толкает его «просить руки» Марьи Антоновны. Он уезжает в полной уверенности, что он жених и что все сделалось как должно; но извозчик крикнул, колокольчик залился – и Хлестаков готов спросить себя: «На чем, бишь, я остановился?»
Первые сцены пятого акта представляют нам городничего в полноте его грубого блаженства животной натуры. Здесь поэт является глубоким анатомиком души человеческой, проникает в самые недоступные тайники ее и выводит наружу все крывшееся в них. В самом деле, в пятом акте городничий является в своем апотеозе, полным определением своей сущности, вполне определившеюся возможностию: все темное, грозное, низкое и грубое, что крылось в его природе, развивалось воспитанием и обстоятельствами, все это всплыло со дна наверх, изнутри явилось наружу, и явилось так добродушно, так комически, что вы невольно смеетесь там, где бы должны были ужасаться. «Что, – говорит он жене, – тебе и во сне не виделось: просто из какой-нибудь городничихи и вдруг, фу ты канальство! С каким дьяволом породнились!» – «Какие мы с тобою теперь птицы сделались! А, Анна Андреевна! высокого полета, черт побери!» Из труса он делается нахалом, мещанином, который вдруг попал в знатные люди; страх Сибири прошел – он уже не обещает богу пудовой свечи и грозится еще жить и обирать купцов; велит кричать о своем счастии всему городу, «валять в колокола; коли торжество, так торжество, черт возьми!» Его дочь выходит замуж за такого человека, «что и на свете еще не было, что может и прогнать всех в городе, и в тюрьму посадить, и все, что хочет». Боже мой! к лицу ли ему генеральство! А он в неистовом восторге, в бешеной комической страсти от мысли, что будет генералом… «Ведь почему хочется быть генералом? потому что, случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанты поскачут везде вперед: лошадей! и там на станциях никому не дадут, все дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь: обедаешь где-нибудь у губернатора, а там: стой, городничий! Ха-ха-ха! Вот что, канальство, заманчиво!»
Так проявляются грубые страсти животной натуры! Это страсть – и страсть бешеная: у нашего городничего сверкают глаза, в голосе тон исступления, движения порывисты. Если не верите – посмотрите на Щепкина в этой роли. В комедии есть свои страсти, источник которых смешон, но результаты могут быть ужасны. По понятию нашего городничего, быть генералом значит видеть перед собою унижение и подлость от низших, гнести всех негенералов своим чванством и надменностию; отнять лошадей у человека нечиновного или меньшего чином, по своей подорожной имеющего равное на них право; говорить братец и ты тому, кто говорит ему ваше превосходительство и вы, и проч. Сделайся наш городничий генералом – и, когда он живет в уездном городе, горе маленькому человеку, если он, считая себя «не имеющим чести быть знакомым с г. генералом», не поклонится ему или на балу не уступит места, хотя бы этот маленький человек готовился быть великим человеком!.. тогда из комедии могла бы выйти трагедия для «маленького человека»…
Приход купцов усиливает волнение грубых страстей городничего: из животной радости он переходит в животную злобу. Сначала хочет говорить тихо, с сосредоточенной яростию и злобною ирониею; но животная натура не дает ему выдержать этой роли: власть над собою принадлежит только образованным людям; он постепенно приходит в большую и большую ярость и разражается ругательствами. Он пересчитывает Абдулину свои благодеяния, то есть напоминает случаи, где они вместе казну обкрадывали… Купцы являются теми же купцами: они низко кланяются, низко подличают. Великодушный городничий смягчается, но на условии, чтобы «засусленные бороды, аршинники, самоварники, протоканалии и архибестии» не думали «отбояриться от него каким-нибудь балычком или головою сахара», ибо-де «он выдает дочку свою не за какого-нибудь дворянина»…
Начинают собираться гости. Городничий снова в своем петушьем величии. Перед ним все подличают, как перед знатною особою; поздравляют вслух с «необыкновенным благополучием» и ругают вполголоса. Городничиха, как и с самого начала пятого акта, играет роль случайной дамы, которая, однако, нисколько не удивлена своим счастием, как по праву принадлежащим ее достоинствам и как давно привычным ей. Она показывает, что равнодушна к нему. Но устарелая кокетка берет верх над знатною дамою: она почти оспоривает жениха у своей дочери. Входит простодушный почтмейстер и пренаивно открывает всем глаза насчет мнимого ревизора, доказав очевидно, что он «и не уполномоченный и не особа». Сцена чтения письма Хлестакова – в высшей степени комическая. Но что же наш городничий? – Вы думаете, ему стыдно, мучительно стыдно видеть себя так жестоко одураченным собственною ошибкою, так тяжко наказанным за свои грехи? Как бы не так! Бездарность, посредственность или даже обыкновенный талант тотчас бы воспользовались случаем заставить городничего раскаяться и исправиться; но талант необыкновенный глубже понимает натуру вещей и творит не по своему произволу, а по закону разумной необходимости. Городничий пришел в бешенство, что допустил обмануть себя мальчишке, вертопраху, у которого молоко на губах не обсохло, он, который «тридцать лет жил на службе», которого «ни один купец, ни один подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал; пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду; трех губернаторов обманул!» – Вы думаете: ему совестно, мучительно совестно смотреть на тех людей, перед которыми он сейчас только так ломался, которые унижались и подличали перед его мнимою знатностию? Ничего не бывало! Когда дражайшая его половина обнаруживает всю свою глупость наивным вопросом: «Как же?.. ведь это не может быть… Он совсем ведь обручился с нашей Машенькой?» – он не только не старается замять позорного для них обоих объяснения, но еще с досадою на ее недогадливость очень ясно толкует ей, в чем дело: «А разве ты не видишь, что у него все это фу-фу? Пустейший человек, черт бы побрал его! Вот подлинно, если бог захочет наказать, так отнимет разум. Ну, что в нем было такого, чтоб можно было принять за важного человека иль вельможу? Пусть бы имел он что-нибудь внушающее уважение, а то черт знает что: дрянь, сосулька! Тоньше серной спички!» Засим обманутые чудаки бросаются с ругательствами на Петров Ивановичей, как первых вестовщиков о приезде ревизора. Брань сыплется на них градом; они сваливают вину друг на друга, как вдруг явление жандарма с известием о приезде истинного ревизора прерывает эту комическую сцену и, как гром, разразившийся у их ног, заставляет их окаменеть от ужаса и таким образом превосходно замыкает собою целость пьесы.
Все сказанное нами о «Ревизоре» отнюдь не есть разбор этого превосходного произведения искусства. Подробный разбор хода всей пьесы, характеров ее действующих лиц, их взаимные отношения и их взаимодействия друг на друга завели бы нас далеко и отвлекли бы от главного предмета – «Горе от ума», а наша статья и без того вышла слишком велика. Скрепя сердце и обуздывая руку, мы не показали подробно развития действия, а наскоро пробежали его, не останавливались на отдельных лицах, но, так сказать, зацеплялись за них. Наша цель была – намекнуть на то, чем должна быть комедия, художественно созданная. Для этого мы старались намекнуть на идею «Ревизора», а вследствие ее – не только на естественность, но и на необходимость ошибки городничего, принявшего Хлестакова за ревизора, ошибки, составляющей завязку, интригу и развязку комедии, а чрез все это указать по возможности на целость (Totalitat) пьесы, как особого, в самом себе замкнутого мира. Не нам судить, до какой степени выполнили мы все это; по крайней мере теперь читатели могут ясно видеть наши требования от искусства и наш критериум для суждения о комедии.
Русская комедия начиналась задолго еще до Фонвизина, но началась только с Фонвизина. Его «Недоросль» и «Бригадир» наделали страшного шума при своем появлении и навсегда останутся в истории русской литературы, если не искусства, как одно из примечательнейших явлений. В самом деле, эти две комедии суть произведения ума сильного, острого, человека даровитого; но они мастерские сатиры на современное общество, а следовательно, не художественные произведения, следовательно, и не комедии. Ни одна из них не представляет собою целого, замкнутого собою мира, возникшего из творческого зачатия, но представляет пресмешную карикатуру на глупость и невежество; в них нет основной идеи в философическом значении этого слова, но есть намерение, цель, и цель вне, а не внутри их заключенная. Поэтому каждая из них разделена на две части, на смешную и серьезную, потому что действующие лица разделены на два разряда: на дураков и умных. Дураки очень милы и потешны, а умники – скучные резонеры. Завязка, интрига и развязка – общее место, старая, обветшалая форма, как в комедиях Мольера. Правда, в изображении дураков видна некоторая объективность и что-то похожее на поэтическую обрисовку, потому что каждый из дураков глуп по-своему; но это слабо, и индивидуальные особности глупцов больше внешние, чем внутренние, из идеи вытекающие; а главное, из карикатурных образов этих дураков всегда более или менее выглядывает смеющаяся фигура самого автора. Одним словом, «Недоросль» и «Бригадир» – превосходные, хотя и не без больших недостатков, произведения литературы, но отнюдь не произведения искусства.
После комедий Фонвизина много наделала шума «Ябеда» Капниста; но это произведение даже и в литературном смысле не заслуживает никакого внимания. Успех его был основан не на его литературном или каком-либо достоинстве, но на цели, которая состояла в нападке на лихоимство. Завязка, интрига и развязка пошлые, стихи дубовые, язык варварски книжный.
С 1823 года начала ходить по рукам публики рукописная комедия Грибоедова «Горе от ума». Она наделала ужасного шума, всех удивила, возбудила негодование и ненависть во всех, занимавшихся литературою ex officio[10 - По обязанности (лат.).], и во всем старом поколении; только немногие, из молодого поколения и не принадлежавшие к записным литераторам и ни к какой литературной партии, были восхищены ею. Десять лет ходила она по рукам, распавшись на тысячи списков: публика выучила ее наизусть, враги ее уже потеряли голос и значение, уничтоженные потоком новых мнений, и она явилась в печати тогда уже, когда у ней не осталось ни одного врага, когда не восхищаться ею, не превозносить ее до небес, не признавать гениальным произведением считалось образцовым безвкусием. И вдруг в одном петербургском журнале, в 1835 году, какой-то (говорили и печатали тогда, будто московский) критик объявил, что «Горе от ума» такое слабое произведение, что хуже даже «Недовольных»… Разумеется, публика приняла это за одну из тех милых шуточек, до которых так страстны иные журналы. Но вот недавно, по случаю выхода в свет второго издания «Горя от ума», в другом петербургском журнале (современном задним числом) объявлено, что «Горе от ума» должно стоять подле комедий Фонвизина и что те, которые, подобно издателю комедии Грибоедова (г. Ксенофонту Полевому), видят в ее авторе «человека с большим дарованием», только прячутся за его имя.
Такова судьба комедии Грибоедова. Но все это доказывает только, что «Горе от ума» есть явление необыкновенное, произведение таланта сильного, могучего, а вместе с тем, что для нее уже настало время оценки критической, основанной не на знакомстве с ее автором и даже не на знании обстоятельств его жизни, а на законах изящного, всегда единых и неизменяемых.
«Горе от ума» принято было с враждою и ожесточением и литераторами и публикою. Иначе не могло и быть: литературные знаменитости тогдашнего времени состояли из людей прошлого века или образованных по понятиям прошлого века. Не забудьте, что в то время сам Мерзляков, человек с большим талантом и поэтическою душою, разбирал с кафедры неподражаемые красоты трагедий Сумарокова и подсмеивался над Шекспиром, Шиллером и Гете, как над представителями эстетического безвкусия, а в Обществе любителей российской словесности читал свои трактаты о трагедии, производя ее от козла. Великими писателями считались тогда люди, которые теперь неизвестны даже по именам. Пушкин еще только удивлял одних и бесил других. Словом, это было последнее время французского классицизма в нашей литературе. Представьте же себе, что комедия Грибоедова, во-первых, была написана не шестиногими ямбами с пиитическими вольностями, а вольными стихами, как до того писались одни басни; во-вторых, она была написана не книжным языком, которым никто не говорил, которого не знал ни один народ в мире, а русские особенно слыхом не слыхали, видом не видали, но живым, легким разговорным русским языком; в-третьих, каждое слово комедии Грибоедова дышало комическою жизнию, поражало быстротою ума, оригинальностию оборотов, поэзиею образов, так что почти каждый стих в ней обратился в пословицу или поговорку и годится для применения то к тому, то к другому обстоятельству жизни, – а по мнению русских классиков, именно тем и отличавшихся от французских, язык комедии, если она хочет прослыть образцовою, непременно должен был щеголять тяжелостию, неповоротливостию, тупостию, изысканностию острот, прозаизмом выражений и тяжелою скукою впечатления; в-четвертых, комедия Грибоедова отвергла искусственную любовь, резонеров, разлучников и весь пошлый, истертый механизм старинной драмы; а главное и самое непростительное в ней было – талант, талант яркий, живой, свежий, сильный, могучий… Да, литераторам не могла понравиться комедия Грибоедова; они должны были ожесточиться против нее!.. За что же общество так сильно осердилось на нее? За то, что она была самою злою сатирою на это общество. Она заклеймила остатки XVIII века, дух которого бродил еще, как заколдованная тень, ожидая себе осинового кола, которым и было «Горе от ума». Новое поколение вскоре не замедлило объявить себя за блестящее произведение Грибоедова, потому что вместе с ним оно смеялось над старым поколением, видя в «Горе от ума» злую сатиру на него и не подозревая в нем еще злейшей, хотя и безумышленной сатиры на самого себя, в лице полоумного Чацкого…