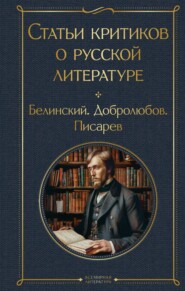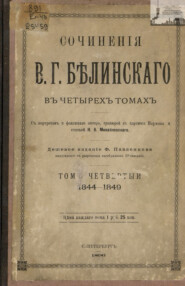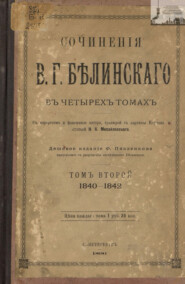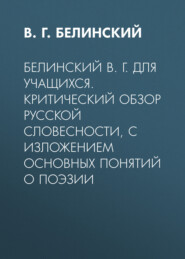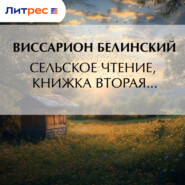По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Смешное есть бессмыслица безвредная… Человек шел по улице и упал… Вы смеетесь его неловкости, потому что неловкость есть в своем роде бессмыслица; но если вы заметили, что он вывихнул ногу и стонет… Тут вам не до смеху… Чувство сострадания изгоняет чувство смеха… Так точно в страстях и пороках: они смешны до тех пор, пока безвредны… Ревнивец смешон в Арнольфе Молиера и ужасен в Отелло… Сумасшедший смешон до тех пор, пока не опасен себе и другим… Безвредная бессмыслица – вот стихия комического, вот истинно смешное.
Г. Шевырев довольно пространно и отчетливо развивает нам свою теорию комизма: в ней много справедливых и дельных заметок, но основание решительно ложно. Что такое «безвредная бессмыслица»? – ничего больше как бессмыслица! Давно уже решено, что основание смешного есть несообразность, противоречие идеи с формою или формы с идеею. Это доказывает пример, приведенный самим г. Шевыревым. Человек шел и упал – это смешно, без сомнения. Но отчего? Оттого, что идущий человек должен итти, а не лежать: следовательно, в случайности его падения заключается противоречие и с его целию, и с положением человека идущего. Вы встречаете на улице мужика, который, идя, ест калач – вам не смешно, потому что эта походная трапеза не противоречит идее мужика; но если бы вы встретили на улице с калачом в руках человека светского, человека comme il faut[4 - Благовоспитанного. – Ред.], вы расхохотались бы, потому что принятое и утвержденное условиями нашей общественности понятие о светском человеке противоречит идее походной трапезы среди улицы.
О замечании г. Шевырева касательно фантастической повести г. Гоголя «Вий» я имел случай говорить. Это замечание очень справедливо и основательно.
Статья о «Миргороде» есть лучшая из статей г. Шевырева, помещенных в «Наблюдателе», и более других может назваться критикою: в ней он по крайней мере рассуждает о смешном и фантастическом, предметах, прямо относящихся к искусству; но мнение его вообще о характере повестей г. Гоголя и о смешном кажется нам неверным.
Теперь следует пятая статья г. Шевырева – «О критике вообще и у нас в России». В начале этой статьи г. Шевырев как бы мимоходом делает замечание на счет чьего-то мнения, что «у нас нет еще словесности, а есть уже критика», и потом задает себе вопрос: «может ли существовать критика там, где нет еще словесности?» На этот вопрос он отвечает утвердительно, ссылаясь на немецкую литературу, в которой «Лессинг, Винкельман и Гердер предшествовали Шиллеру, Гёте и Жан-Полю». Вследствие этого он думает, что и у нас может быть то же самое. Я еще в начале этой статьи сказал мое мнение насчет этой мысли. Потом он переходит к важности критики у нас в России и говорит, что «словесность наша до тех пор не достигнет высоких созданий национального вкуса, а будет ограничиваться отрывками и мелкими произведениями, пока не водворится у нас критика национальная, воспитанная своею наукою и основанная на глубоком изучении истории словесности». Мы с этим не согласны: мы думаем, что у нас тогда будет литература, когда явится вдруг несколько талантов. Пушкин, Грибоедов и Гоголь явились, не дожидаясь критики. Следующая за этим мысль кажется нам еще удивительнее. Г. Шевырев сначала говорит, что наука и предание враждебны друг другу, первая, как нововводительница, беспрестанно движущаяся вперед, второе, как цепь, мешающая ходу человечества: мысль, может быть, не новая, но глубоко верная! Потом он говорит, что есть еще борьба искусства с наукою и преданием и что в этой борьбе заключается жизнь искусства:
Словесность производящая силится нарушить все законы и уничтожить совершенно науку и предание. Наука хочет умертвить всякую живую силу в своем строгом законе и подчинить ее урокам опыта и правилам, ею постановленным. Если бы в этой борьбе которая-нибудь из сил восторжествовала, что весьма возможно, то равновесие и гармония литературного мира были бы совершенно нарушены. При исключительном торжестве науки уничтожилась бы всякая новая жизнь в мире творящего лова и на место ее воцарилось бы мертвое и холодное подражание. Восторжествуй сила производящая: безначалие, хаос, уничтожение всех законов красоты могло бы быть следствием такого торжества в литературном мире. И откуда бы могло последовать возрождение жизни словесного мира и восстановление осиленного начала, если бы, кроме этих двух враждующих сил, не присутствовала третья, которая занимает середину между тою и другою силою и является примирителем, равно наблюдающим права каждой из них? – Вот место, которое, по моему мнению, должна занимать критика в литературе… Одним словом, согласить закон и жизнь, не нарушать первого и не попустить убийства второй: вот дело истинной критики! Торжествует исключительно наука: освободить искусство; буйствует искусство: восставить на него науку – вот ее назначение.
Вот понятие г. Шевырева о критике. Но мы с ним не согласны, оно нам кажется ложным, потому что выведено из ложного начала. Между искусством и наукою точно есть борьба, да только эта борьба есть не жизнь, а смерть искусства. Вдохновению не нужна наука, оно ученее науки, оно никогда не ошибается. Основной закон творчества, что оно сообразно с целию без цели, бессознательно с сознанием, опровергает все теории и системы, кроме той, которая основана на нем, выведенная из законов человеческого духа и вековых опытов над произведениями искусства. Следовательно, не наука создала искусство, а искусство создало особенную науку – теорию изящного; следовательно, искусство только тогда истинно и изящно, когда верно себе, а не науке, а если науке, то им же самим созданной. Правда, наука всегда силилась покорить искусство, но какое было следствие этого? Смерть искусства, как то доказывает классическая французская литература. Но когда искусство было свободно от науки, оно было полно жизни, истины, красоты эстетической: достаточно указать на одного Шекспира, чтобы сделать это положение неопровержимым. Я, право, не знаю, какое влияние теория, система, пиитика, наука (назовите это как угодно) имела на Байрона, Вальтера Скотта, Купера, Гёте, Шиллера?.. Г. Шевырев указывает на новейшую французскую литературу, как на плачевный пример буйства искусства, освободившегося от науки: но, во-первых, я никак не могу понять, в чем состоит это буйство; во-вторых, точно ли новейшие произведения французской литературы суть плоды искусства, творчества; не покорены ли они более или менее духу моды, подражания, расчета, особенного рода системы, что для искусства не менее гибельно науки? Критика не есть посредник и примиритель между искусством и наукою: она есть приложение теории к практике, есть та же наука, созданная искусством, а не создающая искусство: Ее влияние простирается не на искусство, а на вкус публики; она не для гения-творца, который всегда верен ей, не думая и не стараясь быть ей верным, а для направления общественного вкуса, который может изменять ей, сбиваемый с толку ложно-изящным или ложными системами.
Остальная и большая часть этой статьи состоит из обличений критика «Библиотеки для чтения». Эти обличения во всевозможных неправдах, противоречиях самому себе, наивном шарлатанстве, явной и откровенной недобросовестности, умышленных нелепостях дышат благородным негодованием, неподдельным жаром, остротою в выражении, резкостию и силою слога. Все это прекрасно, но знаете ли что! Мне, наконец, и только сейчас, сию минуту пришла в голову чудная мысль, что не должно и не из чего нападать на Барона Брамбеуса и Тютюнджи-Оглу: кто-то из них недавно объявил, что «Москва не шутит, а ругается», и я вывел из этого объявления очень дельное следствие, что как почтенный барон, так и татарский критик «не ругаются, а шутят», или, лучше сказать, «изволят потешаться». Теперь это уже ни для кого не тайна, и тех, для которых оба вышереченные мужи еще опасны своим вредным влиянием, тех уже нет средств спасти. Постойте – виноват! Эврика! эврика! Есть средство, есть, я нашел его, честь и слава мне! Для этого надобно, чтоб нашелся в Москве человек со всеми средствами для издания журнала, с вещественным и невещественным капиталом, то есть деньгами, вкусом, познаниями, талантом публициста, светлостью мысли и огнем слова, деятельный, весь преданный журналу, потому что журнал, так же как искусство и наука, требует всего человека, без раздела, без измен себе; надобно, чтобы этот человек умел возбудить общее участие к своему журналу, завоевать в свою пользу общественное мнение, наделать себе тысячи читателей… Тогда «Библиотека для чтения» – поминай, как звали, а покуда… делать нечего…
Нечего и говорить, как основателен и справедлив упрек г. Шевырева критику «Библиотеки для чтения», что он судит о литературных произведениях по личным впечатлениям и отвергает возможность положительных законов искусства; но нам странным кажется то, что основания изящного, которыми руководствуется сам г. Шевырев, остаются для нас доселе тайною. Мы рассмотрели уже пять статей его и только в одной нашли несколько беглых заметок о комическом или смешном и фантастическом. Мы нисколько не сомневаемся в добросовестности г. Шевырева, мы уверены в его вкусе, но нам бы хотелось знать и его литературное учение в приложении к разбираемым им книгам…
После статьи г. Шевырева «О критике вообще и у нас в России» следует разбор одного из бесчисленных сочинений или, лучше сказать, одной из бесчисленных статей Аретина современной французской критики, знаменитого Жюль Жанена – Romans, Contes et Nouvelles littеraires; Histoire de la Poеsie chez tous les peoples»[5 - Романы, рассказы и повести; история поэзии у всех народов. – Ред.]. Я не читал и даже не видал этой книги; может быть, и не буду читать, не предвидя от ней особенной пользы, как от компиляции, в чем сам автор очень наивно признается. Он написал ее для детей и, потому ли, или почему другому, взялся знакомить своих читателей даже с восточными литературами, которых не знает, решась на это именно потому, что и «другие об этом не больше его знают». Причина очень достаточная, оправдание очень резонное по крайней мере для Жанена! Что ж касается до нас, то мы думаем, что здесь Жанен, как говорится, превзошел самого себя в этом милом невежестве, которым он гордится, как достоинством, как заслугою: честь и слава ему! Итак, я не буду поверять мнений г. Шевырева касательно Жаненовой книги: они очень справедливы; не буду защищать ее от ожесточенных нападков нашего критика: они очень дельны, хотя немного и утрированы, потому что Жанена оправдывает несколько его откровенность и потому что от автора не должно требовать больше того, что он сам обещает. Если можно его обвинять, и обвинять сильно, как обвиняет г. Шевырев, так это за то, что он взялся не за свое дело; но и на это он может отвечать: почему ж никто не сделал ничего в этом роде лучше меня, а я выполнил, как умел, то, что обещал. Короче сказать: касательно мнения о самой книге мы почти согласны с г. Шевыревым и прикладываем руку к его приговору, даже и не читавши этого опального произведения литературного повесы Жанена. Но мы решительно не согласны с г. Шевыревым насчет его мнения о самом Жанене; его взгляд на этого писателя был бы очень справедлив, если бы не отзывался каким-то безотчетным и безусловным предубеждением против всей современной французской литературы, предубеждением, которое очень понятно в татарском критике «Библиотеки для чтения», отводящем глаза православному русскому народу от своих проказ, но которое совсем непонятно в г. Шевыреве, не имеющем никакой нужды придерживаться такого образа мыслей. Дело вот в чем: г. Шевырев говорит, что весь Жанен заключается в газетном фельетоне, что вся сила, все могущество его таланта заключается в слоге, им самим созданном и никому другому недоступном, не исключая даже гг. Брамбеуса и Тютюнджи-Оглу, которые, силясь подражать ему, только карикатурно передражнивают его. Да, это очень справедливо: журнальная проза составляет главную стихию Жаненова таланта, главную, но не исключительную, как мы думаем. Жанен не ученый, не критик, а просто литератор, в высочайшей степени обладающий талантом говорить на бумаге, литератор, каждая статья которого есть беседа (conversation) умного, образованного и острого человека, разговор беглый, живой, перелетный как бабочка, трескучий как догорающий огонек камина, дробящий предмет как граненый хрусталь; присовокупите к этому неподражаемую легкость и болтливость языка, легкомысленность в суждении, неистощимую, огненную деятельность, всегдашнюю готовность говорить о чем угодно, даже и о том, чего не знает, но в том и в другом случае говорить умно, остро, увлекательно, грациозно, мило, хотя часто и неосновательно, вздорно, бесстыдно: и вот вам причина народности Жанена. Что Беранже в поэзии, то Жанен в журнальной литературе. Мы этим не думаем равнять великого и истинного поэта современной Франции с журнальным болтуном: мы только хотим сказать, что тот и другой суть выражение своего народа и потому его исключительные любимцы. Но Жанен, как француз по преимуществу, имеет и другие качества, свойственные одному ему и больше никому: он мило бесстыден, простодушно нагл, гордо невежествен, простительно бессовестен, кокетливо продажен и непостоянен во мнениях. Эта умышленная и сознательная неверность самому себе, эта изменчивость во мнениях была бы возмутительно-отвратительна в англичанине, особливо в немце; но в Жанене, как во французе, она простительна, мила даже, как кокетство в прекрасной женщине. Он лжет, хочет вас обмануть, вы это замечаете – и только смеетесь, а не оскорбляетесь, не возмущаетесь. Жанен имеет на это исключительную привилегию, и этой-то привилегии не хотел заметить г. Шевырев. Он с ожесточением нападает на легкомыслие, с каким Жанен за все хватается, на недобросовестность, с какою все выполняет, и на какое-то хвастовство и недобросовестностью и невежеством; но он не хотел уяснить себе идеи, выражаемой словом «Жанен», не хотел увидеть, что Жанен есть род журнального паяца, который тешит публику и между тем безнаказанно дает щелчки тому и другому, пускает в оборот и дельную мысль и умышленный софизм, и все это часто из одного невинного желания попаясничать, потешиться. Но пусть будет так: мы не хотим спорить насчет этого с г. Шевыревым, но нас крайне изумило его мнение, что Жанен будто бы «плохой романист»… Плохой романист!.. Помилуйте: ведь это слишком много значит, ведь это что-то чрезвычайно смешное, чрезвычайно жалкое, ведь плохой романист, как и плохой поэт, есть посмешище, притча во языцех, рыцарь печального образа в полном смысле этого слова. Неужели таким считается во Франции автор «Барнава»?.. У всякого свой вкус, и мы не хотим переуверять г. Шевырева насчет истинного достоинства романов Жанена, но мы осмеливаемся иметь и свой вкус и почитать романы Жанена хорошими, а не плохими; равным образом смеем уверить наших читателей, что и во Франции, как и во всей Европе, не все думают о романах Жанена согласно с г. Шевыревым. Что касается до нас лично, мы имеем вообще о французской литературе, а следовательно и о романах Жанена, понятие современное, всеми признанное, для всех общее и ни для кого не новое. Мы думаем, что французской литературе недостает чистого, свободного творчества вследствие зависимости от политики, общественности и вообще национального характера французов, что ей вредит скорописность, дух не столько века, сколько дня, обаяние суетности и тщеславия, жажда успеха во что бы то ни стало[5 - Такое истолкование французской литературы было выдвинуто издателем «Телескопа» Надеждиным в его путевых записках (1836).]. Все это можно приложить и к романам и повестям Жанена и вследствие всего этого можно найти в них важные недостатки; но невозможно не признать в них следов яркого и сильного таланта. Жанен романист и повествователь, точь-в-точь как все модные французские романисты и повествователи, и мы только безусловным предубеждением г. Шевырева против всей французской литературы можем объяснить его немилость к Жанену и слишком смелый эпитет, придаваемый им ему как романисту. Поэтому мы почли за долг заступиться за Жанена, как за романиста, сколько из любви к истине, столько и потому, что для нашей публики слишком достаточно возгласов «Библиотеки для чтения» против французской словесности: зачем же отбивать у этого журнала насущный хлеб и помогать ему в цели, которой он и без всякой чужой помощи, вероятно, успешно достигает?.. Прибавим к этому еще, что окончание статьи г. Шевырева привело нас в ужас: в самом деле, кто не почтет следующих слов как бы взятыми на выдержку из «Библиотеки для чтения»?
Вот как составляются иные книги во Франции! Вот чем угощают французское юношество! Вот как известный литератор наряжается добро вольно в лоскутья чужих трудов и сам перед своею публикою добровольно сознается в этом!.. Что за нравственность в той литературе, где бесчинная хищность имеет еще смелость быть мило откровенною?..
Мы слишком далеко от того, чтоб подозревать г. Шевырева в симпатии с Бароном Брамбеусом насчет французской литературы, но мы не можем понять, как можно по одному примеру и по одному литератору делать такое невыгодное заключение о целой литературе и произносить ей такой грозный приговор?..[6 - Действительно, Шевырев повторил оценку Сенковского, который писал: «Это прямо вторая французская революция в священной ограде нравственности…» («Библиотека для чтения», 1834, т. III).] И что худого, что автор, издавая компиляцию, сам предуведомляет читателя, что это компиляция?.. Что касается до чужих лоскутьев, то в них и у нас любят рядиться; только не любят в этом сознаваться: а это разве лучше?.. Право, слишком уже приторны эти безотчетные, ни на чем не основанные возгласы о безнравственности литературы целого народа, литературы, которая имеет Шатобрианов и Ламартинов, и мы очень бы желали, чтоб наши нравоучители или растолковали нам, в чем именно состоит эта безнравственность, или поукротили бы свое негодование!.. Эти возгласы, какие бы причины ни производили их, тем досаднее, что простодушная неосновательность во мнениях часто может иметь одни следствия с хитрою неблагонамеренностью и что вследствие того иной добросовестный литератор может попасть в одну категорию с витязями «Библиотеки для чтения»…
Теперь мне следует рассмотреть седьмую статью г. Шевырева, которая может назваться и критическою, и полемическою, и филологическою, и художественною: разумею перевод седьмой песни «Освобожденного Иерусалима». Да, я смотрю на этот перевод не иначе как на журнальную статью, в которой есть немного критики, очень много полемики, а больше всего шуму и грому. Дело в том, что этот перевод снабжен чем-то вроде предисловия, в котором г. Шевырев не шутя грозится произвести ужасную реформу в нашем стихосложении, изгнать наши бойкие ямбы, наши звучные, металлические хореи, наши гармонические дактили, амфибрахии, анапесты и заменить их – чем бы вы думали? – тоническим рифмом наших народных песен, этим рифмом столь родным нашему языку, столь естественным и музыкальным?., нет! – италиянскою октавою!..
Статейка начинается жалобою на какого-то журналиста, который не хотел поместить в одном нумере своего журнала всего перевода седьмой песни «Освобожденного Иерусалима», а поместил его в виде отрывков в нескольких нумерах, чем повредил его доброму впечатлению на публику. «Переводчик, – говорит г. Шевырев, – тогда отсутствовал, а отсутствовавшие всегда виноваты, по известной пословице». Сначала этот упрек, как ни казался основательным, удивил меня немного своею горечью, но когда я прочел октавы, то вполне разделил благородное негодование г. Шевырева на злого журналиста и хотел сгоряча написать на него презлую статью. В самом деле, перекроить в отрывки экономическим расчетом журнала такой опыт, которым затевалась такая важная реформа и который весь состоял из таких звучных, гармонических октав, как, например, следующие:
Кружит шаги широкими кругами,
Стеснив доспех, мечом махая праздно;
Меж тем Танкред, хоть утомлен путями,
Идет и напирает безотвязно,
И всякий шаг, соперника стопами
Уступленный, приемлет неотказно,
И все к нему теснится сгоряча,
В глаза сверкая молнией меча.
. . . . . . . .
Потом кружит отселе и оттоле,
И вновь кружит оттоле и отселе,
И всякий раз вскипая более и боле.
Разит врага тяжеле и тяжеле,
Все, что есть сил в горящей гневом воле,
В искусстве опытном и в ветхом теле,
Все ко вреду Черкеса съединяет,
И счастие и небо заклинает.
О! только бы узнать мне имя этого варвара-журналиста, а то не уйти ему от меня!.. Но пока последуем за г. Шевыревым в его объяснениях затеваемой им реформы[7 - Ирония над жалобою Шевырева на Надеждина. Белинский, конечно, прекрасно знал, что «какой-то журналист-варвар» – это Надеждин, поместивший в «Телескопе» только часть предисловия и перевода Шевырева (1836, ч. III, кн. VI).К переводу Шевырева Белинский и члены кружка Станкевича относились отрицательно.].
Он говорит, что тогда его опыт явился в неблагоприятное время, потому что «слух наш лелеялся какою-то негою однообразных звуков, мысль спокойно дремала под эту мелодию и язык превращал слова в одни звуки»(?), а в октавах его «нарушались все условные правила нашей просодии, объявлялся совершенный развод мужеским и женским рифмам, хорей впутывался в ямб, две гласные принимались за один слог».
Понятно теперь для вас, в чем состоит реформа г. Шевырева?.. Думаю, что очень понятно. Но нужна ли она и возможна ли?..
Как ни неприятно и ни скучно заниматься разбирательством таких вопросов, но я обрек себя на это и должен выполнить начатое во что бы то ни стало.
Для чего нам октавы? Для того же, для чего нам были нужны эпические поэмы, оды, а теперь романы; для того же, для чего нам нужны были героические гекзаметры, да еще с спондеями и элегические пентаметры. У всех народов были эпические поэмы – стало быть, и нам нужно было иметь их, да еще не одну, а дюжину; во всех европейских литературах лиризм проявлялся в форме надутых од – стало быть, и нашим лирикам надо было надуваться; у греков и римлян поэмы писаны были гекзаметрами, а элегии гекзаметрами и пентаметрами попеременно – стало быть, и нам надо было гекзаметров и пентаметров во что бы то ни стало, а так как их не было в языке, то ради предстоящей потребности сработали кое-как свои, заменив спондей хореем[6 - Один из литераторов и поэтов, ныне забытых, а прежде считавшихся знаменитыми, изобрел было и спондей; но его изобретение имело одну участь с изобретением гекзаметров «профессором элоквенции, а паче всего хитростей пиитических», Василием Кирилловичем Тредиаковским.]; теперь у итальянцев есть октавы – как же не быть им у нас?.. Вы скажете, что их октавы родились из духа и просодии их языка, что они родились сами, а не изобретены, что русский язык не итальянский, что два слога за один принимать можно только в пении, а не в чтении, для которого преимущественно пишутся стихи, и бог знает, чего вы еще не скажете!.. Я сам думал доселе, что размер не есть дело условное, что наши ямбы и хореи не чистые ямбы и хореи, что они близки к тонизму нашего народного рифма и потому так подружились с нашей поэзиею; а дактили, амфибрахии и анапесты совершенно согласны с духом нашего языка, потому что в народных песнях встречаются целые стихи дактилические, амфибрахические и анапестические. Равным образом я всегда думал, что гекзаметр есть метр искусственный, и потому тяжелый, утомительный для чтения и никогда не могущий привиться к нашему стихосложению. Как же хотеть заставить нас писать октавами, которые должно читать как прозу, в которых нет сочетания, где объявляется совершенный развод мужеским и женским рифмам?.. Впрочем, я еще думал и то, что размер не составляет сущности искусства, в котором главное дело творчество, изящество, красота; что поэт имеет право писать и ямбами, и хореями, и дактилями, и амфибрахиями, и анапестами, и гекзаметрами, и пентаметрами, и даже октавами, лишь бы только он хорошо писал. Но г. Шевырев решительно разуверил меня во всех моих теплых верованиях насчет русского стихосложения неопровержимыми доказательствами. С моей стороны осталось было одно только возражение против него: я думал, что когда нововведение в духе языка, то должно иметь успех, а г. Шевырев не нашел ни одного последователя; но и это возражение уничтожается само собою: мы узнаем, что
давно мы не слышим бывалых стихов. Если и слышим, то изредка. Читаем все прозу и прозу. Может быть, это безмолвие, господствующее в мире нашей поэзии, эта чудная тишина, эта пустыня пророчит какой-нибудь переворот в нашем стихотворном языке, в формах нашей просодии. Благодаря этой тишине слух отвыкнет от прежней монотонии; нервы его окрепнут, вылечатся от расслабления – и он будет способен выносить звуки и сильнее и тверже. Теперь едва ли не совершается у нас время перехода, ознаменованное бездействием почти всех наших поэтов, которые, в последнее время, водя слегка привычными пальцами по струнам, дремали, дремали, и теперь заснули на своих лирах и спят до нового пробуждения!
Итак – спокойной ночи, приятного сна гг. поэтам!.. Пока они проснутся от скрипа октав г. нововводителя, мы решим и без них, почему эти октавы не произвели никаких следствий: потому что явились немного рано, во время перехода, а не по его окончании. Наш слух только окрепает, но еще не окреп: новые октавы немного дерут его. Но погодите, скоро он прислушается к этому, особливо когда молодое поколение, вняв голосу г. реформатора, придет к нему на помощь. Подвиг великий, интерес всеобщий, вопрос мировой! Дело идет о судьбе искусства в России, которое непременно погибнет без октав: так молодому ли поколению оставаться праздным, когда его деятельности предстоит такое обширное поле!..
Не хотите ли знать, как пришла г. Шевыреву эта прекрасная мысль? Послушаем его самого:
C последними звуками нашей монотонной музы в ушах я уехал в Италию… Долго я не слыхал русских стихов, которые памятны мне были только своим однозвучием (??!!)… Вслушивался в сильную гармонию Данта и Тасса… Обратился к нашим первым мастерам – нашел в них силу… устыдился изнеженности, слабости и скудости нашего современного языка русского… Все свои чувства и мысли об этом я выразил тогда в моем послании к А. С. Пушкину, как представителю нашей поэзии[7 - Не знаем, не вследствие ли уж этого послания, Пушкин написал октавами свою шуточную и остроумную безделку «Домик в Коломне»; только октавы Пушкина состоят в одном расположении рифм и осьмистиший строф, а во всем прочем они не что иное, как правильные, цезурные пятистопные ямбы; в них нет даже развода мужеским и женским стихам, а только разрешение наглагольной рифмы. Вообще это стихотворение есть шутка, написанная без всяких претензий на важность и нововведение.]. Я предчувствовал необходимость переворота в нашем стихотворном языке: мне думалось, что сильные, огромные произведения Музы не могут у нас явиться в таких тесных, скудных формах языка; что нам нужен большой простор для новых подвигов. Без этого переворота ни создать свое великое, ни переводить творения чужие мне казалось и кажется до сих пор невозможным (???). Но я догадывался также, что для такого переворота надо всем замолчать на несколько времени, надо отучить слух публики от дурной привычки… Так теперь и делается. Поэты молчат. Первая половина моего предчувствия сбылась: авось сбудется и другая.
Пока сбудется вторая половина предчувствия г. Шевырева, подивимся, как много новых истин заключается в немногих его строках, выписанных нами! Мы думали, что, например, стихи Пушкина памятны всякому образованному русскому своим высоким художественным достоинством, а не одним своим однозвучием: теперь ясно, что мы ошибались! Потом мы думали, что «сильные, огромные произведения Музы» могут являться также хорошо и в «тесных и скудных формах языка», как в широких и богатых, основываясь на примере Шекспира и Байрона, которые заковывали свои исполинские создания в бедные и однообразные метры английского стихосложения и которые, право, не ниже хоть, например, господина Виргилия, отца немного тощей мыслями «Энеиды», хотя писанной богатым, роскошным гекзаметром: и это наше мнение оказалось ложным. Наконец «нам надо всем замолчать на несколько времени – (вот в этом-то мы вполне согласны с г. Шевыревым!) – надо отучить слух публики от дурной привычки… Так теперь и делается… Поэты молчат». А! так вот почему они молчат?.. Они ожидали реформы, а не по неимению голоса?.. Боже мой! как много нового можно иногда сказать в немногих словах!..
Я сам знаю недостатки моей копии. Стихи мои слишком резки, часто жестки и даже грубы.
Мы с этим совсем не согласны, но не хотим опровергать скромного переводчика, потому что приведенные нами в пример две октавы его могут служить самым убедительным опровержением этих слов… Но довольно об октавах!..
Теперь следует разбор г. Шевырева стихотворений г. Бенедиктова… Этот разбор замечателен: он доставил новому стихотворцу большую известность, по крайней мере в Москве. И не удивительно: этот разбор есть истинный дифирамб, истинное излияние восторженного чувства: это доказывает и непомерное обилие точек после каждого периода, и необыкновенная цветистость языка… Тем строжайшему разбору должен бы подвергнуться этот разбор; но, с одной стороны, у кого достанет духа холодною прозою рассудка опровергать пламенную поэзию чувства, плодом которого был этот вдохновенный разбор; с другой же стороны, я твердо решился ничего больше не говорить о стихотворениях г. Бенедиктова, тем более что моя решительность сделалась еще тверже, когда я прочел в «Библиотеке для чтения» новое стихотворение этого поэта «Кудри», где он говорит, как приятно наматывать на палец кудри и припекать их поцелуями: что можно сказать против такой поэзии?
Но, оставляя в стороне вопрос о стихотворениях г. Бенедиктова, взглянем на статью г. Шевырева, взглянем хладнокровно и даже холодно: мы не остудим этим ее теплоты. Сначала критик радуется звукам новой лиры, внезапно раздавшейся среди всеобщего затишья наших лир. Итак, еще старые поэты спят (да продлит господь их сон!), они еще не проснулись, а уж явился новый поэт – с чем же? и с октавою?.. О нет! с прежними монотонными ямбами, хореями, амфибра-хиями – но зато «с глубокою мыслию на челе, с чувством нравственного целомудрия, и даже с некоторым опытом жизни». Так, стало быть, и без октав можно еще быть глубоким в мыслях и, следовательно, глубоким в чувстве?.. Потом критик спрашивает себя, что ему делать от такой внезапной радости: поздравить ли русскую публику с великим поэтом или сохранить строгую неподвижность, как будто недоступную никакому насилию впечатления, сказать только: «хорошо, но посмотрим!» и тем взять на себя «душегубство неразвившегося таланта»?.. Критик не долго думал и, разумеется, решился на первое, а мы пока остановимся на «душегубстве».
Есть странное мнение, что строгий и резкий приговор может убить неразвившееся дарование. Правда ли это? Положим, если и может – тогда что ж за беда такая?.. К чему эти поэты, которых заставляет замолчать первая выходка критики, как раскричавшегося ребенка лоза няньки? – Истинного и сильного таланта не убьет суровость критики, так же как незначительного не подымет ее привет. Поэтом может назваться только тот, кто не может не писать, кто не в силах удерживать вечно пламенных порывов своей фантазии. Вспомните, как Встречен был Байрон; вспомните, как встречен был наш Пушкин: что ж – испугался ли тот и другой? Первый отвечал Желчною сатирою и «Чайльд-Гарольдом»; второй тоже продолжал итти вперед и, как будто тешась над своими аристархами, припечатал их поучения ко второму изданию «Руслана и Людмилы». В истинном поэте предполагается глубокая вера в свое призвание; притом же, если критика несправедлива, она встречает сильную оппозицию в публике.
В Западной Европе еще может иметь смысл это мнение, у нас же решительно никакого; там, если освистано первое произведение неразвившегося таланта, этот талант может умереть с голоду, прежде нежели напишет второе произведение, которое должно поднять его во мнении публики; у нас, слава богу, никто с голоду не умирает, и вопрос о жизни и смерти не решается изданием книжки стихотворений. Нет, не нужно нам поэтов, которых талант может убить первая строгая или несправедливая критика; у нас и так их много; если критика заставит хоть одного из них благоразумно замолчать, то сделает очень доброе дело…
После могучего, первоначального периода создания языка расцвел в нашей поэзии период форм самых изящных, самых утонченных… Это был период картин, роскошных описаний, гармонии чудесной, живой, хотя однообразной, неги, иногда глубины чувства, растворенной тоскою о прошлом… Одним словом, это была эпоха изящного материализма в нашей поэзии… Слух наш дрожал от какой-то роскоши раздражительных звуков… упивался ими, скользил по ним, иногда не вслушиваяся в них… Воображение наслаждалось картинами, но более чувственными… Иногда только внутреннее чувство, чувство сердечное, и особливо чувство грусти неземной веяло чем-то духовным в поэзии… Но материализм торжествовал… Формы убивали дух…
Вот приступ г. Шевырева к похвальному слову г. Бенедиктову. После этого приступа он говорит:
Есть другая сторона в поэзии, другой мир – мир мысли, мир идеи поэтической, которая скрыта глубоко. В некоторых современных поэтах проявлялось стремление к мысли, но было частию следствием не столько поэтического, сколько философического направления, привитого к нам из Германии… Для форм мы уже сделали много, для мысли еще мало, почти ничего. Период форм, период материальный, языческий, одним словом, период стихов и пластицизма уже кончился в нашей литературе сладкозвучною сказкою: пора наступить другому периоду, духовному, периоду мысли!
Нужно ли говорить, кто у г. Шевырева является главою этого ожиданного периода мысли в истории нашей литературы?.. Довольно – остановимся на этом.
Итак, первый русский поэт, создания которого проникнуты мыслию, есть – г. Бенедиктов!.. Поздравляем г. Шевырева с открытием, а публику с приобретением!.. У нас шутить не любят; как примутся хвалить, так как раз в боги запишут и храм соорудят. Но пусть так – похвала от убеждения не беда; но ведь убеждение-то должно же быть согласно с здравым смыслом?.. Но отдавая должное г. Бенедиктову, г. Шевырев должен же был, по своему ж убеждению, не обижать заслуженных корифеев нашей литературы?.. Так г. Бенедиктов выше Пушкина, Жуковского, Грибоедова, не говоря уже о Козлове, Подолинском, Веневитинове, Ф. Глинке и других?.. Когда у нас был этот «период картин, роскошных описаний», эта «эпоха изящного материализма»?.. Кто ее представители?.. Гг. Языков и Хомяков, из которых первый есть неоспоримо поэт, поэт истинный, но поэт именно картин, роскошных описаний, поэт изящного материализма, второй же блистательный поэт выражения, и только выражения, подделывающийся под мысль, но сильный одним только выражением?.. Если так, то мы совершенно согласны с г. Шевыревым, но ведь гг. Языков и Хомяков не суть представители всей нашей поэзии, но ведь они стоят и не в первом ряду наших поэтов, которых, впрочем, так немного, но ведь остаются еще Пушкин, Жуковский, Грибоедов, впереди которых нет никого и за которыми стоят еще и другие дарования, кроме гг. Языкова и Хомякова. Пушкин может принадлежать к периоду «изящного материализма» только «Русланом и Людмилою». Разве в черкешенке его «Кавказского пленника» нет идеи, нет мысли? Разве его Зарема, Мария, Гирей, его Алеко, Земфира – словом, вся поэма «Цыганы» не суть произведения мысли глубокой, могучей, поэтической? А Мария, Мазепа, Кочубей «Полтавы» – в них тоже нет Мысли? А Годунов – неужели в нем меньше мысли, чем в стихотворных побрякушках г. Бенедиктова? А «Онегин», этот живой, движущийся мир лиц, мыслей, чувств?.. Теперь о Жуковском. Конечно, многие его пиесы, как то «Певец во стане русских воинов», «Певец на Кремле», «Песнь Барда над гробом славян-победителей», большая часть посланий, некоторые переводы, как, например, «Пиршество Александра» из Драйдена, большая часть баллад – конечно, все это не поэзия в собственном смысле, все это не больше, как прекрасные стихи, которые все-таки в миллион раз лучше стихов г. Бенедиктова; но за Жуковским остаются еще его элегии, романсы, песни, переводные и оригинальные, его «Ахилл» и «Эолова арфа», его перевод «Иоанны д'Арк»: разве во всем этом нет мысли, нет идеи, разве все это относится к периоду «изящного материализма, периоду форм, поглощавших идеи»?.. Странно!.. «Горе от ума» тоже прекрасно одними формами и лишено мысли, идеи… Не понимаем!.. Итак, даже сам Пушкин ниже г. Бенедиктова?.. Поздравляем!.. Вот вам заслуга, вот вам слава ваша, поэты!
Вот ваши строгие ценители и судьи!
Да впрочем, что ж тут неприятного для поэтов? Они могут отвечать нам стихом из той же комедии:
А судьи – кто?..
Повторяю – убеждение прекрасно, но оно должно быть основано по крайней мере хоть на здравом смысле, если не на чувстве, не на уме, иначе это убеждение будет хуже неспособности иметь какое-либо убеждение. В этом случае мы говорим смело и твердо: мы опираемся на публику, на всех образованных людей, на здравый смысл, на ум, на чувство. Другое дело – достоинство стихотворений г. Бенедиктова: оно еще может быть до некоторой степени и для некоторых людей спорным вопросом; но такие гиперболические похвалы – воля ваша – они похожи на оду какого-нибудь Гафиза или Саади персидскому шаху…
Но этим не все кончилось: вот еще мысль г. Шевырева, которая удивляет своею странностию по крайней мере нас:
Г. Шевырев довольно пространно и отчетливо развивает нам свою теорию комизма: в ней много справедливых и дельных заметок, но основание решительно ложно. Что такое «безвредная бессмыслица»? – ничего больше как бессмыслица! Давно уже решено, что основание смешного есть несообразность, противоречие идеи с формою или формы с идеею. Это доказывает пример, приведенный самим г. Шевыревым. Человек шел и упал – это смешно, без сомнения. Но отчего? Оттого, что идущий человек должен итти, а не лежать: следовательно, в случайности его падения заключается противоречие и с его целию, и с положением человека идущего. Вы встречаете на улице мужика, который, идя, ест калач – вам не смешно, потому что эта походная трапеза не противоречит идее мужика; но если бы вы встретили на улице с калачом в руках человека светского, человека comme il faut[4 - Благовоспитанного. – Ред.], вы расхохотались бы, потому что принятое и утвержденное условиями нашей общественности понятие о светском человеке противоречит идее походной трапезы среди улицы.
О замечании г. Шевырева касательно фантастической повести г. Гоголя «Вий» я имел случай говорить. Это замечание очень справедливо и основательно.
Статья о «Миргороде» есть лучшая из статей г. Шевырева, помещенных в «Наблюдателе», и более других может назваться критикою: в ней он по крайней мере рассуждает о смешном и фантастическом, предметах, прямо относящихся к искусству; но мнение его вообще о характере повестей г. Гоголя и о смешном кажется нам неверным.
Теперь следует пятая статья г. Шевырева – «О критике вообще и у нас в России». В начале этой статьи г. Шевырев как бы мимоходом делает замечание на счет чьего-то мнения, что «у нас нет еще словесности, а есть уже критика», и потом задает себе вопрос: «может ли существовать критика там, где нет еще словесности?» На этот вопрос он отвечает утвердительно, ссылаясь на немецкую литературу, в которой «Лессинг, Винкельман и Гердер предшествовали Шиллеру, Гёте и Жан-Полю». Вследствие этого он думает, что и у нас может быть то же самое. Я еще в начале этой статьи сказал мое мнение насчет этой мысли. Потом он переходит к важности критики у нас в России и говорит, что «словесность наша до тех пор не достигнет высоких созданий национального вкуса, а будет ограничиваться отрывками и мелкими произведениями, пока не водворится у нас критика национальная, воспитанная своею наукою и основанная на глубоком изучении истории словесности». Мы с этим не согласны: мы думаем, что у нас тогда будет литература, когда явится вдруг несколько талантов. Пушкин, Грибоедов и Гоголь явились, не дожидаясь критики. Следующая за этим мысль кажется нам еще удивительнее. Г. Шевырев сначала говорит, что наука и предание враждебны друг другу, первая, как нововводительница, беспрестанно движущаяся вперед, второе, как цепь, мешающая ходу человечества: мысль, может быть, не новая, но глубоко верная! Потом он говорит, что есть еще борьба искусства с наукою и преданием и что в этой борьбе заключается жизнь искусства:
Словесность производящая силится нарушить все законы и уничтожить совершенно науку и предание. Наука хочет умертвить всякую живую силу в своем строгом законе и подчинить ее урокам опыта и правилам, ею постановленным. Если бы в этой борьбе которая-нибудь из сил восторжествовала, что весьма возможно, то равновесие и гармония литературного мира были бы совершенно нарушены. При исключительном торжестве науки уничтожилась бы всякая новая жизнь в мире творящего лова и на место ее воцарилось бы мертвое и холодное подражание. Восторжествуй сила производящая: безначалие, хаос, уничтожение всех законов красоты могло бы быть следствием такого торжества в литературном мире. И откуда бы могло последовать возрождение жизни словесного мира и восстановление осиленного начала, если бы, кроме этих двух враждующих сил, не присутствовала третья, которая занимает середину между тою и другою силою и является примирителем, равно наблюдающим права каждой из них? – Вот место, которое, по моему мнению, должна занимать критика в литературе… Одним словом, согласить закон и жизнь, не нарушать первого и не попустить убийства второй: вот дело истинной критики! Торжествует исключительно наука: освободить искусство; буйствует искусство: восставить на него науку – вот ее назначение.
Вот понятие г. Шевырева о критике. Но мы с ним не согласны, оно нам кажется ложным, потому что выведено из ложного начала. Между искусством и наукою точно есть борьба, да только эта борьба есть не жизнь, а смерть искусства. Вдохновению не нужна наука, оно ученее науки, оно никогда не ошибается. Основной закон творчества, что оно сообразно с целию без цели, бессознательно с сознанием, опровергает все теории и системы, кроме той, которая основана на нем, выведенная из законов человеческого духа и вековых опытов над произведениями искусства. Следовательно, не наука создала искусство, а искусство создало особенную науку – теорию изящного; следовательно, искусство только тогда истинно и изящно, когда верно себе, а не науке, а если науке, то им же самим созданной. Правда, наука всегда силилась покорить искусство, но какое было следствие этого? Смерть искусства, как то доказывает классическая французская литература. Но когда искусство было свободно от науки, оно было полно жизни, истины, красоты эстетической: достаточно указать на одного Шекспира, чтобы сделать это положение неопровержимым. Я, право, не знаю, какое влияние теория, система, пиитика, наука (назовите это как угодно) имела на Байрона, Вальтера Скотта, Купера, Гёте, Шиллера?.. Г. Шевырев указывает на новейшую французскую литературу, как на плачевный пример буйства искусства, освободившегося от науки: но, во-первых, я никак не могу понять, в чем состоит это буйство; во-вторых, точно ли новейшие произведения французской литературы суть плоды искусства, творчества; не покорены ли они более или менее духу моды, подражания, расчета, особенного рода системы, что для искусства не менее гибельно науки? Критика не есть посредник и примиритель между искусством и наукою: она есть приложение теории к практике, есть та же наука, созданная искусством, а не создающая искусство: Ее влияние простирается не на искусство, а на вкус публики; она не для гения-творца, который всегда верен ей, не думая и не стараясь быть ей верным, а для направления общественного вкуса, который может изменять ей, сбиваемый с толку ложно-изящным или ложными системами.
Остальная и большая часть этой статьи состоит из обличений критика «Библиотеки для чтения». Эти обличения во всевозможных неправдах, противоречиях самому себе, наивном шарлатанстве, явной и откровенной недобросовестности, умышленных нелепостях дышат благородным негодованием, неподдельным жаром, остротою в выражении, резкостию и силою слога. Все это прекрасно, но знаете ли что! Мне, наконец, и только сейчас, сию минуту пришла в голову чудная мысль, что не должно и не из чего нападать на Барона Брамбеуса и Тютюнджи-Оглу: кто-то из них недавно объявил, что «Москва не шутит, а ругается», и я вывел из этого объявления очень дельное следствие, что как почтенный барон, так и татарский критик «не ругаются, а шутят», или, лучше сказать, «изволят потешаться». Теперь это уже ни для кого не тайна, и тех, для которых оба вышереченные мужи еще опасны своим вредным влиянием, тех уже нет средств спасти. Постойте – виноват! Эврика! эврика! Есть средство, есть, я нашел его, честь и слава мне! Для этого надобно, чтоб нашелся в Москве человек со всеми средствами для издания журнала, с вещественным и невещественным капиталом, то есть деньгами, вкусом, познаниями, талантом публициста, светлостью мысли и огнем слова, деятельный, весь преданный журналу, потому что журнал, так же как искусство и наука, требует всего человека, без раздела, без измен себе; надобно, чтобы этот человек умел возбудить общее участие к своему журналу, завоевать в свою пользу общественное мнение, наделать себе тысячи читателей… Тогда «Библиотека для чтения» – поминай, как звали, а покуда… делать нечего…
Нечего и говорить, как основателен и справедлив упрек г. Шевырева критику «Библиотеки для чтения», что он судит о литературных произведениях по личным впечатлениям и отвергает возможность положительных законов искусства; но нам странным кажется то, что основания изящного, которыми руководствуется сам г. Шевырев, остаются для нас доселе тайною. Мы рассмотрели уже пять статей его и только в одной нашли несколько беглых заметок о комическом или смешном и фантастическом. Мы нисколько не сомневаемся в добросовестности г. Шевырева, мы уверены в его вкусе, но нам бы хотелось знать и его литературное учение в приложении к разбираемым им книгам…
После статьи г. Шевырева «О критике вообще и у нас в России» следует разбор одного из бесчисленных сочинений или, лучше сказать, одной из бесчисленных статей Аретина современной французской критики, знаменитого Жюль Жанена – Romans, Contes et Nouvelles littеraires; Histoire de la Poеsie chez tous les peoples»[5 - Романы, рассказы и повести; история поэзии у всех народов. – Ред.]. Я не читал и даже не видал этой книги; может быть, и не буду читать, не предвидя от ней особенной пользы, как от компиляции, в чем сам автор очень наивно признается. Он написал ее для детей и, потому ли, или почему другому, взялся знакомить своих читателей даже с восточными литературами, которых не знает, решась на это именно потому, что и «другие об этом не больше его знают». Причина очень достаточная, оправдание очень резонное по крайней мере для Жанена! Что ж касается до нас, то мы думаем, что здесь Жанен, как говорится, превзошел самого себя в этом милом невежестве, которым он гордится, как достоинством, как заслугою: честь и слава ему! Итак, я не буду поверять мнений г. Шевырева касательно Жаненовой книги: они очень справедливы; не буду защищать ее от ожесточенных нападков нашего критика: они очень дельны, хотя немного и утрированы, потому что Жанена оправдывает несколько его откровенность и потому что от автора не должно требовать больше того, что он сам обещает. Если можно его обвинять, и обвинять сильно, как обвиняет г. Шевырев, так это за то, что он взялся не за свое дело; но и на это он может отвечать: почему ж никто не сделал ничего в этом роде лучше меня, а я выполнил, как умел, то, что обещал. Короче сказать: касательно мнения о самой книге мы почти согласны с г. Шевыревым и прикладываем руку к его приговору, даже и не читавши этого опального произведения литературного повесы Жанена. Но мы решительно не согласны с г. Шевыревым насчет его мнения о самом Жанене; его взгляд на этого писателя был бы очень справедлив, если бы не отзывался каким-то безотчетным и безусловным предубеждением против всей современной французской литературы, предубеждением, которое очень понятно в татарском критике «Библиотеки для чтения», отводящем глаза православному русскому народу от своих проказ, но которое совсем непонятно в г. Шевыреве, не имеющем никакой нужды придерживаться такого образа мыслей. Дело вот в чем: г. Шевырев говорит, что весь Жанен заключается в газетном фельетоне, что вся сила, все могущество его таланта заключается в слоге, им самим созданном и никому другому недоступном, не исключая даже гг. Брамбеуса и Тютюнджи-Оглу, которые, силясь подражать ему, только карикатурно передражнивают его. Да, это очень справедливо: журнальная проза составляет главную стихию Жаненова таланта, главную, но не исключительную, как мы думаем. Жанен не ученый, не критик, а просто литератор, в высочайшей степени обладающий талантом говорить на бумаге, литератор, каждая статья которого есть беседа (conversation) умного, образованного и острого человека, разговор беглый, живой, перелетный как бабочка, трескучий как догорающий огонек камина, дробящий предмет как граненый хрусталь; присовокупите к этому неподражаемую легкость и болтливость языка, легкомысленность в суждении, неистощимую, огненную деятельность, всегдашнюю готовность говорить о чем угодно, даже и о том, чего не знает, но в том и в другом случае говорить умно, остро, увлекательно, грациозно, мило, хотя часто и неосновательно, вздорно, бесстыдно: и вот вам причина народности Жанена. Что Беранже в поэзии, то Жанен в журнальной литературе. Мы этим не думаем равнять великого и истинного поэта современной Франции с журнальным болтуном: мы только хотим сказать, что тот и другой суть выражение своего народа и потому его исключительные любимцы. Но Жанен, как француз по преимуществу, имеет и другие качества, свойственные одному ему и больше никому: он мило бесстыден, простодушно нагл, гордо невежествен, простительно бессовестен, кокетливо продажен и непостоянен во мнениях. Эта умышленная и сознательная неверность самому себе, эта изменчивость во мнениях была бы возмутительно-отвратительна в англичанине, особливо в немце; но в Жанене, как во французе, она простительна, мила даже, как кокетство в прекрасной женщине. Он лжет, хочет вас обмануть, вы это замечаете – и только смеетесь, а не оскорбляетесь, не возмущаетесь. Жанен имеет на это исключительную привилегию, и этой-то привилегии не хотел заметить г. Шевырев. Он с ожесточением нападает на легкомыслие, с каким Жанен за все хватается, на недобросовестность, с какою все выполняет, и на какое-то хвастовство и недобросовестностью и невежеством; но он не хотел уяснить себе идеи, выражаемой словом «Жанен», не хотел увидеть, что Жанен есть род журнального паяца, который тешит публику и между тем безнаказанно дает щелчки тому и другому, пускает в оборот и дельную мысль и умышленный софизм, и все это часто из одного невинного желания попаясничать, потешиться. Но пусть будет так: мы не хотим спорить насчет этого с г. Шевыревым, но нас крайне изумило его мнение, что Жанен будто бы «плохой романист»… Плохой романист!.. Помилуйте: ведь это слишком много значит, ведь это что-то чрезвычайно смешное, чрезвычайно жалкое, ведь плохой романист, как и плохой поэт, есть посмешище, притча во языцех, рыцарь печального образа в полном смысле этого слова. Неужели таким считается во Франции автор «Барнава»?.. У всякого свой вкус, и мы не хотим переуверять г. Шевырева насчет истинного достоинства романов Жанена, но мы осмеливаемся иметь и свой вкус и почитать романы Жанена хорошими, а не плохими; равным образом смеем уверить наших читателей, что и во Франции, как и во всей Европе, не все думают о романах Жанена согласно с г. Шевыревым. Что касается до нас лично, мы имеем вообще о французской литературе, а следовательно и о романах Жанена, понятие современное, всеми признанное, для всех общее и ни для кого не новое. Мы думаем, что французской литературе недостает чистого, свободного творчества вследствие зависимости от политики, общественности и вообще национального характера французов, что ей вредит скорописность, дух не столько века, сколько дня, обаяние суетности и тщеславия, жажда успеха во что бы то ни стало[5 - Такое истолкование французской литературы было выдвинуто издателем «Телескопа» Надеждиным в его путевых записках (1836).]. Все это можно приложить и к романам и повестям Жанена и вследствие всего этого можно найти в них важные недостатки; но невозможно не признать в них следов яркого и сильного таланта. Жанен романист и повествователь, точь-в-точь как все модные французские романисты и повествователи, и мы только безусловным предубеждением г. Шевырева против всей французской литературы можем объяснить его немилость к Жанену и слишком смелый эпитет, придаваемый им ему как романисту. Поэтому мы почли за долг заступиться за Жанена, как за романиста, сколько из любви к истине, столько и потому, что для нашей публики слишком достаточно возгласов «Библиотеки для чтения» против французской словесности: зачем же отбивать у этого журнала насущный хлеб и помогать ему в цели, которой он и без всякой чужой помощи, вероятно, успешно достигает?.. Прибавим к этому еще, что окончание статьи г. Шевырева привело нас в ужас: в самом деле, кто не почтет следующих слов как бы взятыми на выдержку из «Библиотеки для чтения»?
Вот как составляются иные книги во Франции! Вот чем угощают французское юношество! Вот как известный литератор наряжается добро вольно в лоскутья чужих трудов и сам перед своею публикою добровольно сознается в этом!.. Что за нравственность в той литературе, где бесчинная хищность имеет еще смелость быть мило откровенною?..
Мы слишком далеко от того, чтоб подозревать г. Шевырева в симпатии с Бароном Брамбеусом насчет французской литературы, но мы не можем понять, как можно по одному примеру и по одному литератору делать такое невыгодное заключение о целой литературе и произносить ей такой грозный приговор?..[6 - Действительно, Шевырев повторил оценку Сенковского, который писал: «Это прямо вторая французская революция в священной ограде нравственности…» («Библиотека для чтения», 1834, т. III).] И что худого, что автор, издавая компиляцию, сам предуведомляет читателя, что это компиляция?.. Что касается до чужих лоскутьев, то в них и у нас любят рядиться; только не любят в этом сознаваться: а это разве лучше?.. Право, слишком уже приторны эти безотчетные, ни на чем не основанные возгласы о безнравственности литературы целого народа, литературы, которая имеет Шатобрианов и Ламартинов, и мы очень бы желали, чтоб наши нравоучители или растолковали нам, в чем именно состоит эта безнравственность, или поукротили бы свое негодование!.. Эти возгласы, какие бы причины ни производили их, тем досаднее, что простодушная неосновательность во мнениях часто может иметь одни следствия с хитрою неблагонамеренностью и что вследствие того иной добросовестный литератор может попасть в одну категорию с витязями «Библиотеки для чтения»…
Теперь мне следует рассмотреть седьмую статью г. Шевырева, которая может назваться и критическою, и полемическою, и филологическою, и художественною: разумею перевод седьмой песни «Освобожденного Иерусалима». Да, я смотрю на этот перевод не иначе как на журнальную статью, в которой есть немного критики, очень много полемики, а больше всего шуму и грому. Дело в том, что этот перевод снабжен чем-то вроде предисловия, в котором г. Шевырев не шутя грозится произвести ужасную реформу в нашем стихосложении, изгнать наши бойкие ямбы, наши звучные, металлические хореи, наши гармонические дактили, амфибрахии, анапесты и заменить их – чем бы вы думали? – тоническим рифмом наших народных песен, этим рифмом столь родным нашему языку, столь естественным и музыкальным?., нет! – италиянскою октавою!..
Статейка начинается жалобою на какого-то журналиста, который не хотел поместить в одном нумере своего журнала всего перевода седьмой песни «Освобожденного Иерусалима», а поместил его в виде отрывков в нескольких нумерах, чем повредил его доброму впечатлению на публику. «Переводчик, – говорит г. Шевырев, – тогда отсутствовал, а отсутствовавшие всегда виноваты, по известной пословице». Сначала этот упрек, как ни казался основательным, удивил меня немного своею горечью, но когда я прочел октавы, то вполне разделил благородное негодование г. Шевырева на злого журналиста и хотел сгоряча написать на него презлую статью. В самом деле, перекроить в отрывки экономическим расчетом журнала такой опыт, которым затевалась такая важная реформа и который весь состоял из таких звучных, гармонических октав, как, например, следующие:
Кружит шаги широкими кругами,
Стеснив доспех, мечом махая праздно;
Меж тем Танкред, хоть утомлен путями,
Идет и напирает безотвязно,
И всякий шаг, соперника стопами
Уступленный, приемлет неотказно,
И все к нему теснится сгоряча,
В глаза сверкая молнией меча.
. . . . . . . .
Потом кружит отселе и оттоле,
И вновь кружит оттоле и отселе,
И всякий раз вскипая более и боле.
Разит врага тяжеле и тяжеле,
Все, что есть сил в горящей гневом воле,
В искусстве опытном и в ветхом теле,
Все ко вреду Черкеса съединяет,
И счастие и небо заклинает.
О! только бы узнать мне имя этого варвара-журналиста, а то не уйти ему от меня!.. Но пока последуем за г. Шевыревым в его объяснениях затеваемой им реформы[7 - Ирония над жалобою Шевырева на Надеждина. Белинский, конечно, прекрасно знал, что «какой-то журналист-варвар» – это Надеждин, поместивший в «Телескопе» только часть предисловия и перевода Шевырева (1836, ч. III, кн. VI).К переводу Шевырева Белинский и члены кружка Станкевича относились отрицательно.].
Он говорит, что тогда его опыт явился в неблагоприятное время, потому что «слух наш лелеялся какою-то негою однообразных звуков, мысль спокойно дремала под эту мелодию и язык превращал слова в одни звуки»(?), а в октавах его «нарушались все условные правила нашей просодии, объявлялся совершенный развод мужеским и женским рифмам, хорей впутывался в ямб, две гласные принимались за один слог».
Понятно теперь для вас, в чем состоит реформа г. Шевырева?.. Думаю, что очень понятно. Но нужна ли она и возможна ли?..
Как ни неприятно и ни скучно заниматься разбирательством таких вопросов, но я обрек себя на это и должен выполнить начатое во что бы то ни стало.
Для чего нам октавы? Для того же, для чего нам были нужны эпические поэмы, оды, а теперь романы; для того же, для чего нам нужны были героические гекзаметры, да еще с спондеями и элегические пентаметры. У всех народов были эпические поэмы – стало быть, и нам нужно было иметь их, да еще не одну, а дюжину; во всех европейских литературах лиризм проявлялся в форме надутых од – стало быть, и нашим лирикам надо было надуваться; у греков и римлян поэмы писаны были гекзаметрами, а элегии гекзаметрами и пентаметрами попеременно – стало быть, и нам надо было гекзаметров и пентаметров во что бы то ни стало, а так как их не было в языке, то ради предстоящей потребности сработали кое-как свои, заменив спондей хореем[6 - Один из литераторов и поэтов, ныне забытых, а прежде считавшихся знаменитыми, изобрел было и спондей; но его изобретение имело одну участь с изобретением гекзаметров «профессором элоквенции, а паче всего хитростей пиитических», Василием Кирилловичем Тредиаковским.]; теперь у итальянцев есть октавы – как же не быть им у нас?.. Вы скажете, что их октавы родились из духа и просодии их языка, что они родились сами, а не изобретены, что русский язык не итальянский, что два слога за один принимать можно только в пении, а не в чтении, для которого преимущественно пишутся стихи, и бог знает, чего вы еще не скажете!.. Я сам думал доселе, что размер не есть дело условное, что наши ямбы и хореи не чистые ямбы и хореи, что они близки к тонизму нашего народного рифма и потому так подружились с нашей поэзиею; а дактили, амфибрахии и анапесты совершенно согласны с духом нашего языка, потому что в народных песнях встречаются целые стихи дактилические, амфибрахические и анапестические. Равным образом я всегда думал, что гекзаметр есть метр искусственный, и потому тяжелый, утомительный для чтения и никогда не могущий привиться к нашему стихосложению. Как же хотеть заставить нас писать октавами, которые должно читать как прозу, в которых нет сочетания, где объявляется совершенный развод мужеским и женским рифмам?.. Впрочем, я еще думал и то, что размер не составляет сущности искусства, в котором главное дело творчество, изящество, красота; что поэт имеет право писать и ямбами, и хореями, и дактилями, и амфибрахиями, и анапестами, и гекзаметрами, и пентаметрами, и даже октавами, лишь бы только он хорошо писал. Но г. Шевырев решительно разуверил меня во всех моих теплых верованиях насчет русского стихосложения неопровержимыми доказательствами. С моей стороны осталось было одно только возражение против него: я думал, что когда нововведение в духе языка, то должно иметь успех, а г. Шевырев не нашел ни одного последователя; но и это возражение уничтожается само собою: мы узнаем, что
давно мы не слышим бывалых стихов. Если и слышим, то изредка. Читаем все прозу и прозу. Может быть, это безмолвие, господствующее в мире нашей поэзии, эта чудная тишина, эта пустыня пророчит какой-нибудь переворот в нашем стихотворном языке, в формах нашей просодии. Благодаря этой тишине слух отвыкнет от прежней монотонии; нервы его окрепнут, вылечатся от расслабления – и он будет способен выносить звуки и сильнее и тверже. Теперь едва ли не совершается у нас время перехода, ознаменованное бездействием почти всех наших поэтов, которые, в последнее время, водя слегка привычными пальцами по струнам, дремали, дремали, и теперь заснули на своих лирах и спят до нового пробуждения!
Итак – спокойной ночи, приятного сна гг. поэтам!.. Пока они проснутся от скрипа октав г. нововводителя, мы решим и без них, почему эти октавы не произвели никаких следствий: потому что явились немного рано, во время перехода, а не по его окончании. Наш слух только окрепает, но еще не окреп: новые октавы немного дерут его. Но погодите, скоро он прислушается к этому, особливо когда молодое поколение, вняв голосу г. реформатора, придет к нему на помощь. Подвиг великий, интерес всеобщий, вопрос мировой! Дело идет о судьбе искусства в России, которое непременно погибнет без октав: так молодому ли поколению оставаться праздным, когда его деятельности предстоит такое обширное поле!..
Не хотите ли знать, как пришла г. Шевыреву эта прекрасная мысль? Послушаем его самого:
C последними звуками нашей монотонной музы в ушах я уехал в Италию… Долго я не слыхал русских стихов, которые памятны мне были только своим однозвучием (??!!)… Вслушивался в сильную гармонию Данта и Тасса… Обратился к нашим первым мастерам – нашел в них силу… устыдился изнеженности, слабости и скудости нашего современного языка русского… Все свои чувства и мысли об этом я выразил тогда в моем послании к А. С. Пушкину, как представителю нашей поэзии[7 - Не знаем, не вследствие ли уж этого послания, Пушкин написал октавами свою шуточную и остроумную безделку «Домик в Коломне»; только октавы Пушкина состоят в одном расположении рифм и осьмистиший строф, а во всем прочем они не что иное, как правильные, цезурные пятистопные ямбы; в них нет даже развода мужеским и женским стихам, а только разрешение наглагольной рифмы. Вообще это стихотворение есть шутка, написанная без всяких претензий на важность и нововведение.]. Я предчувствовал необходимость переворота в нашем стихотворном языке: мне думалось, что сильные, огромные произведения Музы не могут у нас явиться в таких тесных, скудных формах языка; что нам нужен большой простор для новых подвигов. Без этого переворота ни создать свое великое, ни переводить творения чужие мне казалось и кажется до сих пор невозможным (???). Но я догадывался также, что для такого переворота надо всем замолчать на несколько времени, надо отучить слух публики от дурной привычки… Так теперь и делается. Поэты молчат. Первая половина моего предчувствия сбылась: авось сбудется и другая.
Пока сбудется вторая половина предчувствия г. Шевырева, подивимся, как много новых истин заключается в немногих его строках, выписанных нами! Мы думали, что, например, стихи Пушкина памятны всякому образованному русскому своим высоким художественным достоинством, а не одним своим однозвучием: теперь ясно, что мы ошибались! Потом мы думали, что «сильные, огромные произведения Музы» могут являться также хорошо и в «тесных и скудных формах языка», как в широких и богатых, основываясь на примере Шекспира и Байрона, которые заковывали свои исполинские создания в бедные и однообразные метры английского стихосложения и которые, право, не ниже хоть, например, господина Виргилия, отца немного тощей мыслями «Энеиды», хотя писанной богатым, роскошным гекзаметром: и это наше мнение оказалось ложным. Наконец «нам надо всем замолчать на несколько времени – (вот в этом-то мы вполне согласны с г. Шевыревым!) – надо отучить слух публики от дурной привычки… Так теперь и делается… Поэты молчат». А! так вот почему они молчат?.. Они ожидали реформы, а не по неимению голоса?.. Боже мой! как много нового можно иногда сказать в немногих словах!..
Я сам знаю недостатки моей копии. Стихи мои слишком резки, часто жестки и даже грубы.
Мы с этим совсем не согласны, но не хотим опровергать скромного переводчика, потому что приведенные нами в пример две октавы его могут служить самым убедительным опровержением этих слов… Но довольно об октавах!..
Теперь следует разбор г. Шевырева стихотворений г. Бенедиктова… Этот разбор замечателен: он доставил новому стихотворцу большую известность, по крайней мере в Москве. И не удивительно: этот разбор есть истинный дифирамб, истинное излияние восторженного чувства: это доказывает и непомерное обилие точек после каждого периода, и необыкновенная цветистость языка… Тем строжайшему разбору должен бы подвергнуться этот разбор; но, с одной стороны, у кого достанет духа холодною прозою рассудка опровергать пламенную поэзию чувства, плодом которого был этот вдохновенный разбор; с другой же стороны, я твердо решился ничего больше не говорить о стихотворениях г. Бенедиктова, тем более что моя решительность сделалась еще тверже, когда я прочел в «Библиотеке для чтения» новое стихотворение этого поэта «Кудри», где он говорит, как приятно наматывать на палец кудри и припекать их поцелуями: что можно сказать против такой поэзии?
Но, оставляя в стороне вопрос о стихотворениях г. Бенедиктова, взглянем на статью г. Шевырева, взглянем хладнокровно и даже холодно: мы не остудим этим ее теплоты. Сначала критик радуется звукам новой лиры, внезапно раздавшейся среди всеобщего затишья наших лир. Итак, еще старые поэты спят (да продлит господь их сон!), они еще не проснулись, а уж явился новый поэт – с чем же? и с октавою?.. О нет! с прежними монотонными ямбами, хореями, амфибра-хиями – но зато «с глубокою мыслию на челе, с чувством нравственного целомудрия, и даже с некоторым опытом жизни». Так, стало быть, и без октав можно еще быть глубоким в мыслях и, следовательно, глубоким в чувстве?.. Потом критик спрашивает себя, что ему делать от такой внезапной радости: поздравить ли русскую публику с великим поэтом или сохранить строгую неподвижность, как будто недоступную никакому насилию впечатления, сказать только: «хорошо, но посмотрим!» и тем взять на себя «душегубство неразвившегося таланта»?.. Критик не долго думал и, разумеется, решился на первое, а мы пока остановимся на «душегубстве».
Есть странное мнение, что строгий и резкий приговор может убить неразвившееся дарование. Правда ли это? Положим, если и может – тогда что ж за беда такая?.. К чему эти поэты, которых заставляет замолчать первая выходка критики, как раскричавшегося ребенка лоза няньки? – Истинного и сильного таланта не убьет суровость критики, так же как незначительного не подымет ее привет. Поэтом может назваться только тот, кто не может не писать, кто не в силах удерживать вечно пламенных порывов своей фантазии. Вспомните, как Встречен был Байрон; вспомните, как встречен был наш Пушкин: что ж – испугался ли тот и другой? Первый отвечал Желчною сатирою и «Чайльд-Гарольдом»; второй тоже продолжал итти вперед и, как будто тешась над своими аристархами, припечатал их поучения ко второму изданию «Руслана и Людмилы». В истинном поэте предполагается глубокая вера в свое призвание; притом же, если критика несправедлива, она встречает сильную оппозицию в публике.
В Западной Европе еще может иметь смысл это мнение, у нас же решительно никакого; там, если освистано первое произведение неразвившегося таланта, этот талант может умереть с голоду, прежде нежели напишет второе произведение, которое должно поднять его во мнении публики; у нас, слава богу, никто с голоду не умирает, и вопрос о жизни и смерти не решается изданием книжки стихотворений. Нет, не нужно нам поэтов, которых талант может убить первая строгая или несправедливая критика; у нас и так их много; если критика заставит хоть одного из них благоразумно замолчать, то сделает очень доброе дело…
После могучего, первоначального периода создания языка расцвел в нашей поэзии период форм самых изящных, самых утонченных… Это был период картин, роскошных описаний, гармонии чудесной, живой, хотя однообразной, неги, иногда глубины чувства, растворенной тоскою о прошлом… Одним словом, это была эпоха изящного материализма в нашей поэзии… Слух наш дрожал от какой-то роскоши раздражительных звуков… упивался ими, скользил по ним, иногда не вслушиваяся в них… Воображение наслаждалось картинами, но более чувственными… Иногда только внутреннее чувство, чувство сердечное, и особливо чувство грусти неземной веяло чем-то духовным в поэзии… Но материализм торжествовал… Формы убивали дух…
Вот приступ г. Шевырева к похвальному слову г. Бенедиктову. После этого приступа он говорит:
Есть другая сторона в поэзии, другой мир – мир мысли, мир идеи поэтической, которая скрыта глубоко. В некоторых современных поэтах проявлялось стремление к мысли, но было частию следствием не столько поэтического, сколько философического направления, привитого к нам из Германии… Для форм мы уже сделали много, для мысли еще мало, почти ничего. Период форм, период материальный, языческий, одним словом, период стихов и пластицизма уже кончился в нашей литературе сладкозвучною сказкою: пора наступить другому периоду, духовному, периоду мысли!
Нужно ли говорить, кто у г. Шевырева является главою этого ожиданного периода мысли в истории нашей литературы?.. Довольно – остановимся на этом.
Итак, первый русский поэт, создания которого проникнуты мыслию, есть – г. Бенедиктов!.. Поздравляем г. Шевырева с открытием, а публику с приобретением!.. У нас шутить не любят; как примутся хвалить, так как раз в боги запишут и храм соорудят. Но пусть так – похвала от убеждения не беда; но ведь убеждение-то должно же быть согласно с здравым смыслом?.. Но отдавая должное г. Бенедиктову, г. Шевырев должен же был, по своему ж убеждению, не обижать заслуженных корифеев нашей литературы?.. Так г. Бенедиктов выше Пушкина, Жуковского, Грибоедова, не говоря уже о Козлове, Подолинском, Веневитинове, Ф. Глинке и других?.. Когда у нас был этот «период картин, роскошных описаний», эта «эпоха изящного материализма»?.. Кто ее представители?.. Гг. Языков и Хомяков, из которых первый есть неоспоримо поэт, поэт истинный, но поэт именно картин, роскошных описаний, поэт изящного материализма, второй же блистательный поэт выражения, и только выражения, подделывающийся под мысль, но сильный одним только выражением?.. Если так, то мы совершенно согласны с г. Шевыревым, но ведь гг. Языков и Хомяков не суть представители всей нашей поэзии, но ведь они стоят и не в первом ряду наших поэтов, которых, впрочем, так немного, но ведь остаются еще Пушкин, Жуковский, Грибоедов, впереди которых нет никого и за которыми стоят еще и другие дарования, кроме гг. Языкова и Хомякова. Пушкин может принадлежать к периоду «изящного материализма» только «Русланом и Людмилою». Разве в черкешенке его «Кавказского пленника» нет идеи, нет мысли? Разве его Зарема, Мария, Гирей, его Алеко, Земфира – словом, вся поэма «Цыганы» не суть произведения мысли глубокой, могучей, поэтической? А Мария, Мазепа, Кочубей «Полтавы» – в них тоже нет Мысли? А Годунов – неужели в нем меньше мысли, чем в стихотворных побрякушках г. Бенедиктова? А «Онегин», этот живой, движущийся мир лиц, мыслей, чувств?.. Теперь о Жуковском. Конечно, многие его пиесы, как то «Певец во стане русских воинов», «Певец на Кремле», «Песнь Барда над гробом славян-победителей», большая часть посланий, некоторые переводы, как, например, «Пиршество Александра» из Драйдена, большая часть баллад – конечно, все это не поэзия в собственном смысле, все это не больше, как прекрасные стихи, которые все-таки в миллион раз лучше стихов г. Бенедиктова; но за Жуковским остаются еще его элегии, романсы, песни, переводные и оригинальные, его «Ахилл» и «Эолова арфа», его перевод «Иоанны д'Арк»: разве во всем этом нет мысли, нет идеи, разве все это относится к периоду «изящного материализма, периоду форм, поглощавших идеи»?.. Странно!.. «Горе от ума» тоже прекрасно одними формами и лишено мысли, идеи… Не понимаем!.. Итак, даже сам Пушкин ниже г. Бенедиктова?.. Поздравляем!.. Вот вам заслуга, вот вам слава ваша, поэты!
Вот ваши строгие ценители и судьи!
Да впрочем, что ж тут неприятного для поэтов? Они могут отвечать нам стихом из той же комедии:
А судьи – кто?..
Повторяю – убеждение прекрасно, но оно должно быть основано по крайней мере хоть на здравом смысле, если не на чувстве, не на уме, иначе это убеждение будет хуже неспособности иметь какое-либо убеждение. В этом случае мы говорим смело и твердо: мы опираемся на публику, на всех образованных людей, на здравый смысл, на ум, на чувство. Другое дело – достоинство стихотворений г. Бенедиктова: оно еще может быть до некоторой степени и для некоторых людей спорным вопросом; но такие гиперболические похвалы – воля ваша – они похожи на оду какого-нибудь Гафиза или Саади персидскому шаху…
Но этим не все кончилось: вот еще мысль г. Шевырева, которая удивляет своею странностию по крайней мере нас: