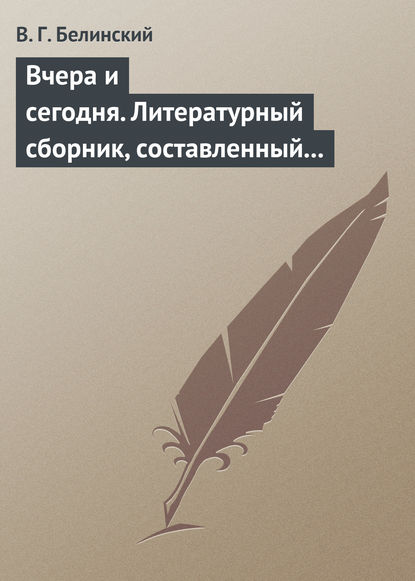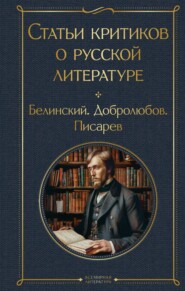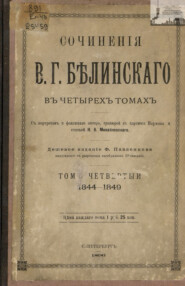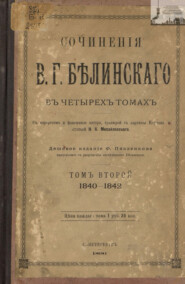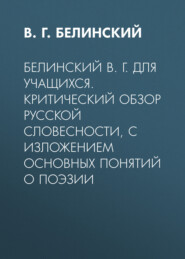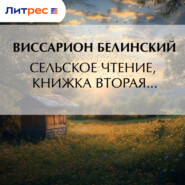По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный гр. В.А. Соллогубом. Книга вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, на нынешний день, кажется, довольно… Завтра не ушло, – заметил основательно майор, – а любопытно мне видеть, как ты выиграешь.
Стулья с шумом полетели на пол.
Каждый отыскал, как мог, сюртук свой и фуражку. Слуги бросились к столу допивать оставленное вино, а буйная ватага хлынула лавиной к театру. Гусар шел впереди с фуражкой на затылке, с выпученными глазами, красный, как рак, махая руками, но не совсем с спокойным сердцем. Два товарища вели его почтительно под руки. Входя в театр, они подняли такой шум, что едва не остановили пиесы. Наконец они уселись. Двое из разгульной толпы тут же заснули на креслах, прочие начали шутить вслух, аплодировать, вызывать и шуметь таким образом, что театр действительно чуть-чуть не рушился.
Грустно было в этот вечер Наташе. Скрепя сердце, нехотя исполняла она какую-то вялую роль нашего домашнего произведения. Она чувствовала, что она слишком скоро предалась минутному обману, что нежное ее сердце никогда не очерствеет от грубого прикосновения не понимающих ее людей. С ней играл гимназист, истерзанный раскаянием и сомнением, убитый сознанием, что она низошла до него по ступеням злополучия и что он не сумел сохранить своего благоговения перед святыней ее несчастия. Они говорили друг другу перед публикой какие-то пошлые слова, в которых не было ни чувства, ни смысла, ни истины, а в Душах их разыгрывалась настоящая страшная драма страстей и печалей человеческих.
Когда первое действие кончилось, гимназист вышел подышать на площадку, на которой находился театральный сарай. На лестнице встретил он разгульную ватагу ремонтеров, идущих, по обыкновению, любезничать во время антракта за кулисами. Гимназист побледнел и нахмурил брови. Девица Иванова стояла подле него с коварной улыбкой.
– Какие хорошенькие Наталья Павловна, – сказала она. – Просто прелести… зато – уж надо сказать… всем ндравятся.
Гимназист не отвечал.
– Уж надо сказать… – продолжала девица Иванова, – какие эти кавалеры странные: на все готовы, только чтоб на своем поставить. Настенька говорила давеча, что гусарский офицер обещается жениться на Наталье Павловне… Уж такой модник, право!
Гимназист поспешно обернулся и так взглянул на актрису, что она отступила на шаг, однако же продолжала говорить:
– Вот и будет вам за то, что зазнались, старых приятелей, забыли… И поделом вам… право… слышите шум… право, шумят… Уж не сговор ли справляют.
На сцене действительно слышен был странный шум.
Гимназист бросился к театру, мигом вскочил на лестницу, отворял дверь – и остановился, как бы пораженный громом. Лицо его страшно исказилось, глаза налились кровью, волосы стали дыбом, бледность смерти покрыла его черты, на устах показалась пена, и все члены его затряслись, как бы в лихорадке. Гусар держал Наташу в своих объятиях, посреди толпы ремонтеров, которые смеялись и аплодировали. Кровавое зарево отуманило глаза гимназиста. Он не двигался… Веселая шайка прошла, смеясь, мимо него. Он не остановил ее. Но когда Наташа, трепетная, едва дышащая, почти без чувств, дотащилась до него, он отскочил от нее, как от змеи, и вся грубая сторона его души вдруг разразилась страшными проклятиями, ругательствами и сквернословиями. И вдруг, забывшись совершенно, он ринулся на несчастную свою жертву, ударил ее в лицо, только что опозоренное нечистым поцелуем, и с неистовыми упреками в измене и распутстве поверг ее на землю. В эту минуту кинулись на него с двух сторон Петров и Иван Кузьмич. Петров из любви к Наташе, Иван Кузьмич из опасения, что публика услышит сцену, не объявленную в афишке… Вдвоем вытолкали они безумного вон из театра. Как только пахнуло свежим воздухом, гимназист остановился… схватил голову обеими руками и, как бы вдруг опомнившись, закричал диким, почти нечеловеческим голосом и пустился бежать, не оглядываясь. Куда убежал он, неизвестно, но никогда ни в Теменеве, ни в губернском городе его никто уже более не видал.
Легко и с удовольствием перелистывается статья г. Ефебовского «Петербургские разносчики». Интересна (хотя и не в литературном отношении) статья: «Глава из «Тарантаса»: «Купцы», исправленная купцом». Довольно скучна статья «Амена» отрывок из романа «Стебеловский») – нечто вроде неудачного раздражения мысли, взятой в плен из сочинений Шатобриана.
Стихов довольно, но хорошего мало. «Грезы» г. Майкова, может быть, и хороши, но они ниже его таланта, и нам, любя и уважая его прекрасный талант, неприятно видеть их в печати. «Опять весна», стихотворение Баратынского, будучи им отделано, могло б быть хорошо, но оставшись не отделанным, могло б остаться и не напечатанным. «Лорелея» – уж и не помним который перевод довольно пустой пьесы Гейне. Г-н Плещеев, имя которого довольно часто мелькает теперь в разных повременных изданиях, под весьма бесцветными стишками «К ней» и, не помним, к чему-то еще, напечатал во «Вчера и сегодня» перевод целых восьми пьес из Гейне, Вот первая из них;
Был старый король (эту песню
Я, други, слыхал в старину),
Седой и с остылой душою;
Он взял молодую жену.
Был паж с голубыми глазами,
Исполнен отваги и сил;
Он шелковый шлейф королевы,
Младой королевы носил.
Докончить ли старую песню?..
Звучит так уныло она…
Она (песня?) слишком сильно любила,
И смерть им (кому?) была суждена!..
Что же дальше? – Ничего. Сам Гейне спрашивает: «докончить ли?», чувствуя, что немного найдется охотников слушать такие пустяки. Перевод, как видите, так же неудачен, как не современен выбор пьесы для перевода.
Кроме всего этого, во второй книжке «Вчера и сегодня» помещено из бумаг покойного Лермонтова четыре стихотворения и одна (совершенно незначительная) статья в прозе – «Ашик-Кериб». Одно из стихотворений превосходно, но зато не ново; это – «Есть речи – значенье»; нового в нем четыре лишние куплета, исключенные самим автором, как неудачные и ослабляющие силу целой пьесы. Три другие стихотворения Лермонтова, помещенные во «Вчера и сегодня», – явно первые опыты Лермонтова; но они тем не менее интересны. Последняя из них – «Беглец», горская легенда, блещет местами сильным стихом; вторая – «Вид гор из степей Козлова» – прекрасный перевод одного из крымских сонетов Мицкевича («Пилигрим»); первая – «Не смейся», замечательна, как автобиографическая черта, невольно заставляющая призадуматься о судьбе поэта… Две первые выписываем здесь:
Не смейся
Не смейся над моей пророческой тоскою.
Я знал, удар судьбы меня не обойдет,
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на…..перейдет.
Я говорил тебе, ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти. – Настанет час кровавый…
И я паду, – и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений, —
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений…
Но я без страха жду довременный конец;
Давно пора мне мир увидеть новый.
Пускай толпа растопчет мой венец,
Венец певца, венец терновый
Вид гор из степей Козлова
Пилигрим
Аллах ли там среди пустыни
Застывших волн воздвиг твердыни,
Притоны ангелам своим;
Иль дивы, словом роковым,
Стеной умели так высоко
Громады скал нагромоздить,
Чтоб путь на север заградить
Звездам, кочующим с востока?
Вот месяц небо озарил.
То не пожар ли Царяграда?
Иль Бог ко сводам пригвоздил
Тебя, полночная лампада,
Маяк спасительный, отрада
Плывущих по морю светил?
Мирза
Там был я, там, со дня созданья,
Бушует вечная метель;
Потоков видел колыбель.
Дохнул, и мерзнул пар дыханья.
Я проложил мой смелый след,
Где для орлов дороги нет,
И дремлет гром над глубиною,
И там, где над моей чалмою
Одна сверкала лишь звезда,
То Чатырдах был…
Пилигрим
А!..
Издание второй книжки «Вчера и сегодня» опрятно и красиво.