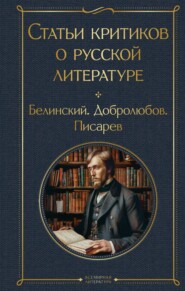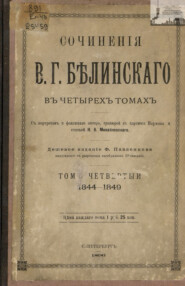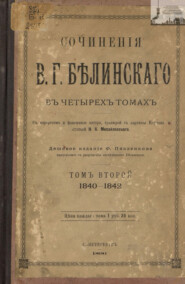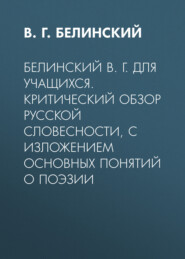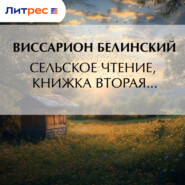По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Речь о критике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После одного стиха в «Альзире» критик наш был восторжен, а восторженный партер восплескал громко и троекратно. В IV акте, сочиненном самою Мельпоменою, критику не понравилось то, что Альзира, в предыдущих действиях «ругавшаяся европейскому о чести рассудку», тут говорит о том в другом совсем духе. «Я хвалю вас бесстрастно, так бесстрастно говорю, что мне это крайне не нравится; а речи и Альзиры и Замора божественны».
Критика заключается разбором «Меропы», и последние строки этого разбора могут служить и resume и характеристикою всей критики:
Нечего отличати: все прекрасно в сей трагедии, по сие время: придем к четвертому явлению третьего действия: музы его писали. Чего оно достойно, я чувствую, но словами изобразити не могу. Остаток действия прекрасен. Четвертое действие все весьма прекрасно. Второе явление несравненно. Четвертое явление пятого действия несравненно, и все действие прекрасно. Альзира, Цинна и Аталия, кажется мне, должны уступить первенство Меропе и Федре. Сии две трагедии будут вечною честию своим авторам и Мельпомене, и вечною славою Франции, Европе, и всему роду человеческому.
Точно подписи учителя на тетрадках школьников: не дурно, порядочно, изрядно, хорошо, очень хорошо, отлично хорошо, прекрасно, превосходно!.. Но это-то и называлось тогда критикою, и, право, Сумароков ничем не хуже многих знаменитых критиков в Европе того времени…
«Перевод с французского языка из чужестранного журнала месяца апреля 1755 года, стран. 114 и след. напечатанного в Париже. Синав и Трувор Российская трагедия сочиненная стихами господином Сумароковым» – есть не что иное, как разбор «Синава и Трувора», напечатанный в парижском журнале, переведенный самим же Сумароковым, и, может быть, им же и написанный. Статья эта заключается следующими строками:
В протчем кажется, что господин Сумароков, прежде нежели обогатил российский теятр сею трагедиею, имел знание о некоторых чужестранных теятрах: за что ему Россия тем большее благодарение приносить должна. Сколь ни остроумен он от природы, сколь ни блистают естественные его дарования везде в сем сочинении; однако может быть не столь сильно, не столь с правдою сходственно изобразил бы он любовь и ревность, есть ли бы никогда не читал Расина и Шекеспира. Что ж? Должно ли стыдиться такового училища? Самые лучшие сочинения сих авторов служили бы только к тому, чтоб в отчаяние привесть стихотворцев последующих веков, ежели бы по крайней мере не позволено было подражание. Представим себе Андромаху, Федру, Отелла, Ромеа и Иулиетту, то увидим ясно, что древние трагики не исчерпнули всей материи о сих двух, или лучше сказать, о сей единственной страсти: но всяк признает, что выше упомянутые два великие мужи не оставили ничего, чтоб после их будущие, как нечто новое, могли предложить. Итак, когда автор все силы свои на то употребляет, чтоб писать таким же образом, каким они; то чем ближе он к их слогу приходит, тем большую себе похвалу вместо строгого истязания заслуживает. Тот был бы весьма несправедлив, кто бы не приносил должной похвалы господину Сумарокову за то, что он красоты чужестранных стихотворцев не только умел познать и почитать, но и употребить оные в свою пользу. Достойное поругания невежество многих нынешних писателей подвергает сему осуждению для того, что они, приобыкнув окрадывать или грабить других авторов им единовременных и единоземцев, наполняют бесстыдным образом свои сочинения чужими мыслями и словами, не ведая в чем состоит разумное подражание. Еще меньше можно винить господина Сумарокова в том, что содержание его трагедии сходственно со многими французскими. Двух братьев, влюбившихся в одну особу, находим мы в некоторых самых лучших трагедиях, которые до сего времени остались на теятре, например: в Родогуне, Никомиде, Митридате, Британнике, Радомисте и протчих: однако никакого другого сходства не сыщется в них с Синавом и Трувором. В чем можно легко увериться, слича оную со всеми вышеписанными.
Неизвестны нам древние предания, на которых может быть одних основана вся российская история до принятия россиянами християнской веры. Автор не упоминает ничего, откуда он взял сию материю, для того и нам не можно знать, есть ли в истории какие следы приключений изображенных им в его трагедии, или содержание ее совсем вымышленное. Обнадеживают нас, что сия господина Сумарокова драма в отечестве его великий успех имела, и мы не сомневаемся, что и на других теятрах не сделает она ни малейшего ущерба чести авторовой, по крайней мере отечеству стихотворца славу принесет, как произведшему на свет такого стихотворца, который живым примером показывает о успехах наук введенных Петром Великим и процветающих под покровительством августейшей его дщери.
Критики Сумарокова на Ломоносова составляют самую забавную сторону авторства Сумарокова. Заметив в оде погрешность (не всегда истинную), Сумароков иногда очень ясно дает знать, что он таких погрешностей избегать старается, например «Межь льдистыми горами» межь льдистыми делает выговору великую трудность, что (чего) я весьма обегать стараюсь». Замечание его на два первые стиха одной оды Ломоносова может дать понятие о целой критике;
Возлюбленная тишина.
Блаженство сел, градов ограда.
Градов ограда, сказать не можно. Можно молвить, селения ограда, а не ограда града; град от того и имя свое имеет, что он огражден. Я не знаю, сверх того, что за ограда града тишина. Я думаю, что ограда града войско и оружие, а не тишина. Город имеет в родительном падеже множественного числа городов, а град градов, а не градов; для того что в именительном падеже множественного числа, город имеет звание города, а град грады, а не града и не грады.
Все это отчасти и справедливо; но сам Сумароков в своих стихах дает еще более чудовищные факты подобного терзания и коверкания языка и смысла.
Особенно оригинальна статья Сумарокова «Рассмотрение од г. Ломоносова». В ней нет никаких рассуждений, даже никакого приступа: все дело в ней решается цифрами, таким образом: «Строфы прекраснейшие: (следуют римские цифры для означения од и обыкновенные цифры для означения строф); строфы прекрасные; (цифры); строфы весьма хорошие: (цифры); строфы хорошие: (цифры); строфы изрядные: (цифры); строфы, по моему мнению, требующие большова исправления: (цифры); строфы, о которых я ничего не говорю: (цифры).
Но этим не оканчивается смешное в соперничестве Сумарокова с Ломоносовым: есть у Сумарокова отдельная статья под названием «некоторые строфы»; она вся состоит из 12-ти строф, из которых, попеременно, над одною стоит «его», а над другою «моя». Следующее же предисловие объясняет эту странную загадку:
Мне уже прискучилося слышати всегдашние о г. Ломоносове и о себе (т. е. обо мне) рассуждения. Слово громкая ода к чести автора служить не может: да сие же объяснение значит галиматию, а не великолепие. Мне приписывают нежность: и сие изъяснение трагическому автору чести не приносит. Может ли лирический автор составити честь имени своему громом! и может ли представленный в драме Геркулес быти нежною Сильвиею и Амариллою воздыхающими у Тасса и Гвариния! Во стихах г. Ломоносова многое для почерпания лирическим авторам сыщется: а я им советую взирати на его лирические красоты и отделяти хорошее от худова. Г. Ломоносов со мною несколько лет имел хорошее знакомство и ежедневное обхождение, и нередко слыхал я от него, что он сам часто гнушался, что некоторые его громким называли. Ево достоинство в одах не громкость. А что ж? об етом долго говорить, и я прилагаю здесь предисловие, и некоторые к чести ево строфы, для сравнения с моими, а не толкования. О преимуществе себе я публику не прошу; ибо похвалы выпрошенные гадки: а есть ли и г. Ломоносову дастся и в одах преимущество, я об етом тужить не стану, желал бы я только того, чтобы разбор и похвалы были основательны. В протчем я свои строфы распоряжал, как распоряжали Мальгерб и Руссо (Жан-Батист) и все нынешние лирики; а г. Ломоносов етова не наблюдал; ибо наблюдение сево, как чистота языка, гармония стопосложения, изобильные рифмы, разношение негласных литер, не привыкшим писателям толикого стоят затруднения, коликую приносят они сладость. Наконец: во надгробной надписи г. Ломоносова изображено, что он учитель поэзии и красноречия; а он никого не учил и никого не выучил; ибо г. Ломоносова честь не в риторике его состоит, но в одах. Потомки и ево и мои стихи увидят и судить нас будут, или паче письма наши; но потомки могут, или должны будут подумати, что и я по сей ему надгробной надписи был ево ученик; а я стихи писал еще тогда, когда г. Ломоносова и имени не слыхала публика. Он же в Германии писати зачал, а я в России, не имея от него не только наставления, но ниже зная его по слуху. Г. Ломоносов меня несколькими летами был по старее; но из того не следует сие, что я ево ученик, о чем я не трогая ни мало чести сево стихотворца предуведомляю потомков, которые и г. Ломоносова и меня не скоро увидят; а особливо ради того, что и язык наш и поэзии наша исчезают: а зараза пиитичества весь российский Парнас невежественно охватила: а я истребления оному предвидети не могу, жалея, что прекрасный наш язык гибнет. А что в протчем до г. Ломоносова надлежит; так я, похваляя ево, думаю только о живности его духа видного во строфах его. Великий был бы он муж во стихотворстве, ежели бы он мог вычищати оды свои, а во протчие поэзии не вдавался.
Вот как! Сумароков не любил шутить там, где чья-нибудь слава могла бросать тень на его славу. В длинной статье своей «О правописании» он беспрестанно придирается к Ломоносову, с профессорским тоном какого-то неоспоримого преимущества перед ним. Нападая на употребление буквы е вместо буквы i, достоен вместо достоiн, бывшей, вместо бывшiй, Сумароков не без основательности замечает, что «сие нововведенное правило не имеет основания ни на свойстве языка, ни на древних книгах, ни на употреблении: а единственно на произволении г. Ломоносова и на почтении к нему его последователей, или паче сказать на сем правиле, что г. Ломоносов был академик; так полагают основание на академии, хотя он не составлял ак См. примеч. 148 в наст. томеадемии, но был ее член; и ни академия, ни Россия того не утвердила да и утверждати того Академии не можно: ибо она в науках, а не в словесных науках упражняется». Далее, Сумароков жалуется, что Ломоносов ввел в некоторых словах провинциальное произношение, как, например, лета?, вместо ле?та, градо?в, вместо гра?дов, и что «многие, не размышляя, таковые его ошибки приняли украшением пиитическим, и употребляют оные к безобразию нашего языка, что г. Ломоносову яко провинциальному уроженцу простительно, как рожденному еще и не в городе и от поселян; но протчим, которые рождены не в провинциях и не от поселян, сие извинено быть не может». – «Но (прибавляет он) дабы не подумали, что я о происхождении г. Ломоносова в ругательство ему вспоминаю; так нас не благородство, но Музы на Парнасе возводят; ибо благородство есть последнее качество нашево достоинства, и те только много о нем думают, которые другова достоинства не имеют». – Из ответа Ломоносова Сумаракову о причине заменения буквы ? буквою ф, видно, что Ломоносов не находил нужным вступать с ним в серьезные объяснения: «Эта-де литера стоит подпершися, следовательно бодряе». – «Ответ издевочен, но не важен», – замечает Сумароков. Говоря о том, что в предлоге при, употребляемом слитно с глаголами, должно сохранять букву и, не переменяя ее на i, Сумароков прибавляет: «Г. Ломоносов год целый мне в сем противуречил, и признавься по розысканию точные обстоятельности, мое мнение с великим утверждал жаром; но не успел письменно со мною в оном согласиться, или по частным со мною не до красноречия и не до языка касающимся распрям, не хотел согласиться до времени: как он покритиковал у меня не знаю за что наречие днесь, и не нашел другова к тому речения, зачал употребляти вместо ныне, нынь; но ныне не знаменует той краткой точности: а нынь не можно вместе ныне писать; ибо ? претворяти в ь писатели вольности не имеют, хотя они и стихотворцы; ибо и им дозволяется нечто, а не все, да и то что речи ни мало не обезображивает. Да и на что нынь; ибо нынь ево тоже изображает как и ныне: а краткость одного слога не стоит труда искусного рифмотворца». – Действительно, Ломоносово нынь вместо ныне так же нелепо, как и Сумароковы мя и тя вместо меня и тебя. Вообще, говоря о других, Сумароков нередко бывает и основателен и справедлив. Так, например, жалуясь на постепенную порчу языка, он приводит разительные примеры этой порчи, как то: употребление «февраль» вместо «феврарь», «пролубь» вместо «прорубь». Но зато видит иногда гибель там, где нет даже и опасности, и часто противоречит самому себе; так, например, с одной стороны, требуя, чтоб, для сохранения коренного происхождения слов, писать приятный вместо прiятный, с другой стороны не хочет, чтоб предлог воз, соединяясь с глаголами, сохранял коренную свою букву з и вооружается против этого со всем комизмом своей запальчивости. «Но бывало ли от начала мира в каком-нибудь народе такое в писании скаредство, каково мы ныне дожили! Возток, източник, превозходительство! Конечно, падение нашего языка скоро будет, когда такая нелепица могла быть восприята!»
Замечательно, как факт того времени, что Сумароков за искажение русского языка жалуется на малороссиян, и не только писателей, но и на певчих, которые, вместо во веки веков, писали и пели во вики виков, вместо тебе господи – теби господы, и т. п. «Не подумает ли кто (прибавляет Сумароков), что я вооружаюся против ученых малороссиян: нет: дай боже, чтоб не только мы, но хотя наши потомки из Малороссии другого Феофана имели! Есть нечто во красноречии худова, но сколько напротив того и славы его имени, и славы наших времен!»
После забавно-энергической выходки против возтока, източника и превозходительства Сумароков делает следующее не менее забавно-энергическое воззвание к Ломоносову:
О Ломоносов, Ломоносов! Что бы ты сказал, когда бы ты по смерти своей сим кривописанием увидел напечатаны свои сочинения! Сие тебе в возмездие, что ты участные имея со мною распри, часто мне противоборствовал и во правописании, и в другом, касающемся до нашего языка, в чем мы прежде наших участных ссор и распрей всегда согласны были; и когда мы друг от друга советы принимали, ругаяся несмысленным писателям, которых тогда еще мало было, и переводу Аргениды. Не было бы у меня более с тобою распрей, ежели бы в твое время столько врали на Руси. Были врали и при жизни твоей, но было их и мало, и были они по скромняе; а ныне они умножилися за грехи своих прародителей; и так пишут они, чтобы им и стен стыдиться надлежало; а они и просвещенных людей не стыдятся. Жаль того, что со врак не положено пошлины; а из стихотворцев не берут в рекруты; ибо полка два из них легко составить можно; а когда изо всех и сочинителей и переводчиков набирать рекрутов; так в один месяц целая великая армия на сражение будет готова; но ежели они таковые будут солдаты, каковые писатели; так не прогоним ни визиря, ни возьмем Бендеры.
Замечательна выходка Сумарокова против перевода Тредиаковского ролленевой истории: «Вот (говорит он) ожидаемая польза от умножения сочинений и переводов, которыми нас невежи обогащают! Вредно ободряли вралей похвалами, чтоб они больше врали; ибо-де не писав худо, нельзя писать и хорошо; но враки должно ли издавать на свет? Древняя история неоцененного Роллина, в переводе нашем, подает читателю, не знающему чужих языков, некоторое ему познание, к малому просвещению, без других знаний, и ко прощанию скуки: а язык наш как моровая заражает язва».
Вообще, эта статья так и дышит своею современностию и личностию Сумарокова: в ней он и его время как бы олицетворились и лично беседуют с нами.[19 - Здесь исправлена обессмысливающая всю фразу опечатка, вкравшаяся в текст «Отечественных записок» («беседуют с ними») и перешедшая во многие издания Белинского.] Кому тут не достается, кто не задевается! И писатели, и женщины, и подьячие!.. «Женщины наши (говорит критик) по большей части никакова правописания не соблюдают, и пишут как ни попало, например, матушка мая галубушка пажалуй атпишика мне душа мая где ты купила вчерашнай градитур, а иногда и гарнитул». – Против безграмотности подьячих, по длинноте филиппики, и выписать нельзя: когда Сумароков заговаривал об этом крапивном зельи, об этом хамовом поколении (как он называл подьячих), его сатирическое негодование всегда лилось рекою, затоплявшею берега свои.
Следующее место представляет для нашего времени особенно интересный факт старинной нашей литературы:
Силы (ударения над словами) писывал и я, долго того держался, хотя и ненавидел, дожидался кого себе в извержении оных сотоварища, но г. Козицкий и г. Мотонис люди и во правописании и во грамматике и во красноречии, которым я никогда ненависти моей к силам не открывал, сами предварили меня, дабы обще начати в ежемесячных сочинениях, называемых Трудолюбивою пчелою, силы извергнуть: что мы и зделали: а сие не в начале того издания начать. О, ежели бы и то принято было, в чем также будто узнав мое мнение предварил меня некогда г. Полетика, человек искусный, чтобы собственных прилагательных имен не писать большими литерами, например: российское войско и протч. Я не знаю, дельно ли еще и то, что мы большими литерами все свои страницы излишно шпикуем: а по правописанию нашему, большие литеры становилися только после точек во начале сочинения, и должны еще становиться при каждой строке в начале стиха.
Статья «О стопосложении» изобилует комически-смешными выходками Сумарокова против Ломоносова.
Г. Ломоносов знал недостатки сладкоречия: то есть, убожество рифм, затруднение, от неразноски литер, выговора, нечистоту стопосложения, темноту склада, рушение грамматики и правописания, и все то, что нежному упорно слуху и неповрежденному противно вкусу; но убегая сей великой трудности, не находя к стопосложению и довольно имея к одной только лирической поэзии способности: а при том опирался на безразборные похвалы, вместо исправления стопосложения, ево более и более портил: и став почти порчи сея образцам, не хуля того и во других, чем он сам был наполнен, открыл легкий путь ко стихотворению; но путь сей на парнасскую гору не возводит. У г. Ломоносова во строфах его много еще достойного осталось, хотя, что, или лучше сказать, хотя и все недостаточно: а у преемников ево иногда и запаха стихотворного не видно. Что г. Ломоносов был неисправный и непроворный стопослагатель, ето я не пустыми словами, но не опровергаемыми доводами покажу; и все мою истину увидят ясно: что ему много и самому часто говорено было. Жаль того, что в некакое время мы были с ним приятели, и ежедневные собеседники: и друг от друга здоровые принимали советы, я сам тогда тонкости стопосложения не знал; но после долговременною приобрел себе истинное о нем понятие практикою… А спондеи обезображивали и самые лутчие г. Ломоносова строфы, к великому мне о нем сожалению: ибо он только и г. Поповский нашему парнасу истинную честь, от начала России, что до стихов надлежит, и приносили. И есть ли бы г. Ломоносов не расстроивался со мною; не в таком бы состоянии видели мы российское красноречие, увядающее день от дня и грозящее увянути на долго. Я ему еще подпора: некоторые духовные и такие люди, каков г. Козицкий, Мотонис и им равнознающие, ежели есть такие.
Статья «О истреблении чужих слов из русского языка» может быть отнесена к любопытнейшим фактам истории русской литературы: она доказывает, что вторжение в наш язык французских слов и оборотов отнюдь не было следствием реформы Карамзина, ибо еще до него было в самом сильном разливе. Сумароков смеется над словами: фрукты, сервиз, антишамбера, камера, сюртук, суп, гувернанта, аманта, дама, валет, атут (козырь), роа (король), мокероваться, элож (похвала), принц, бурса, тоалет, пансив (задумчив), корреспонденция, кухмистр, том, эдиция, жени (то есть гений; под жени Сумароков понимал остроумие), бонсан (здравый смысл; Сумароков переводит рассуждение), эдюкация, манифик, деликатно, пассия. Однакож если многие из этих слов вывелись из употребления, зато многие и остались; гений языка умнее писателей, и знает, что принять и что исключить… Вероятно были употребительны и такие фразы, если Сумароков над ними смеется: «Я в дистракции и дезеспере; аманта моя сделала мне инфиделите; а я а ку сюр против риваля моего буду реванжироваться».
Как о черте смешного и добродушно наглого самохвальства Сумарокова нельзя не упомянуть о его вызове проездить за границею два года и потом описать свое путешествие. «Каково мое перо (говорит он), о том и по худым переводам все ученейшие в Европе знают и ту мне похвалу соплетают, которая превосходит желание авторов и тех народов, в которых науки созрели и утвердилися. И что я России сделал честь моими сочинениями, в том я всех ученейших людей во всей Европе свидетелями имею». За два года и четыре месяца он просил у правительства, кроме своего жалованья, 12 000 рублей, «которые деньги по издании моего путешествия возвратятся в казну с излишком; ибо 6000 экземпляров, продаваяся по три рубля, 18 000 рублев, а потом оная во всегдашнее время продаваться будет, и так казне убытка не будет». – «Если б таким пером, каково мое, описана была вся Европа; не дорого бы стало России, ежели бы и 300 000 на это безвозвратно употребила. Я прошу о сем не для себя, но для пользы моего отечества, а мой собственный прибыток из того только одна честь имени моему».
Эклоги Сумарокова таковы, что их теперь странно видеть в печати. Все они оканчиваются одинаково, вроде этого:
О лютый Перияндр!.. невинность исчезает,
Вручаюся тебе… Пастух на все дерзает.
Не спорит Туллия, гоня упрямство прочь,
И в исступлении препровождает ночь,
В веселии пробыв со пастухом без спора,
Доколе не взошла на пастве к ним аврора…[20 - Цитата из эклоги «Туллия».]
И несмотря на это, Сумароков и не думал быть соблазнительным или неприличным; а напротив, он хлопотал о нравственности и был уверен, что эклога такой уж род поэзии, который, по сущности своей, требовал таких сюжетов и с такими развязками. Он посвящает свои эклоги «прекрасному российского народа женскому полу», и в этом посвящении так излагает теорию эклоги, как рода поэзии:
Я вам, прекрасные, сей мой труд посвящаю: а ежели кому из вас подумается, что мои эклоги наполнены излишно любовию; так должно знати, что недостаточная (не полная?) любовь не была бы материю поэзии: сверх того должно и то вообразити, что в дни златого века не было ни бракосочетания, ни обрядов к оному принадлежащих: едина нежность только препровождаема жаром и верностью была основанием любовного блаженства. Говорят о воровстве, о убийстве, о грабеже, о ябедничестве беззазорно во всяких беседах; но уже ли такие разговоры благородняе речей любовных? А особливо когда не о скотской и не о постоянной говорится любви. В еклогах моих возвещается нежность и верность, а незлопристойное сластолюбие, и нет таковых речей, кои бы слуху были противны. Презренна любовь имущая едино сластолюбие в основании: презренны любовники, устремляющиеся обманывати слабых женщин: подвержены некоторому поношению и женщины, в обман давшиеся: презренно неблагородное сластолюбие; но любовные нежность и верность от начала мира были почтенны и до скончания мира почтенны будут. Любовь источник и основание всякого дыхания: а вдобавок сему источник и основание поэзии; так можно ли сочиняти еклоги, есть ли пиит ужаснется глупых предварений и невкусных кривотолкований. А вы, прекрасные, помните только то, что неблагопристойная любовь и непостоянство стыдны, несносны, вредны и пагубны, а не любовь, и что любовию наполненные еклоги и основанные на нежности, подпертой честностию и верностию, читательницам соблазна, точною чертою, принести не могут; хотя и нет никакова блага, из которого бы не могло быти злоупотребления. Что почтенняе правосудие; но колико из него происходит ябед и крючкотворений, а следовательно утеснений и погибели роду человеческому? И что почтенняе, еклоги ли составлять, наполненные любовным жаром и пишемые хорошим складом, или тяжебные ябедников письма, наполненные плутовством и складом писанные скаредным?
Оставьте в стороне старинный язык и вникните в мысль этого предисловия: она была мыслию века. Дезульеры, Геснеры и Флорианы писали свои эклоги и идиллии именно по этой теории. Они изображали действительность, которой никогда и нигде не бывало. Они воображали, что точно был золотой век невинности, не понимая того, что состояние невинности есть то же, что состояние животности, как то доказывают все дикие племена Африки, Америки и Австралии. Этим-то мнимоневинным людям придавали они сладенькие чувствованьица своего времени и были вполне уверены, что изображают пасторальную жизнь и что их Дафнисы, Меналки, Титиры, Коридоны, Аглаи, Хлои, Амариллы и Галатеи суть лица живые и невинные, тогда как это просто общие риторические места, как и вся поэзия (а не литература в обширном смысле) XVIII века. У Сумарокова вполне достало ума и способности понять это искусство общих мест и воспользоваться им для своего времени.
Истинный критик своего времени, Сумароков судит обо всем – о добродетели, о философии, о грамматике, о поэзии, о стеснительной системе запретительной торговли, о больших беседах, чтении романов, и пр. и пр. Часто у него попадаются мысли хотя и не глубокие, но здравые и тем более полезные для общества его времени. Можно написать целую статью о его войне против подьячих: боже мой, где и как ни пятнал, ни позорил их этот неутомимый боец! Говоря о подьячих, Сумароков становится и желчен, и остер, и вдохновенен! Ненависть к этому гнусному отродию (говоря его выражением) была живою струною его души; и кто же не согласится, что источник этой ненависти был благороден, а ее проявление не могло не принести пользы обществу: дидактическое направление в поэзии самобытной есть признак антипоэтического характера народа; но в поэзии подражательной, бывшей плодом реформы, нововведением, какова была, в своем начале, поэзия русская, дидактическое направление есть признак жизненности, социальности, и полезно как для общества, так и для самого искусства: ибо общество потому только и принялось за нее, что увидело в ней поучение, действительно полезное для него. Когда дидактическая поэзия истощила все свое содержание и не могла итти далее, против нее явилась реакция, заговорили о поэзии, как о творчестве, как о цели самой себе, а между тем привычка к чтению, занятию поэзиею благодаря ее дидактическому направлению была уже сделана. После этого нетрудно было отвергнуть дидактическую поэзию, как ложную и враждебную истинному искусству. Но это, как мы покажем в следующей статье, сделалось не вдруг, а постепенно. Сперва позволили поэзии воспевать геройские подвиги и победы, не увольняя ее от обязанности поучать; потом стали позволять ей, между прочим, быть выразительницею прихотей фантазии и, наконец, ради грации и обаятельности форм, воспевать и шалости чувства, и пенистое вино, и веселые пирушки, и сладостную лень. Уж после этого провозгласили, к крайнему соблазну литературных староверов, что искусство есть само себе цель, что поэзия вне себя цели не имеет и не должна иметь.
Так как в этой мысли заключается значительная часть истины и так как, не перейдя через нее, нельзя было понять идеи искусства, как особной и самостоятельной сферы сознания, то эта мысль и овладела свежими умами до того, что ее довели до односторонности и исключительности, а следовательно, и до нелепости. Теперь критике предстоит новая задача – примирить свободу творчества с служением историческому духу времени, с служением истине.
Итак, дидактическое направление Сумарокова было полезно для современного ему общества. В этом отношении его эпистолы и сатиры имеют свою относительную ценность. Несмотря на грубый язык, цинизм выражений, для многих было весьма полезно и поучительно в тот зараженный спесью барства век читать, например, такие стихи:
Сию сатиру вам, дворяня, приношу:
Ко членам первым я отечества пишу.
Дворяня без меня свой долг довольно знают;
Но многие одно дворянство вспоминают,
Не помня, что от баб рожденным и от дам,
Без исключения всем праотец Адам.
На то ль дворяня мы, чтоб люди работали,
А мы бы их труды по знатности глотали?
Какое барина различье с мужиком?
И тот, и тот земли одушевленный ком.
И если не ясняй ум барский мужикова,
Так и различия не вижу никакова.
Мужик и пьет и ест, родился и умрет,
Господский так же сын, хотя и слаще жрет,
И благородие свое не редко славит,
Что целый полк людей на карту он поставит.
Ах, должно ли людьми скотине обладать?
Не жалко ль? может бык людей быку продать?[21 - Из сатиры «О благородстве».]
В числе эпистол находим и следующие: «Любовь к отечеству есть первая добродетель», «К неправедным судиям», «О русском языке», «О стихотворстве» (переделка L'Art poetique Буало) и «Наставление хотящим быти писателями». Во всем этом виден или критик искусства и литературы, или критик нравов. В том и другом Сумароков особенно примечателен, как представитель своего времени. Не изучив его, нельзя понимать и его эпохи. Если б кто вздумал написать исторический роман или историческую повесть из тех времен, – изучение Сумарокова дало бы ему богатые факты об обществе того времени; а что такое исторический роман, как не история общества в известную эпоху? Да; предмет истории – человечество, или народ; предмет исторического романа – общество. Постепенность развития идей в обществе представляет собою картину в высшей степени интересную. На само искусство нельзя смотреть только в сфере самого искусства, без отношения к жизни: такой взгляд может быть иногда верен, но он всегда односторонен, особенно в отношении к искусству в России. Повторяем: наша поэзия, наша литература – плод реформы Петра Великого, как наша цивилизация. Начавшись формами без жизни, они постепенно стремились к жизни и самобытности, и достигли, наконец, того и другого чрез исторический процесс. Сумароков был одним из замечательных фактов этого процесса, – что и заставило нас говорить о нем подробнее. В следующей статье мы постараемся обозначить постепенность процесса формирования и развития нашей поэзии и литературы от знаменитой войны шишковистов с карамзинистами до более знаменитой войны классицизма с романтизмом. Мы думаем, что это значит показать ту сторону истории нашей литературы, на которую еще никто не обращал внимания.
Статья третья и последняя
Статья наша о «Критике» должна оставить принятый ею исторический путь и снова возвратиться к настоящему, характеристикою которого и заключится она. Мы и не хотели давать ей характер исторический; иначе должны были бы написать много статей прежде, нежели добрались бы до настоящего периода русской литературы. В предыдущей статье мы желали только намекнуть на то, как, по нашему мнению, должно было бы следить русскую критику в ее историческом развитии, – заранее отказываясь написать полную ее историю в этом отделе нашего журнала. Доселе еще не только не было никакой попытки – начертать историю русской литературы со стороны ее влияния на мнение общества, то есть со стороны критики, в обширном значении этого слова; но даже не было и попыток сделать хоть какие-нибудь указания на материалы, необходимые для подобного труда. А между тем этот труд только слегка может казаться легким, в сущности же он весьма сложен, кропотлив и тяжел. Нужно не только перечесть вполне некоторых писателей, но и рыться в старых и новых журналах. Притом же мы задали бы себе слишком обширный вопрос, если б взяли критику в ее общем значении. Для нас важны не только те русские писатели, которые посвящали свои труды или теории изящного, или собственно – критике изящных произведений, или отрывочно, там и сям, в своих творениях, выговаривали свои понятия об изящном и о критике; но и те писатели, которые, своими нравственными мнениями, выражали дух времени или давали ему новое направление. В этом отношении как важен для нас, например, Фонвизин с его «Недорослем» и «Бригадиром», в которых, в лице глупцов и чудаков, высказано понятие того времени об отрицательной стороне современного общества, а в лице резонеров и добродетельных людей высказан, так сказать, идеал, к которому должно было стремиться общество, высказаны начала, на основании которых мыслили и действовали лучшие люди той эпохи! А исповедь Фонвизина, его мелкие сатирические статьи, его вопросы, и пр.? Оценка всего этого была бы полною оценкою всего Фонвизина, который замечателен совсем не как поэт (ибо поэтом он не был), а как умный, мыслящий человек своего времени, даровитый писатель с критическим направлением. «Словарь российских писателей» Новикова – богатый факт собственно литературной критики того времени: его тоже нельзя миновать в историческом обзоре русской критики. Тут же должен занять свое место и Макаров – один из замечательнейших писателей и критиков того времени. С именем Карамзина соединяется понятие о целом периоде русской литературы, стало быть, от девятидесятых годов прошлого столетия до двадцатых настоящего. Тридцать пять лет такой блестящей литературной деятельности и около сорока лет такого сильного влияния на русскую литературу, а через нее и на русское общество! И влияние не только литературное, но и, можно сказать, всяческое! Все это должно вновь перечитать, пересмотреть, а на все это нужно время и время. Критическая деятельность Мерзлякова, князя Вяземского, Каченовского и других, характеристика многих журналов, из которых иных теперь и имена не известны публике, – также должны войти в этот обзор и, следственно, также должны быть пересмотрены. Война карамзинистов с шишковистами; пролог к войне романтизма с классицизмом, заключающий в себе прения, возбужденные немецкими и английскими балладами Жуковского; далее, война поборников классицизма и вместе народности с поборниками классицизма чисто подражательного и чуждого всякой народности (в этой войне замечательны имена Катенина, Жандра, и отчасти, Грибоедова); наконец, война классицизма и романтизма: – сколько для всего этого нужно пересмотреть книг, особенно журналов! Появление каждого гения бывает чем-то нарушающим обыкновенный порядок вещей, с непривычки кажется чем-то незаконным и возбуждает вражду и оппозицию со стороны людей, проникнутых духом господствующего порядка вещей. В пользу гения восстает юное поколение, и завязывается битва, концом которой всегда бывает торжество гения. И вот окончена битва и вид дела изменяется: гений признан величайшим и непогрешительным авторитетом; против него враждуют разве только хриплые голоса немногих уцелевших развалин старого времени. Но время идет, новые идеи вторгаются, и так как не было и никогда не будет гения, который бы все сказал, все решил, на все дал ответ, исчерпал бы все стороны бытия, так что уничтожил бы возможность явления других гениев, а следственно, и возможность дальнейшего развития народа или человечества: то и гений, после стольких усилий и битв сделавшийся властителем дум своего времени, является, наконец, представителем уже минувшей эпохи, неудовлетворяющим нового времени. Против него воздвигается оппозиция, часто несправедливая и ослепленная в своей крайности; за него стоит все, что не двинулось после него вперед – и опять битва! Но проходят годы, новое берет свое, мирно царит над настоящим и воздает должное прошедшему. Все это было и в русской литературе, хотя она существует еще только сто лет, если началом ее взять 1739 год, когда Ломоносов написал первую свою оду – «На взятие Хотина» (сатиры Кантемира были в первый раз изданы в 1762 году). Так литературная деятельность Карамзина, явившаяся оппозициею схоластическому направлению русской литературы, данному Ломоносовым, восстановила против себя славянофилов и пуристов русского языка. Время и разум решили дело в пользу реформы Карамзина, и Карамзин сделался патриархом русской литературы; под страхом анафемы и отлучения от литературного православия, не позволялось усомниться ни в одной строке, ни в одной букве его сочинений. Но оппозиция шишковистов была ничто в сравнении с тою, которая ожидала Карамзина уже по смерти его. Так называемый романтизм развязал умы, вывел их из узкой и избитой колеи предания, авторитета и общих риторических мест, из которых прежде сплетались венки славы прославленным писателям; новые идеи вторгались отовсюду; литературные и умственные перевороты в Европе, начавшей, по низвержении Наполеона, новую жизнь, отозвались и в нашей литературе. Тогда-то восстали против Карамзина… Но прошло и это время: теперь все понимают, что не Карамзин виноват, если его поклонники приписали ему больше, чем он сделал, видели в нем что-то большее, нежели то, чем он был в самом деле, что вопрос не в том, чего не сделал Карамзин, а в том, что он сделал, и что не его была вина, если он рано родился и образовался под влиянием литературных идей прошлого века;[22 - Из сатиры «О благородстве».] теперь у Карамзина нет ни ослепленных друзей, ни ожесточенных врагов – теперь для него настало потомство, беспристрастное, спокойное, уважающее его славное имя, ценящее его заслуги, давшее ему почетное место в истории литературы и общественности. Явился Пушкин, – и встреча, сделанная ему, была уже совсем не то, что встреча Карамзину: восторг и негодование, любовь и ненависть были тут значительно глубже и сильнее. Одни только что не клялись именем Пушкина, другие, слыша его, только что не зажимали с благочестивым ужасом ушей своих. Битвы были ожесточенные и упорные, а вопрос еще и теперь не решен! Уже несколько поколений произносли суд свой над Пушкиным, а потомство для Пушкина все еще не настало… Элементы нашей эпохи так многосложны и спутаны, вопросы так глубоко жизненны, что много надо пережить, перечувствовать и перемыслить, чтобы решать их: это дело времени и жизни – без них люди ничего не сделают. Еще не решился вопрос о Пушкине, и уже сколько новых вопросов возникло, и возникло не из книг, как они возникали прежде, а из живых явлений!.. И разве эти беспрерывные толки и споры в обществе о «Мертвых душах», эти восторженные похвалы и ожесточенные брани в журналах, возбуждаемые новым творением Гоголя, – разве это не живое явление, и разве это не вопрос, столько же литературный, сколько и общественный?.. Мало того: разве весь этот шум и все эти крики, не результат столкновения старых начал с новыми, разве они – не битва двух эпох?.. Все, что является и успевает с первого разу, встречаемое и провожаемое безусловною похвалою, все это не может быть важным и великим фактом: важно и велико только то, что разделяет мнения и голоса людей, что мужает и растет в борьбе, что утверждается живою победою над живым сопротивлением. Полагать причиною этого сопротивления одну зависть к успеху и к гению, значило бы слишком ограниченно смотреть на дело: то сшибка духов времени, то борьба старых начал с новыми! Человек только до известного возраста своей жизни обладает способностию умственного движения вперед; раз утвердившись в известном образе мыслей, по достижении известного возраста, он делается слеп и глух для всякой новой истины и видит в ней ложь и нечестие. Только сильные духом могут отрываться от учений, в которых возрасли и укрепились; но и для них это движение сопряжено бывает с тяжелым трудом, с потрясением всего нравственного существования их. Целое общество видело высочайший идеал поэзии в трагедиях Корнеля и Расина, с малолетства заучивало наизусть стихи их, восторг свой к этим поэтам довело до обожания, уважение – до пиэтистического благоговения, – и вдруг этому-то обществу говорят, что их поэты – не поэты, а только изящные риторы, что в образцовых их трагедиях нет ни характеров, ни образов, ни людей, ни игры страстей и чувств, ни глубоких идей, словом, никакой действительности, и что, наконец, идеал великого драматурга осуществился в Шекспире, которого оно, это общество, привыкло считать пьяным дикарем, вдохновенным невеждою!.. Поверить на слово общество не могло, понять еще менее; следовательно, оставалось сознаться, что или оно всю жизнь свою обманывалось, или что оно не в силах понять то, в чем его уверяют.