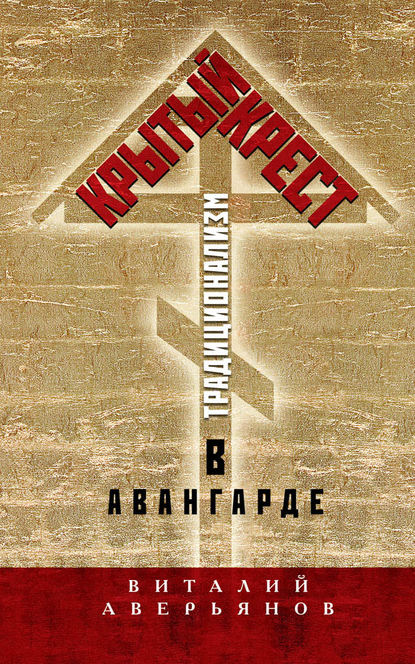По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крытый крест. Традиционализм в авангарде
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3. О главном труде Владимира Лосского (Лосский и Мейстер Экхарт)[51 - Впервые напечатано в альманахе «Волшебная гора», XI, 2005.]
«Богословские труды» начали публикацию перевода одного из важнейших произведений В.Н. Лосского, его, по выражению С. Хоружего, «главной работы на темы западной мысли»[52 - Лосский В.Н. Отрицательное богословие и познание Бога в учении Мейстера Экхарта (гл. 1–3) / Пер. Г.И. Вдовиной. // Богословские труды, сборники 38 и 39. – М„2003, 2004.]. По свидетельству епископа Василия (Кривошеина), Лосский задумывал этот труд как начало масштабного сопоставления немецкой мистики XIV века с современным ей афонским исихазмом: в ходе такого сопоставления должна была проявиться многоплановая близость двух этих типов мистической философии.
Сама по себе подобная постановка задачи свидетельствует о нетривиальном подходе Лосского к Экхарту как главе немецкой школы мистиков XIV в. Лосский усмотрел в Экхарте и положенной им традиции мистического богопознания тенденцию, ведущую прочь от схоластики к духу Дионисия Ареопагита (здесь и далее называем его без приставки «псевдо-» в угоду православной традиции – В.А.) и паламитской школе греческого богословия. Это тем более знаменательно, что в литературе об Экхарте долгое время доминировали споры на тему «пантеизм или трансцендентальный теизм», «томизм или неоплатонизм» и т. п. Резко расширяя контекст религиозно-философского творчества доминиканского магистра, Лосский тем самым выводит его в общехристианский философско-богословский простор.
В настоящий момент напечатаны три первые главы работы Лосского: «Имя неименуемое», «Имя всеименуемое», «Я есмь Сущий». В 4-й, еще не опубликованной главе работы, Лосский покажет решительное сближение Экхарта с Дионисием и соответственно отдаление его от Фомы Аквинского в том, что касается истолкования апофатического богопознания (апофаза не восхождения, а противопоставления, апофаза парадокса). В трех же первых главах Лосский сконцентрировался на нюансах апофатического и катафатического методов теологии в их экхартовском исполнении и наглядно показал черты уникальности и специфики немецкого духовного писателя. Эта уникальность выявляется в сопоставлении Экхарта со всеми его великими «партнерами», с которыми он вступает в собеседование на страницах своих трактатов и проповедей. В первую очередь это блаженный Августин, св. Иоанн Златоуст, св. Дионисий Ареопагит. Лосский показывает, как в различных аспектах своего богословия Экхарт выстраивает самостоятельную линию, время от времени не соглашаясь с признанными авторитетами. Так, например, в отношении бл. Августина это проявляется в трактовке мистического интростаза (не озарение через соприкосновение разума с богом-Истиной, как это выглядит у Августина, но погружение в интимное пространство «внутреннего человека», ориентация на область транс-психического, на поиск сокровенного Бога в глубинной основе личного сознания). В вопросе о «Едином» Экхартявно полемизирует с Дионисием и отходит от его концепции ближе к неоплатоникам: Единое выступает у него как иерархически высшее по отношению к Благу божественное имя, символизирующее мощь разума, который достигает ступени соединения всех атрибутов. Лосский не устает отмечать многочисленные отсылки Экхарта к Фоме Аквинату, что, тем не менее, лишь подчеркивает несходство их мировоззрений вопреки западной традиции «томистского» прочтения Экхарта (О. Karrer, Denifle, G. Thery).
Апофатическое богопознание у тюрингского доминиканца направлено на проникновение в область «енутреннейшего человека – препространнейшего, ибо он велик без величины». Одним из поразительных качеств Экхарта является связность той диалектики, которая складывается у него на уровнях микрокосма и макрокосма, а также стройность пропорций, который выстраиваются от внутрибожественной жизни (жизни Троицы) к происхождению творения.
Одной из издержек этого напряженного созерцания «таинственных соответствий» стало учение Экхарта о тождестве двух актов: внутрибожественного рождения Бога-Сына и сотворения мира. «Одно и то же речение изводит Слово и творит мир. Бог творит в Начале, т. е. в Себе Самом… Однажды сказал Бог и дважды слышал я это (Пс. 61, 12)». Сотворение мира выступает в этом учении как эхо троичного сотворчества, как своеобразное экранирование сокровенного в откровенном, экранирование внутрибожественных тайн во внешних эманациях. Именно это учение послужило одним из главных поводов к обвинению в ереси и было осуждено папой уже после смерти Мейстера Экхарта.
Одной из главных загадок экхартовской мистики остается связанный с этим отмеченным только что параллелизмом трансцендентных и тварных структур духовной реальности его двууровневый онтологизм. Ряд исследователей (как, например, Альберт Штекль) на полном серьезе приписывали Экхарту наследование пантеистическому учению каббалистов и Эриугены. Однако при ближайшем рассмотрении (и это можно отчетливо увидеть у Лосского) от мнимого «пантеизма» немецкого мыслителя не остается и следа.
Позволю себе небольшое отступление. Как это ни удивительно, противоречия между средневековыми формулами теизма и пантеизма основываются, похоже, на путанице в терминах, произошедшей при истолковании одних и тех же источников. Многозначность понятия «ничто» спровоцировала многих толкователей Ареопагита смешать различные значения термина, что привело к диковинным результатам. Так, в ряде каббалистических толкований ареопагитическое понимание Божественного Ничто (ничто как «не-нечто») превращается в непостижимое небытие, в котором надо мыслить Бога в его самобытии – отсюда следует интерпретация «сотворения мира ех nihilo» как эманации из божественного «ничто». Если извращение терминологии продолжить, то от этой пантеистической формулы можно прийти и к «черной магии», обожествляющей «ничто-пустоту». Однако ни этот экстравагантный ход мысли, ни пантеизм Эриугены, для которого не существует никакого метафизического ничто-небытия (то есть ничто как отсутствия бытия), не имеет сколько-нибудь тесного отношения к мировоззрению Экхарта. Одним из патетических мотивов у Экхарта является как раз собирание и сосредоточение души, которая как бы отворачивается от внешнего и видимого мира, создает в себе ауру небытия, безобразного, бесчувственного пространства, не с тем чтобы «обожествить» природу, как это делают пантеисты, но, напротив, «изничтожить» ее пред лицом Сверхсущего.
Тварный мир выступает у Экхарта как внешний отзвук «безмолвного слова», пребывающего в Отчем Уме; однако же, мир сотворен ex nihilo, и всем сотворенным вещам даровано «бытие после небытия». Таким образом, Экхарт говорит одновременно о двух отличных друг от друга разновидностях бытия: о чем-то вроде сверх-бытия (бытие-в-Боге) и просто-бытия (существование тварных вещей). Экхарт признает, что сами имена Бытия и Блага, усваиваемые Богу в катафатическом богословии, представляют собой обозначения не сущности Бога, а Его исхождений, Его являющей, производящей силы. И тем не менее это не мешает Экхарту рассматривать Бытие (Esse) как метафизический корень божественного существа. Тварное бытие предстает у Экхарта как «средний термин» между Богом и ничто, поэтому мистик призван «освобождать» свою душу от всех следов «ничто», последовательно сосредотачивает ее в той сокровенной точке, которой она соприкасается с первым термином – противоположностью небытия, Божественным Бытием.
Божественное Бытие (по сути, Сверх-Бытие) выступает по отношению к просто-бытию как неприступный мрак, «мрак Моисеев», совершенная пустота, сокровенное «небытие» и «молчание», таящиеся в глубине вещей, в их священном, алтарном нутре. Там поселяется «Спящий и сокрытый в Себе самом». Там же по принципу соответствий осуществляется и первое действие Бога – творение зарождается в непространственной и нефизической глубине сущего (в центре мирового круга). В сокровенной глубине души, как в микрокосме, может происходить таинственное переключение, «щелчок», в результате которого в нем воцаряется структура божественного макрокосма: совлекшись всего внешнего и множественного, собравшись духом в точку глубинного «единства», человеческий дух приобщается Единому как нетленному и способен обнаружить сокровенные божественные тайны, которые не даются мистикам на пути интеллектуального и созерцательного богопознания.
Лосский справедливо указывает, что для описания этого сокровенного Сверх-бытия Экхарт прибегает к таким апокрифическим источникам как «Книга двадцати четырех философов» и некоторым другим герметическим и псевдо-герметическим текстам. В «Книге», созданной в XII в., метафорически выражается самотождественность божественного бытия как «кипение» или «горение». Лосский виртуозно истолковывает эти не вполне внятно и развернуто поданные в оригинале мотивы как «внутренний динамический покой» – действительно, именно так следовало бы истолковать данную метафору. У Плотина, указывает Лосский, аналогом данного представления выступала «прозрачность», то есть такое состояние, когда рассмотрение одних атрибутов не мешает видеть через них множество иных атрибутов, их одновременную жизнь, в конечном счете, единую и неразличенную, но в порядке человеческого разумения представленную как связанные между собой отдельности.
«Бог как вновь почивший» после пути рождения Сына и исхождения Духа – это устойчивость, «парящая тишина», полнота покоя, однако же покоя, результирующего в себе живую динамику. Именно поэтому в творении «всяческих» важны все детали: каждый камень, каждое дерево и каждый ангел не случайны, не лишни, не извлекаемы безвозвратно из круга творения – и это отличает Omnia (всяческая) от Nihil (ничто). В творении реализуется полнота во множественности – ей противопоставлено ничто как противоположность всех и исключение каждого. Такое сопряжение смыслов, которого достигает в данном случае Лосский, выдает в нем православного мыслителя, обогащающего исследуемый материал интуициями и открытиями святых отцов христианского Востока.
В третьей из опубликованных глав перевода описывается библейское «Аз есмь Сый» как единственно верное именование Бога, обозначение его онтологического статуса. Если метафизическим свойством твари оказывается «нужда в ином», логически выраженная как зависимость субъекта от предиката (через определение, т. е. ограничение субъекта), то в самоименовании Бога (Я есмь Сущий) постулируется Его самодостаточность. Экхарт употребляет термин anitas (естьливость), который, по Лосскому, восходит к арабскому anniya («то, что есть ли»). В Боге реализовано тождество чтойности и естьливости, поскольку само Бытие (Esse) Божие обусловлено его Сущностью (Essentia). В этом тавтологическом парадоксе происходит снятие вечного разрыва, который был запечатлен в самой природе логики тварного разума. Выход в металогическое пространство божественного бытия (сверхбытия) предстает в немецкой мистике как вхождение в сокровенное измерение «внутреннего человека».
Хотелось бы рассчитывать в дальнейшем на увлекательнейшее чтение следующих глав работы Лосского, в которых должны быть освещены вопросы, не затронутые в первых главах. К таким вопросам относятся: диалектика различных видов «ничто» в мистике Экхарта (ничто как отсутствие бытия или его недостаток, ничто как результат отрешения от чего-либо частного, то есть «ничто конкретно», ничто как «Божественный мрак», ничто как «сверхсущее небытие», ничто как «девственность души», «последняя нищета», ничто как среда божественной жизни и др.); энергийная жизнь сердцевины души (нетварной «искорки», «сокровенного», «образа и подобия Божия»); учение о Божестве как внутреннем не-личном, (доипостасном?) корне божественной природы в его отличии от Бога и от Троицы – будет любопытно отследить, как Лосский трактует это явно еретическое положение Экхарта, сводит ли он его к издержкам человеческого ракурса во взгляде на божественную реальность или проводит резче и глубже; наконец, мотив «нужды» Бога в твари, миротворении по необходимости.
Судя по первым главам, перед нами беспрецедентное исследование мировоззрения немецкого мистика, во всяком случае, на русском языке оно будет после завершения перевода наиболее полным и адекватным – впрочем, исследование Лосского едва ли не лучшее и на французском языке, о чем косвенно свидетельствует в предисловии к работе Этьен Жильсон. О самом же Лосском Жильсон говорит так: «Знания нераздельно сочетались в нем с духовной глубиной, передававшейся окружающим, излучавшейся всей его личностью…» Эти слова как нельзя лучше подтверждают, что богослов и мистический философ В.Н. Лосский был живым свидетельством православной традиции в Европе и явился несомненной гордостью нашей духовной культуры XX века.
4. пневматологический парадокс и «научная истина» (лосский и викентий лиринский)
Для верного понимания пневматологического измерения традиции чрезвычайно ценным следует признать тот комплекс идей, который мы предложили назвать парадоксом Лосского. Резюмируя смысл этого парадокса, мы должны будем указать на три его существенных черты. Во-первых, это парадокс «динамического консерватизма», то есть кристаллизации слоев традиции в виде исторически новых ответов на «вызовы» как внешней среды, так и на внутренние деструктивные тенденции; при этом сама традиция в ее пневматологическом измерении не меняется и не растет, меняется лишь ее опыт взаимодействия с иным, растут институции такого опыта (в каноническом, организационном и текстуальном поле традиции) и сами механизмы взаимодействия с иными культурами (в периферийном поле традиции). Здесь можно также добавить, что в этих меняющихся институциях и механизмах внешнего проявления традиция не только видит свое отражение, познает себя, воплощает свои интуиции, но и рискует, вступая на поле культурных мутаций, критики основ, поиска фундаментальных альтернатив.
Во-вторых, это парадокс многоединства теофании: созревание в традиции является делом каждой личности, а не коллектива, который хранит уже достигнутое, каждый путь в пневматологическое измерение уникален и своеобразен. В этом смысле традиция представляет собой не глобальный институт, но личный очаг самовозрастания – из этого следует парадоксальное многообразие и многоликость таких очагов (алтарей, вместилищ таинства, вершин познания); но в то же время это многообразие не сущностей, но скорее окон или каналов, через которые все индивидуумы встречаются, общаются с полнотой пневматологии. Множество субстанций является условием консубстанциальности (консубстанциальность была бы избыточна как категория, если бы субстанция оказалась просто единой и неразличимой).
В-третьих, это парадокс индивидуально-духовной природы традиции, который состоит в том, что пневматология, предоставляя каждому субъекту особое подспорье в его возрастании, как будто в милосердии находя к нему специальные пути, по мере этого возрастания предоставляет ему и свободу от индивидуальных ограничений, свободу от той «ситуации» и того «ракурса», который затемняет истину, свободу в связи с неизбежной неполнотой индивидуального существования; парадоксально здесь это вмещение человеческой природой в органах богообщения бесконечной перспективы собственного преображения и овладения бытием (вмещение частным и конечным целого и бесконечного, личным – сверхличного, неполным – достаточного для реализации полноты).
Динамический консерватизм, многоединство теофании, индивидуально-духовная природа традиции, – все это грани триединого пневматологического парадокса Лосского, раскрытие которого является для нас одним из важнейших итогов развития русской религиозно-философской мысли и русской метафизики[53 - Довольно близко к парадоксу Лосского подошел и Н.С. Арсеньев с его концепцией динамичной традиции как творческого духа (в работе «Из русской культурной и творческой традиции», 1959). Тринитаризм в трактовке традиции у Арсеньева уже присутствует в скрытом виде, не хватает лишь ее прямого обнаружения. Неслучайно он пытается найти третье начало в синтезе гегелевских противоположностей (как это пытались делать, пусть с другими философскими целями, представители «франкфуртской школы», в частности, Адорно).].
Под пневматологическим аспектом традиции подразумевается в первую очередь ее внутренний сакральный стержень. В православной традиции «духовный стержень» может пониматься буквально, как вертикальное измерение традиции, в котором ожидается и мыслится действие Святого Духа (именно такое, а не абстрактно-обезличенное понимание «духовности» следует признать аутентичным для христианской культуры). С другой стороны, пневматология представляет собой не только знание о Святом Духе, но и знание о духах вообще, и направлено на то, чтобы реализовать в традиции одну из ее ключевых подсистем – подсистему передачи критериев «различения духов»[54 - Термин «пневма» («дух») имел большое значение в учении стоиков (разумные дыхание, первоогонь, разумный дух), был ключевой категорией у гностиков (пневма как один из эонов, скрепляющих и упорядочивающих плерому), а с XVI–XVII вв. у оккультистов и эзотериков разных направлений. Что касается церковной пневматологии, то она принесла наиболее заметные плоды в учении о Духе Святом как части богословской триадолгии и в общих чертах сложилась уже в первые века христианства (Максимов Ю.В. Учение о Святом Духе в ранней Церкви (І-ІІІ вв.). – М., 2007; свящ. Георгий Завершинский. Введение в православное учение о Святом Духе. – СПб., 2003; Swete Н.В. The Holy Spirit in the Ancient Church. L., 1912 и др.)].
Одним из главных аргументов против философской манифестации пневматологического аспекта традиции может состоять в том, что знания духовных традиций, касающиеся мистической реальности, не поддаются верификации. В этом состоит самая существенная претензия рационализма по отношению к традиционным формам, в первую очередь к каноническим формам знания в христианской церкви – претензия, проявившаяся в учении об идолах Ф. Бэкона или в постулате И. Канта о несовершеннолетии человека, живущего в допросветительской парадигме. Своего рода резюмирующим обобщением этой претензии стал аргумент Э. Шилза о том, что в войне оригинальности с традицией первая переносит центр тяжести творчества внутрь индивидуальности и отнимает прерогативу определять образ поведения у внешнего объективного наследия[55 - Shils E. Tradition. – Comparative Studies in Society and History. – Vol. 13. № 2. April 1971,-p. 143.].
Однако отсутствие рационалистической верификации сциентистского типа не означает отсутствия верификации вообще. Необходимо отметить, что традиционное сознание разрабатывало свои методы верификации опыта, которые были вполне адекватны своему времени и своим культурным моделям. Пневматологическая сфера традиции, несмотря на крайнюю степень непредсказуемости и подвижности «пророческого» опыта, может иметь свои механизмы верификации и согласования разных форм и событий этого опыта. В наиболее разработанном и объективированном виде такие механизмы были предложены ев. Викентием Лиринским в его критерии истины на основе всеобщности, древности и согласии предания (его исповедании всюду, всегда, всеми). Конкретизируя этот критерий, ев. Викентий поясняет, что, в случае сомнений и разногласий, необходимо сверяться по трем главным источникам: во-первых, по деяниям Вселенских Соборов (воплощавших всеобщность), во-вторых, по преданию апостольских времен (воплощающему христианскую древность), в-третьих, по консенсусному мнению большинства наиболее авторитетных и признанных учителей Церкви (в этом – принцип согласия предания)[56 - Викентий Лиринский. Памятные записки Перегрина. – М., 1999. – С. 50–51,54-55.]. Если такого консенсуса нет или он недостаточен, то однозначное решение вопроса невозможно, и различные мнения о нем представляют собой частные богословские мнения, столкновение которых мог бы разрешить лишь Вселенский Собор.
В этом подходе особо обращает на себя внимание критерий согласия, поскольку, если в двух первых критериях мы имеем дело со сложившимся, более или менее фиксированным каноном, то именно в согласии большинства учителей мы получаем подлинный и всегда актуальный формат верификации свободной стихии духовного опыта. По существу, ев. Викентий Лиринский предложил способ объективизации результатов уникального и даже мистического сознания внутри конкретной традиции через собирание и сопоставление интроспекций. При этом речь нужно вести не о субъективных интроспекциях, как они понимаются в психологии Нового времени, но о выявлении коллективной собирательной интроспекции как опыта соборной консубстанциальности[57 - Это позволяет историкам богословия говорить о данном подходе как «методе христианской науки», то есть о своеобразном типе научного сознания (Филевский Иоанн, священник. Учение св. Викентия Лиринского о Священном Предании и его значение. – СПб., 1897. – С. 17).].
Парадокс этого метода состоит в том, что, несмотря на наличие ошибок и фантастического элемента в мистическом опыте очень многих, если не всех богословов и мыслителей, приведение их к общему знаменателю «коллективной интроспекции» исправляет и исцеляет эти ошибки, вырабатывая каноническую линию не путем простого суммирования, а путем выявления единого ядра в разнообразном субстрате. Это напоминает феномен варьирования традиции, о котором пишут теоретики фольклора и другие исследователи традиционных систем культуры[58 - Аникин В.П. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. – М., 1980; Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избр. статьи. – М., 1976; Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. – М., 1961.]. Через сопоставление собственного опыта с опытом учителей и духовных предшественников человек традиции освобождает себя от опасности безапелляционного погружения в пневматологическую сферу, от произвольной мечтательности, и осуществляет вживание в иерархически высшее духовное состояние.
Человек традиции, таким образом, действует под руководством без руководства (поскольку критерий коррекции его погружения в полноту традиции находится в нем самом, в его сознании своей связи и связности с предшественниками и высшим духовным миром). Обратным подходу Викентия Лиринского можно считать современное убеждение о том, что в новых поколениях познания человечество отрекается от предыдущих, пройденных ступеней как от анахронической части наследия. С нашей точки зрения, это очень спорная постановка вопроса. Предыдущие стадии развития в идеале должны не «сниматься» в последующих, а параллельно с новой парадигмой предоставлять человеку свой полезный потенциал. В противном случае «развитие» превращается в бег по кругу – когда, приобретая одно, мы утрачиваем другое, и так до бесконечности. В нашей концепции трех внутренних измерений традиции содержится подтекст, указывающий на то, что в ходе становления модерна эти измерения не просто искажаются, а подвергаются радикальной переоценке: внутренний модус (пневматологический) объявляется архаическим пережитком, заблуждением, свойственным человечеству лишь на ранних этапах развития; организационный модус традиции объявляется консервативным, подлежащим реформированию и перебраковке с отбрасыванием «устаревших» и с модернизацией пригодных частей; периферийно-пограничный модус делается единственным источником и оплотом обновления.
Подход Викентия Лиринского дает альтернативный «научному» (в модернистском смысле) метод верификации, достоверность которого напрямую связана с выработкой опыта не вообще в человечестве, а в «конкретном человечестве», то есть в данной «полной традиции». Собирание интроспекций в общечеловеческом, транскультурном контексте пока представляет нерешенную и, возможно, неразрешимую проблему. Транскультурный подход к духовному опыту, если бы он был последовательно проведен, означал бы убеждение в том, что «полнота» во всех традициях общая, объективная, одна и та же. В таком случае различия в «теле традиции» и в ее внешней сфере обуславливались бы лишь различием языков и природных склонностей того или иного народа (общности, носителей идентичности культурного ареала) и представляли бы собой разные формы затемнения изначального духовного послания. Социокультурный же подход, напротив, не считал бы возможным говорить об объективной определенности «полноты» без ее «опредмечивания» в конкретной культуре.
Но поскольку организационные комплексы традиций разных культур и народов принципиально несовместимы и не унифицируемы, то, получается, что и «полнота» в каждой традиции уникальна. Вопрос этот так же сложен, как и вопрос о том, одного и того же Бога имеют в виду разные религии, или это разные «боги». Если мыслить транскультурный подход без претензий на унификацию традиций, но как проект чисто образовательный, направленный на изучение соседей и построение диалога, то такой транскультурализм неоднократно применялся в имперских государствах, в которых реализуется стратегия на углубление взаимопонимания и взаимное уважение. В таком случае транскультурный подход должен опираться на социокультурный как свою конфессиональную и конкретно-историческую базу[59 - Крайности транскультурного и социокультурного подходов проявляются, с одной стороны, в тайных эзотерических обществах, конструирующих собственную интернациональную сеть адептов, с другой стороны – в малых монолитных в этнокультурном плане государствах с жесткой дихотомией «наше – чужое» и изоляционистскими установками. Последнюю тенденцию эзотерики склонны называть «воинствующим экзотеризмом».]. Важное значение для науки транскультурного подхода, что, к примеру, сполна проявилось в творчестве П.А. Флоренского, состоит в том, что исследователь, стоя на фундаменте собственной культуры, не отметает с позиций ее канонов и догматов опыт других культур, а старается разглядеть в них иные способы и варианты десублимации той же пневматологической реальности, с которой он имеет дело в духовном опыте собственной традиции.
Таким образом, в пневматологическом парадоксе Лосского отражается также и парадокс «многоединства» культур и религиозных систем. Многоединство осуществляет себя на нескольких уровнях: и внутри конкретной традиции, и вовне ее. При этом критерий истины может содержаться только внутри религиозно-культурного многоединства, и не может произвольно переносится из одного культурного круга в другой (грех такого неоправданного перенесения – также характерная черта западного христианства и западной философии). Поспешное узаконивание человеческого ракурса многоединства, трактуемого как «всеединство» – типичная ошибка философского сознания.
Итак, в пневматологическом парадоксе выражена мистическая структура традиции: она не просто двойственна, а едино-множественна. В самой оболочке, в самой периферии традиции, а не только в ее центре, содержатся эмбрионы ядер, традиция вся «заряжена» идентичностью. Динамический консерватизм означает сложность и многослойность не только традиции как целого, но и каждого носителя традиции, каждого, в сущности уникального, выразителя ее полноты (и одновременно ее закрывателя, затемнителя в силу недоступности и неисчерпаемости полноты).
Священное Предание в том мистическом, «пневматологическом» понимании, которое раскрывает в своих произведениях Лосский, оказывается не столько социальной, сколько духовно-индивидуальной категорией – связанной с «метанойей», «умоизменением» человека. В этом состоит корень его пневматологического парадокса, суть которого: вмещение конечным и ограниченным бесконечного и вечного, освобождение от собственной ограниченности и конечности, от скованности рамками, положенными человеческой жизнью. Это роднит религиозно-философский идеал Лосского с исихастской традицией, однако об исихазме он в этой связи специально не говорит. Его трактовка пневмато логической проблематики остается предельно аскетичной и в то же время широкой, поскольку не фиксируется на конкретных школах и направлениях духовной практики внутри православия, оставляя для всех открытой дверь к мистической полноте. В то же время Лосский был нацелен на то, чтобы избежать свойственного католическому опыту искажения первоначального церковного понимания сущности Священного Предания, в силу которого западные христиане часто ставили на место задачи выявления многоликости истины другие цели: прозелитические, пропагандистские, агрессивно миссионерские и т. д.
Пневматологический парадокс указывает на многослойность традиции и подразумевает, что статические состояния, инертная реакция традиции-системы в одном ее измерении могут подразумевать креативный активизм, молниеносную и даже опережающую реакцию той же самой традиции в другом ее измерении. Отсюда становятся ясными такие «мистические» и поэтические метафоры как «самодвижный покой», «неподвижное движение», «пресветлый мрак», «полнозвучное молчание», «плодотворная бесплодность»[60 - Двойственность этих формул обманчива. В них состояние субъекта традиции парадоксально и нередко антиномично сочетается с состоянием субстанции традиции, при этом качества субъекта распространяются еще и на его проекцию вовне субстанции (то есть на функцию традиции-системы). Таким образом, перечисленные метафоры указывают не только на внешнюю двойственность традиции, но и на более глубокий уровень, а именно: ее тройственности и в других отношениях – плюралистичности.]. С точки зрения Уильяма Джемса, автора знаменитой книги «Многообразие религиозного опыта», такие мистические парадоксы показывают, что в основе их лежит не логика, а музыка. На наш взгляд, это не совсем так. Музыкальные аналогии в понимании трансцендентного аспекта традиции и его соотношений с традицией-системой возможны и нередко уместны – однако они не снимают логичности и семантической стройности этих соотношений. Нелогичными они могут казаться только стороннему наблюдателю.
Статья «Традиция» в энциклопедии «Русская философия»
Понятие, отражающее сущность социокультурного наследования, исторической устойчивости и преемственности. В современном словоупотреблении Т. понимается, во-первых, как порядок (стереотип) наследования, обеспечивающий посредством определенных правил, норм, образцов точное воспроизведение наследуемого содержания, во-вторых, как сам процесс организованного таким образом наследования и, в-третьих, как полная система моделей наследования, включая мировоззрение, институты и организации, ее обеспечивающие (Т. как «традиционное общество», культурно-национальная Т. и т. д.).
Специфически русское философское осмысление проблемы Т. восходит еще к средневековой системе понятий, описывающих формы преемственности, таких как «покон», «старина», «пошлина» (то, что «пошло» испокон). В старом языковом сознании Т. отождествлялась с «устным преданием» и тесно связывалась с понятием «церковного предания». Церковный раскол XVII века был во многом определен спором о правильной форме религиозной Т. – о ее вселенском и национальном масштабах, об очертаниях «отеческого» и общецерковного предания. Многие русские мыслители (Тареев, Розанов, Н. Трубецкой, Федотов, Флоровский) видели в расколе XVII в. и в последовавших за ним петровских преобразованиях объяснение кризисности русской культурно-исторической и государственной Т. в ее целом.
Осмысление проблематики социального наследования и традиционности культуры в русской философии происходило под перекрестным воздействием консервативно-традиционалистского направления западной мысли (католическая контрреформация, традиционализм XIX в., романтический консерватизм, неоконсерватизм) и ее прогрессистско-модернистского направления. В России Т. трактовалась и как «органицистская» категория, выражающая национальный дух страны (славянофилы, почвенники, русские консерваторы), и как форма приспособления общечеловеческого духа к местным и национальным условиям (русские просветители, позитивисты, представители либерализма), и как историческую инерцию, остатки и следы прежних ступеней развития общества (марксисты).
Проблема Т. резко актуализировалась в перв. пол. XX века в связи с революционными событиями. Своеобразными итогами размышлений русской интеллигенции о судьбах культурного наследия стали сборник «Вехи» и «Переписка из двух углов» Вяч. Иванова и Гершензона. Большинство мыслителей Русского Зарубежья видели свою миссию в сохранении наследия «традиционной России». Для евразийства была характерна критика «неорганической» Т, предвосхищавшая идеологию афро-азиатского традиционализма в развивающихся странах второй пол. XX в. У Н.С. Трубецкого органическая Т. понималась как воплощение гармонии и сбалансированности национально-культурных начал исторической общности. При этом евразийцы оптимистично смотрели на возможность синтеза в России новых форм национально-культурной Т. В отличие от них либеральные консерваторы (П.Б. Струве, С.Л. Франк) ориентировались на дореволюционное состояние России и строили компромиссный социальный идеал, в котором диалектически сочетались бы и гармонизировали друг друга Т. и новация, совершалась бы постоянная «уступка» друг другу со стороны либеральных и охранительных сил. Особую позицию занимал И.А. Ильин, допускавший исторический компромисс для того, чтобы в дальнейшем достигнуть прочной цивилизационной стабильности. Неоконсервативный идеал Ильина – духовная Т. «сердечного созерцания», исторически заданная русскому народу, но, тем не менее, имеющая универсальное духовное значение.
У большинства советских мыслителей Т. рассматривается не как самостоятельный источник социального становления, но скорее как сумма сложившихся культурных форм, своего рода «осадок» и кристаллизация культурного наследия. Если в 20-30-е гг. Т. рассматривается как реакционная стихия сопротивления преобразованиям, то впоследствии формируется устойчивая тенденция к «позитивизации» представления о Т. и преемстве, культурном прошлом. В зрелый советский период Т. понимается как само социальное наследование (включающее в себя инновации и неотделимое от них), а также как механизм становления культуры как системы. В 60-е – 70-е гг. сложилось несколько подходов к проблеме Т, которая интерпретировалась как наследуемые нормы и принципы (нормативисты), как закон стабилизации общественных отношений (В.Д. Плахов), код культурной системы (структуралисты, Д.Б. Зильберман), воспитательная система, фиксирующая определенное состояние общественного сознания (И.В. Суханов). Одной из наиболее влиятельных школ позднего советского периода была школа Э.С. Маркаряна, которая рассматривала Т. как гомеостатическую систему, обеспечивающую равновесие общества и природной среды. Маркарян выступил с идеей создания особой теории культурной Т, традициологии, которая мыслилась в его школе как информационная теория культуры. В советской гуманитарной науке были свои глубоко своеобразные разработки проблемы Т, не укладывающиеся в значительной мере в схемы западной социальной философии (В.Д. Плахов, К.В. Чистов, В.П. Аникин и др.).
В постсоветский период в отечественной мысли происходит резкое смещение научных границ исследования. Обращение к постмодернизму с его убеждением в кризисе традиционной науки соседствует с обращением к собственному культурному, духовному, философскому наследию. На место Т. как суммы некоторых имманентных социальному процессу фактов приходит поиск Т. как ключевого фактора социальной жизни. Т. понимают как неуловимое, ноуменальное строение внутреннего культурного акта, необъективированного «универсального предела» культуры (В.В. Малявин), как «трансляцию синергии» (диакон Андрей Кураев), как скрытый, трансцендентный, «пневматологический» аспект социальной жизни (современные традиционалисты). Традиционалистская трактовка Т. связана одновременно как с усвоением опыта близких европейских религиозно-философских направлений (Р. Тенон, религиоведческая школа М. Элиаде), так и с возрождением интереса к отечественной богословской и религиозно-философской мысли. В теологическом смысле Т. представляет собой фундаментальный «источник откровения» о Боге и мире; в русской религиозной философии при констатации разрыва современной культуры с Т. утверждается теснейшая связь и зависимость друг от друга светской и религиозной Т. (М.М. Тареев, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Г.В. Флоровский, В.В. Зеньковский, Н.С. Арсеньев).
Тема Св. Предания обсуждалась в русском богословии XVIII и XIX вв. (Стефан Яворский, школа митрополита Платона (Левшина), митрополит Филарет (Дроздов), представители духовно-академической философии). В начале XX в. эта тема получила широкое освещение в работах Филевского, Пономарева, Н. Аксакова, Тареева. Флоренский усматривал в церковном каноническом типе организации смысла общечеловеческий идеал социального наследования. Карсавин видел в традициях как исторических феноменах их внутреннюю связь в абсолютном идеале истории, при этом Св. Предание выступает у него как единственно возможная подлинная Т. а также как специфическое отношение всякой индивидуальности к Богу По определению С.Н. Булгакова, Т. (предание) есть феноменальная манифестация ноуменального единства Церкви, в котором личное согласуется со всей совокупностью верующих и со всеми моментами временного ряда, в котором это личное стоит. Широта и гибкость предания в его конкретных формах парадоксально сочетается с неисчерпаемостью внутреннего его измерения, «полнотой» (плеромой). Согласно В.Н. Лосскому, в каждую историческую эпоху эта «полнота» открывается отчасти и по-разному, в различных «ракурсах». Лосский описывает свой идеал культурного наследования как «динамический консерватизм», т. е. установку на непрерывное обновление горизонтальных проекций Т, что не означает изменения (обогащения, развития и т. п.) ее самой[61 - Лит.: Аксаков Н.П. Предание Церкви и предания школы. // Богословский вестник т. 1. 1908; Аникин В Л. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. – М.,1980; Арсеньев Н.С. Из русской культурной и творческой традиции. – Франкфурт, 1959; Булгаков С. Православие. Очерки учения Православной Церкви. – М., 1991; Лосский В.Н. По образу и подобию. – М., 1995; Маркарян Э.С. Узловые проблемы культурной традиции. // Советская этнография 1981 № 2. (статья и дискуссия вокруг нее); Осипова О.А. Американская социология о традициях в странах Востока. – М, 1985; Плахов В.Д. Традиции и общество. – М., 1982; Пономарев П.П. Священное Предание как источник христианского ведения. – Казань, 1908; Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М., 1976; Тареев М.М. Христианская философия. Часть I: Новое богословие. – М., 1917; Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. – М., 1999; Филевский Иоанн, священник. Учение Православной Церкви о Священном Предании. – Харьков, 1902; Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992; Художественные традиции литератур Востока и современность: Ранние формы традиционализма. – М., 1985; Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. – М., 1986.].
Другая дискретность[62 - Статья представляет собой выступление в дискуссии вокруг доклада А.И. Неклессы на научном семинаре «Sinergia» и впервые была опубликована в сб.: Миропознание и миростроительство. Материалы научного семинара «Sinergia». Выпуск № 1 – М., 2007. – С. 154–155.]
Я благодарен автору за доклад. Он был чрезвычайно познавателен. И ответ на вопрос о ценностях в последующей дискуссии также был обеспечен. Из предыдущего разговора я вынес, что к числу абсолютных ценностей для автора доклада относятся свобода и новизна, а это уже не мало. Я бы хотел выступить с позиций противоположных, с позиций традиционалиста, но традиционалиста синергийного, если использовать Вашу, Александр Иванович, терминологию. Отождествление традиционалистской установки сознания с парадигмой синхронистической или, не дай Бог, рефлекторной, представляется неоправданным.
Что же касается дискретности, о которой Вы говорите в применении к архаическому типу сознания, то безотносительно того, насколько это справедливо в отношении первобытного человека, я бы хотел отметить, что дискретность, разорванность смыслового целого исторически никуда от нас не ушла. Она проявляется теперь на другом уровне, дает о себе знать в эпоху современности и пост-современности. Это, конечно, другая дискретность. В первую очередь она выражается в том, что традиция, понимаемая как целостность социума, как расположенная во времени культура, не успевает справляться с инновациями, не успевает их переработать, абсорбировать, аккумулировать. Соответственно, общество находится в состоянии инновационного шока, и не столько потому, что оно ошарашено новым, сколько как раз потому, что оно попадает в другую дискретность, в ситуацию частичного забвения традиционных ценностей, неспособности их удержать и готовности довольствоваться их суррогатами. Эта проблема известна, она обсуждалась неоднократно в XX веке.
С другой стороны, понятие революции, которое Вы совершенно верно трактовали по этимологии, все же не случайно эту первоначальную этимологию изменило. И пока что горизонты, в которых революция возвращается к своей первичной этимологии, представляются мне очень отдаленными. Может быть, когда-то это произойдет, и революции будут свершаться как восстановление некой нормы, золотого века, возвращение в ситуацию для общества желанную, не проективную, а знакомую, связанную не с разрывом, а именно со срастанием социальной ткани…
В.М. Межуев: Это консервативная революция…
– Я думаю, это не совсем так. Является ли консервативная революция тем, о чем идет сейчас речь – это большой вопрос. Скорее я бы назвал это состояние как раз «синергийным традиционализмом» или динамическим консерватизмом, как мы его называем. Нашему времени до этого состояния еще очень далеко, наша эпоха поражена дискретностью. Возможно, что она поражена ею смертельно, потому что этот разрыв между инновациями и способностью гармонизировать общество как целостную традицию выражается в посягательстве на ценности, в том числе и кажущиеся незыблемыми. Вы признаете, что «идеальные ценности» (в Вашей терминологии) подвергаются большему воздействию, чем раньше. Яркий пример этого – такие традиционные ценности как война и мир. До XX века война и мир представляли собой аккумуляцию высоких символических смыслов, объясняли мироздание. С появлением ядерного оружия ценности войны и мира резко изменились, они потеряли свои контуры. А следовательно и перестали объяснять мир, скорее превратившись в инструментарий манипуляции, чем объяснения и ценностного самоопределения человека.
Однако дискретность, разорванность смыслов в эпоху современности и пост-современности посягает уже и на те ценности, которые по Вашему определению являются инертными, практически не подверженными воздействиям со стороны человека. К таковым Вы относите ценности «биологические». Но как раз сейчас мы стоим перед новыми вызовами, под знаком которых начинается XXI век. Фактически мы можем столкнуться с революцией, которую род человеческий уже не сможет вынести. Я имею в виду возможные катастрофические последствия био-социальной революции, составной частью которых будет революция биотехнологий и био-конструирования, что является не частным научным вопросом, а неким ключом к будущему. Проявляется это и в глубинном ценностном фоне постсовременной цивилизации, в которой мутируют и искажаются первичные биологические инстинкты, меняется отношение к семье, рождению и смерти, браку и взаимоотношению полов, смыслу и ценности сексуальности. Формирование новых биологических форм и их сотворение из ничего, когда оно перешагивает пределы самого человека и вторгается в человеческую природу – это такой вызов, который способен размыть самые устойчивые ценностные барьеры.
Я бы не согласился с трактовкой Аристотеля как автора наиболее внятной системы логики, определившей лицо причинно-следственной парадигмы сознания, как Вы ее предлагаете называть. Оптимальность аристотелевского понятийного аппарата всегда подвергалась сомнению и существовала в жестком конкурентном окружении – и с платоническим и с пифагорейским аппаратами, если брать эллинистическую эпоху, не говоря уже об эпохе христианской (или исламской) или, тем более, не говоря о сложной и самобытной индийской логической традиции. В этом отношении аппарат Аристотеля в какой-то момент явился победителем в конкурсе, но это не значит, что он стал окончательным монополистом.
С одной стороны, рассуждая о Парижском споре, о науке как доказательстве верно найденной истины, Вы в этом пункте аранжируете известное суждение, что практика является критерием истины. Однако, с другой стороны, это кажущееся столь эффектным суждение лишено какой-либо очевидности. Недавний конфликт, связанный с выступлением папы Римского Бенедикта XVII, шел как раз вокруг этой проблемы. И хотя в СМИ эта тема освещалась недостаточно, для читавших оригинальный текст лекции папы Римского вполне ясно, что главный пункт претензии папы по отношению к исламу заключался в том, что у христиан истина логична, тогда как у мусульман она иррациональна. Это было основополагающим критическим и отталкивающим зарядом, который папа послал в адрес ислама. Другое дело, что это было обличено в форму буквальных исторических примеров. Исламская улица отреагировала именно на буквальные формулы, однако понятно, что за исламской улицей стояли исламские богословы и авторитеты, без мнения которых никаких волнений и протестов не произошло бы. А интеллектуальная элита в среде мусульман совершенно четко уловила этот глубинный посыл папы, этот вызов: что ваша истина иррациональна, а наша истина логична…
И завершая свое выступление, я хотел бы отреагировать на саму тему нашего семинара «Гуманитарная наука и высшие ценности российского государства». Тема сегодняшнего доклада «Мышление. Наука. Миропознание. Миростроительство» и сам доклада бросил в большую тему семинара очень хорошую закваску. Именно нам в России нужно вырабатывать такую модель, такую интеллектуальную формулу, которая позволила бы нам от дискретности, от ошарашенности инновациями и шокированности вызовами современности, начать переход к более гармоническому состоянию. К тому самому «синергийному традиционализму», о котором я говорил. Потому что выработка такой формы сознания и идеологии позволила бы мудрее отнестись и к ценностям новизны (инновациям и революциям), и к ценностям свободы (эмансипации), о которых сегодня шла речь. Ведь человеку важно не столько преодолеть в себе архаические парадигмы мышления, сколько научиться подпитываться из всех этих форм организации мышления: в том числе и из мифологичности и способности к вневременному прочтению знака, и из установки на гармонизацию и синхронизацию как построение человеческого острова посреди мировой неустойчивости, и из идеологически-поисковой формы мышления. Только в этом и будет заключаться настоящий синергийный эффект.
«Богословские труды» начали публикацию перевода одного из важнейших произведений В.Н. Лосского, его, по выражению С. Хоружего, «главной работы на темы западной мысли»[52 - Лосский В.Н. Отрицательное богословие и познание Бога в учении Мейстера Экхарта (гл. 1–3) / Пер. Г.И. Вдовиной. // Богословские труды, сборники 38 и 39. – М„2003, 2004.]. По свидетельству епископа Василия (Кривошеина), Лосский задумывал этот труд как начало масштабного сопоставления немецкой мистики XIV века с современным ей афонским исихазмом: в ходе такого сопоставления должна была проявиться многоплановая близость двух этих типов мистической философии.
Сама по себе подобная постановка задачи свидетельствует о нетривиальном подходе Лосского к Экхарту как главе немецкой школы мистиков XIV в. Лосский усмотрел в Экхарте и положенной им традиции мистического богопознания тенденцию, ведущую прочь от схоластики к духу Дионисия Ареопагита (здесь и далее называем его без приставки «псевдо-» в угоду православной традиции – В.А.) и паламитской школе греческого богословия. Это тем более знаменательно, что в литературе об Экхарте долгое время доминировали споры на тему «пантеизм или трансцендентальный теизм», «томизм или неоплатонизм» и т. п. Резко расширяя контекст религиозно-философского творчества доминиканского магистра, Лосский тем самым выводит его в общехристианский философско-богословский простор.
В настоящий момент напечатаны три первые главы работы Лосского: «Имя неименуемое», «Имя всеименуемое», «Я есмь Сущий». В 4-й, еще не опубликованной главе работы, Лосский покажет решительное сближение Экхарта с Дионисием и соответственно отдаление его от Фомы Аквинского в том, что касается истолкования апофатического богопознания (апофаза не восхождения, а противопоставления, апофаза парадокса). В трех же первых главах Лосский сконцентрировался на нюансах апофатического и катафатического методов теологии в их экхартовском исполнении и наглядно показал черты уникальности и специфики немецкого духовного писателя. Эта уникальность выявляется в сопоставлении Экхарта со всеми его великими «партнерами», с которыми он вступает в собеседование на страницах своих трактатов и проповедей. В первую очередь это блаженный Августин, св. Иоанн Златоуст, св. Дионисий Ареопагит. Лосский показывает, как в различных аспектах своего богословия Экхарт выстраивает самостоятельную линию, время от времени не соглашаясь с признанными авторитетами. Так, например, в отношении бл. Августина это проявляется в трактовке мистического интростаза (не озарение через соприкосновение разума с богом-Истиной, как это выглядит у Августина, но погружение в интимное пространство «внутреннего человека», ориентация на область транс-психического, на поиск сокровенного Бога в глубинной основе личного сознания). В вопросе о «Едином» Экхартявно полемизирует с Дионисием и отходит от его концепции ближе к неоплатоникам: Единое выступает у него как иерархически высшее по отношению к Благу божественное имя, символизирующее мощь разума, который достигает ступени соединения всех атрибутов. Лосский не устает отмечать многочисленные отсылки Экхарта к Фоме Аквинату, что, тем не менее, лишь подчеркивает несходство их мировоззрений вопреки западной традиции «томистского» прочтения Экхарта (О. Karrer, Denifle, G. Thery).
Апофатическое богопознание у тюрингского доминиканца направлено на проникновение в область «енутреннейшего человека – препространнейшего, ибо он велик без величины». Одним из поразительных качеств Экхарта является связность той диалектики, которая складывается у него на уровнях микрокосма и макрокосма, а также стройность пропорций, который выстраиваются от внутрибожественной жизни (жизни Троицы) к происхождению творения.
Одной из издержек этого напряженного созерцания «таинственных соответствий» стало учение Экхарта о тождестве двух актов: внутрибожественного рождения Бога-Сына и сотворения мира. «Одно и то же речение изводит Слово и творит мир. Бог творит в Начале, т. е. в Себе Самом… Однажды сказал Бог и дважды слышал я это (Пс. 61, 12)». Сотворение мира выступает в этом учении как эхо троичного сотворчества, как своеобразное экранирование сокровенного в откровенном, экранирование внутрибожественных тайн во внешних эманациях. Именно это учение послужило одним из главных поводов к обвинению в ереси и было осуждено папой уже после смерти Мейстера Экхарта.
Одной из главных загадок экхартовской мистики остается связанный с этим отмеченным только что параллелизмом трансцендентных и тварных структур духовной реальности его двууровневый онтологизм. Ряд исследователей (как, например, Альберт Штекль) на полном серьезе приписывали Экхарту наследование пантеистическому учению каббалистов и Эриугены. Однако при ближайшем рассмотрении (и это можно отчетливо увидеть у Лосского) от мнимого «пантеизма» немецкого мыслителя не остается и следа.
Позволю себе небольшое отступление. Как это ни удивительно, противоречия между средневековыми формулами теизма и пантеизма основываются, похоже, на путанице в терминах, произошедшей при истолковании одних и тех же источников. Многозначность понятия «ничто» спровоцировала многих толкователей Ареопагита смешать различные значения термина, что привело к диковинным результатам. Так, в ряде каббалистических толкований ареопагитическое понимание Божественного Ничто (ничто как «не-нечто») превращается в непостижимое небытие, в котором надо мыслить Бога в его самобытии – отсюда следует интерпретация «сотворения мира ех nihilo» как эманации из божественного «ничто». Если извращение терминологии продолжить, то от этой пантеистической формулы можно прийти и к «черной магии», обожествляющей «ничто-пустоту». Однако ни этот экстравагантный ход мысли, ни пантеизм Эриугены, для которого не существует никакого метафизического ничто-небытия (то есть ничто как отсутствия бытия), не имеет сколько-нибудь тесного отношения к мировоззрению Экхарта. Одним из патетических мотивов у Экхарта является как раз собирание и сосредоточение души, которая как бы отворачивается от внешнего и видимого мира, создает в себе ауру небытия, безобразного, бесчувственного пространства, не с тем чтобы «обожествить» природу, как это делают пантеисты, но, напротив, «изничтожить» ее пред лицом Сверхсущего.
Тварный мир выступает у Экхарта как внешний отзвук «безмолвного слова», пребывающего в Отчем Уме; однако же, мир сотворен ex nihilo, и всем сотворенным вещам даровано «бытие после небытия». Таким образом, Экхарт говорит одновременно о двух отличных друг от друга разновидностях бытия: о чем-то вроде сверх-бытия (бытие-в-Боге) и просто-бытия (существование тварных вещей). Экхарт признает, что сами имена Бытия и Блага, усваиваемые Богу в катафатическом богословии, представляют собой обозначения не сущности Бога, а Его исхождений, Его являющей, производящей силы. И тем не менее это не мешает Экхарту рассматривать Бытие (Esse) как метафизический корень божественного существа. Тварное бытие предстает у Экхарта как «средний термин» между Богом и ничто, поэтому мистик призван «освобождать» свою душу от всех следов «ничто», последовательно сосредотачивает ее в той сокровенной точке, которой она соприкасается с первым термином – противоположностью небытия, Божественным Бытием.
Божественное Бытие (по сути, Сверх-Бытие) выступает по отношению к просто-бытию как неприступный мрак, «мрак Моисеев», совершенная пустота, сокровенное «небытие» и «молчание», таящиеся в глубине вещей, в их священном, алтарном нутре. Там поселяется «Спящий и сокрытый в Себе самом». Там же по принципу соответствий осуществляется и первое действие Бога – творение зарождается в непространственной и нефизической глубине сущего (в центре мирового круга). В сокровенной глубине души, как в микрокосме, может происходить таинственное переключение, «щелчок», в результате которого в нем воцаряется структура божественного макрокосма: совлекшись всего внешнего и множественного, собравшись духом в точку глубинного «единства», человеческий дух приобщается Единому как нетленному и способен обнаружить сокровенные божественные тайны, которые не даются мистикам на пути интеллектуального и созерцательного богопознания.
Лосский справедливо указывает, что для описания этого сокровенного Сверх-бытия Экхарт прибегает к таким апокрифическим источникам как «Книга двадцати четырех философов» и некоторым другим герметическим и псевдо-герметическим текстам. В «Книге», созданной в XII в., метафорически выражается самотождественность божественного бытия как «кипение» или «горение». Лосский виртуозно истолковывает эти не вполне внятно и развернуто поданные в оригинале мотивы как «внутренний динамический покой» – действительно, именно так следовало бы истолковать данную метафору. У Плотина, указывает Лосский, аналогом данного представления выступала «прозрачность», то есть такое состояние, когда рассмотрение одних атрибутов не мешает видеть через них множество иных атрибутов, их одновременную жизнь, в конечном счете, единую и неразличенную, но в порядке человеческого разумения представленную как связанные между собой отдельности.
«Бог как вновь почивший» после пути рождения Сына и исхождения Духа – это устойчивость, «парящая тишина», полнота покоя, однако же покоя, результирующего в себе живую динамику. Именно поэтому в творении «всяческих» важны все детали: каждый камень, каждое дерево и каждый ангел не случайны, не лишни, не извлекаемы безвозвратно из круга творения – и это отличает Omnia (всяческая) от Nihil (ничто). В творении реализуется полнота во множественности – ей противопоставлено ничто как противоположность всех и исключение каждого. Такое сопряжение смыслов, которого достигает в данном случае Лосский, выдает в нем православного мыслителя, обогащающего исследуемый материал интуициями и открытиями святых отцов христианского Востока.
В третьей из опубликованных глав перевода описывается библейское «Аз есмь Сый» как единственно верное именование Бога, обозначение его онтологического статуса. Если метафизическим свойством твари оказывается «нужда в ином», логически выраженная как зависимость субъекта от предиката (через определение, т. е. ограничение субъекта), то в самоименовании Бога (Я есмь Сущий) постулируется Его самодостаточность. Экхарт употребляет термин anitas (естьливость), который, по Лосскому, восходит к арабскому anniya («то, что есть ли»). В Боге реализовано тождество чтойности и естьливости, поскольку само Бытие (Esse) Божие обусловлено его Сущностью (Essentia). В этом тавтологическом парадоксе происходит снятие вечного разрыва, который был запечатлен в самой природе логики тварного разума. Выход в металогическое пространство божественного бытия (сверхбытия) предстает в немецкой мистике как вхождение в сокровенное измерение «внутреннего человека».
Хотелось бы рассчитывать в дальнейшем на увлекательнейшее чтение следующих глав работы Лосского, в которых должны быть освещены вопросы, не затронутые в первых главах. К таким вопросам относятся: диалектика различных видов «ничто» в мистике Экхарта (ничто как отсутствие бытия или его недостаток, ничто как результат отрешения от чего-либо частного, то есть «ничто конкретно», ничто как «Божественный мрак», ничто как «сверхсущее небытие», ничто как «девственность души», «последняя нищета», ничто как среда божественной жизни и др.); энергийная жизнь сердцевины души (нетварной «искорки», «сокровенного», «образа и подобия Божия»); учение о Божестве как внутреннем не-личном, (доипостасном?) корне божественной природы в его отличии от Бога и от Троицы – будет любопытно отследить, как Лосский трактует это явно еретическое положение Экхарта, сводит ли он его к издержкам человеческого ракурса во взгляде на божественную реальность или проводит резче и глубже; наконец, мотив «нужды» Бога в твари, миротворении по необходимости.
Судя по первым главам, перед нами беспрецедентное исследование мировоззрения немецкого мистика, во всяком случае, на русском языке оно будет после завершения перевода наиболее полным и адекватным – впрочем, исследование Лосского едва ли не лучшее и на французском языке, о чем косвенно свидетельствует в предисловии к работе Этьен Жильсон. О самом же Лосском Жильсон говорит так: «Знания нераздельно сочетались в нем с духовной глубиной, передававшейся окружающим, излучавшейся всей его личностью…» Эти слова как нельзя лучше подтверждают, что богослов и мистический философ В.Н. Лосский был живым свидетельством православной традиции в Европе и явился несомненной гордостью нашей духовной культуры XX века.
4. пневматологический парадокс и «научная истина» (лосский и викентий лиринский)
Для верного понимания пневматологического измерения традиции чрезвычайно ценным следует признать тот комплекс идей, который мы предложили назвать парадоксом Лосского. Резюмируя смысл этого парадокса, мы должны будем указать на три его существенных черты. Во-первых, это парадокс «динамического консерватизма», то есть кристаллизации слоев традиции в виде исторически новых ответов на «вызовы» как внешней среды, так и на внутренние деструктивные тенденции; при этом сама традиция в ее пневматологическом измерении не меняется и не растет, меняется лишь ее опыт взаимодействия с иным, растут институции такого опыта (в каноническом, организационном и текстуальном поле традиции) и сами механизмы взаимодействия с иными культурами (в периферийном поле традиции). Здесь можно также добавить, что в этих меняющихся институциях и механизмах внешнего проявления традиция не только видит свое отражение, познает себя, воплощает свои интуиции, но и рискует, вступая на поле культурных мутаций, критики основ, поиска фундаментальных альтернатив.
Во-вторых, это парадокс многоединства теофании: созревание в традиции является делом каждой личности, а не коллектива, который хранит уже достигнутое, каждый путь в пневматологическое измерение уникален и своеобразен. В этом смысле традиция представляет собой не глобальный институт, но личный очаг самовозрастания – из этого следует парадоксальное многообразие и многоликость таких очагов (алтарей, вместилищ таинства, вершин познания); но в то же время это многообразие не сущностей, но скорее окон или каналов, через которые все индивидуумы встречаются, общаются с полнотой пневматологии. Множество субстанций является условием консубстанциальности (консубстанциальность была бы избыточна как категория, если бы субстанция оказалась просто единой и неразличимой).
В-третьих, это парадокс индивидуально-духовной природы традиции, который состоит в том, что пневматология, предоставляя каждому субъекту особое подспорье в его возрастании, как будто в милосердии находя к нему специальные пути, по мере этого возрастания предоставляет ему и свободу от индивидуальных ограничений, свободу от той «ситуации» и того «ракурса», который затемняет истину, свободу в связи с неизбежной неполнотой индивидуального существования; парадоксально здесь это вмещение человеческой природой в органах богообщения бесконечной перспективы собственного преображения и овладения бытием (вмещение частным и конечным целого и бесконечного, личным – сверхличного, неполным – достаточного для реализации полноты).
Динамический консерватизм, многоединство теофании, индивидуально-духовная природа традиции, – все это грани триединого пневматологического парадокса Лосского, раскрытие которого является для нас одним из важнейших итогов развития русской религиозно-философской мысли и русской метафизики[53 - Довольно близко к парадоксу Лосского подошел и Н.С. Арсеньев с его концепцией динамичной традиции как творческого духа (в работе «Из русской культурной и творческой традиции», 1959). Тринитаризм в трактовке традиции у Арсеньева уже присутствует в скрытом виде, не хватает лишь ее прямого обнаружения. Неслучайно он пытается найти третье начало в синтезе гегелевских противоположностей (как это пытались делать, пусть с другими философскими целями, представители «франкфуртской школы», в частности, Адорно).].
Под пневматологическим аспектом традиции подразумевается в первую очередь ее внутренний сакральный стержень. В православной традиции «духовный стержень» может пониматься буквально, как вертикальное измерение традиции, в котором ожидается и мыслится действие Святого Духа (именно такое, а не абстрактно-обезличенное понимание «духовности» следует признать аутентичным для христианской культуры). С другой стороны, пневматология представляет собой не только знание о Святом Духе, но и знание о духах вообще, и направлено на то, чтобы реализовать в традиции одну из ее ключевых подсистем – подсистему передачи критериев «различения духов»[54 - Термин «пневма» («дух») имел большое значение в учении стоиков (разумные дыхание, первоогонь, разумный дух), был ключевой категорией у гностиков (пневма как один из эонов, скрепляющих и упорядочивающих плерому), а с XVI–XVII вв. у оккультистов и эзотериков разных направлений. Что касается церковной пневматологии, то она принесла наиболее заметные плоды в учении о Духе Святом как части богословской триадолгии и в общих чертах сложилась уже в первые века христианства (Максимов Ю.В. Учение о Святом Духе в ранней Церкви (І-ІІІ вв.). – М., 2007; свящ. Георгий Завершинский. Введение в православное учение о Святом Духе. – СПб., 2003; Swete Н.В. The Holy Spirit in the Ancient Church. L., 1912 и др.)].
Одним из главных аргументов против философской манифестации пневматологического аспекта традиции может состоять в том, что знания духовных традиций, касающиеся мистической реальности, не поддаются верификации. В этом состоит самая существенная претензия рационализма по отношению к традиционным формам, в первую очередь к каноническим формам знания в христианской церкви – претензия, проявившаяся в учении об идолах Ф. Бэкона или в постулате И. Канта о несовершеннолетии человека, живущего в допросветительской парадигме. Своего рода резюмирующим обобщением этой претензии стал аргумент Э. Шилза о том, что в войне оригинальности с традицией первая переносит центр тяжести творчества внутрь индивидуальности и отнимает прерогативу определять образ поведения у внешнего объективного наследия[55 - Shils E. Tradition. – Comparative Studies in Society and History. – Vol. 13. № 2. April 1971,-p. 143.].
Однако отсутствие рационалистической верификации сциентистского типа не означает отсутствия верификации вообще. Необходимо отметить, что традиционное сознание разрабатывало свои методы верификации опыта, которые были вполне адекватны своему времени и своим культурным моделям. Пневматологическая сфера традиции, несмотря на крайнюю степень непредсказуемости и подвижности «пророческого» опыта, может иметь свои механизмы верификации и согласования разных форм и событий этого опыта. В наиболее разработанном и объективированном виде такие механизмы были предложены ев. Викентием Лиринским в его критерии истины на основе всеобщности, древности и согласии предания (его исповедании всюду, всегда, всеми). Конкретизируя этот критерий, ев. Викентий поясняет, что, в случае сомнений и разногласий, необходимо сверяться по трем главным источникам: во-первых, по деяниям Вселенских Соборов (воплощавших всеобщность), во-вторых, по преданию апостольских времен (воплощающему христианскую древность), в-третьих, по консенсусному мнению большинства наиболее авторитетных и признанных учителей Церкви (в этом – принцип согласия предания)[56 - Викентий Лиринский. Памятные записки Перегрина. – М., 1999. – С. 50–51,54-55.]. Если такого консенсуса нет или он недостаточен, то однозначное решение вопроса невозможно, и различные мнения о нем представляют собой частные богословские мнения, столкновение которых мог бы разрешить лишь Вселенский Собор.
В этом подходе особо обращает на себя внимание критерий согласия, поскольку, если в двух первых критериях мы имеем дело со сложившимся, более или менее фиксированным каноном, то именно в согласии большинства учителей мы получаем подлинный и всегда актуальный формат верификации свободной стихии духовного опыта. По существу, ев. Викентий Лиринский предложил способ объективизации результатов уникального и даже мистического сознания внутри конкретной традиции через собирание и сопоставление интроспекций. При этом речь нужно вести не о субъективных интроспекциях, как они понимаются в психологии Нового времени, но о выявлении коллективной собирательной интроспекции как опыта соборной консубстанциальности[57 - Это позволяет историкам богословия говорить о данном подходе как «методе христианской науки», то есть о своеобразном типе научного сознания (Филевский Иоанн, священник. Учение св. Викентия Лиринского о Священном Предании и его значение. – СПб., 1897. – С. 17).].
Парадокс этого метода состоит в том, что, несмотря на наличие ошибок и фантастического элемента в мистическом опыте очень многих, если не всех богословов и мыслителей, приведение их к общему знаменателю «коллективной интроспекции» исправляет и исцеляет эти ошибки, вырабатывая каноническую линию не путем простого суммирования, а путем выявления единого ядра в разнообразном субстрате. Это напоминает феномен варьирования традиции, о котором пишут теоретики фольклора и другие исследователи традиционных систем культуры[58 - Аникин В.П. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. – М., 1980; Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избр. статьи. – М., 1976; Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. – М., 1961.]. Через сопоставление собственного опыта с опытом учителей и духовных предшественников человек традиции освобождает себя от опасности безапелляционного погружения в пневматологическую сферу, от произвольной мечтательности, и осуществляет вживание в иерархически высшее духовное состояние.
Человек традиции, таким образом, действует под руководством без руководства (поскольку критерий коррекции его погружения в полноту традиции находится в нем самом, в его сознании своей связи и связности с предшественниками и высшим духовным миром). Обратным подходу Викентия Лиринского можно считать современное убеждение о том, что в новых поколениях познания человечество отрекается от предыдущих, пройденных ступеней как от анахронической части наследия. С нашей точки зрения, это очень спорная постановка вопроса. Предыдущие стадии развития в идеале должны не «сниматься» в последующих, а параллельно с новой парадигмой предоставлять человеку свой полезный потенциал. В противном случае «развитие» превращается в бег по кругу – когда, приобретая одно, мы утрачиваем другое, и так до бесконечности. В нашей концепции трех внутренних измерений традиции содержится подтекст, указывающий на то, что в ходе становления модерна эти измерения не просто искажаются, а подвергаются радикальной переоценке: внутренний модус (пневматологический) объявляется архаическим пережитком, заблуждением, свойственным человечеству лишь на ранних этапах развития; организационный модус традиции объявляется консервативным, подлежащим реформированию и перебраковке с отбрасыванием «устаревших» и с модернизацией пригодных частей; периферийно-пограничный модус делается единственным источником и оплотом обновления.
Подход Викентия Лиринского дает альтернативный «научному» (в модернистском смысле) метод верификации, достоверность которого напрямую связана с выработкой опыта не вообще в человечестве, а в «конкретном человечестве», то есть в данной «полной традиции». Собирание интроспекций в общечеловеческом, транскультурном контексте пока представляет нерешенную и, возможно, неразрешимую проблему. Транскультурный подход к духовному опыту, если бы он был последовательно проведен, означал бы убеждение в том, что «полнота» во всех традициях общая, объективная, одна и та же. В таком случае различия в «теле традиции» и в ее внешней сфере обуславливались бы лишь различием языков и природных склонностей того или иного народа (общности, носителей идентичности культурного ареала) и представляли бы собой разные формы затемнения изначального духовного послания. Социокультурный же подход, напротив, не считал бы возможным говорить об объективной определенности «полноты» без ее «опредмечивания» в конкретной культуре.
Но поскольку организационные комплексы традиций разных культур и народов принципиально несовместимы и не унифицируемы, то, получается, что и «полнота» в каждой традиции уникальна. Вопрос этот так же сложен, как и вопрос о том, одного и того же Бога имеют в виду разные религии, или это разные «боги». Если мыслить транскультурный подход без претензий на унификацию традиций, но как проект чисто образовательный, направленный на изучение соседей и построение диалога, то такой транскультурализм неоднократно применялся в имперских государствах, в которых реализуется стратегия на углубление взаимопонимания и взаимное уважение. В таком случае транскультурный подход должен опираться на социокультурный как свою конфессиональную и конкретно-историческую базу[59 - Крайности транскультурного и социокультурного подходов проявляются, с одной стороны, в тайных эзотерических обществах, конструирующих собственную интернациональную сеть адептов, с другой стороны – в малых монолитных в этнокультурном плане государствах с жесткой дихотомией «наше – чужое» и изоляционистскими установками. Последнюю тенденцию эзотерики склонны называть «воинствующим экзотеризмом».]. Важное значение для науки транскультурного подхода, что, к примеру, сполна проявилось в творчестве П.А. Флоренского, состоит в том, что исследователь, стоя на фундаменте собственной культуры, не отметает с позиций ее канонов и догматов опыт других культур, а старается разглядеть в них иные способы и варианты десублимации той же пневматологической реальности, с которой он имеет дело в духовном опыте собственной традиции.
Таким образом, в пневматологическом парадоксе Лосского отражается также и парадокс «многоединства» культур и религиозных систем. Многоединство осуществляет себя на нескольких уровнях: и внутри конкретной традиции, и вовне ее. При этом критерий истины может содержаться только внутри религиозно-культурного многоединства, и не может произвольно переносится из одного культурного круга в другой (грех такого неоправданного перенесения – также характерная черта западного христианства и западной философии). Поспешное узаконивание человеческого ракурса многоединства, трактуемого как «всеединство» – типичная ошибка философского сознания.
Итак, в пневматологическом парадоксе выражена мистическая структура традиции: она не просто двойственна, а едино-множественна. В самой оболочке, в самой периферии традиции, а не только в ее центре, содержатся эмбрионы ядер, традиция вся «заряжена» идентичностью. Динамический консерватизм означает сложность и многослойность не только традиции как целого, но и каждого носителя традиции, каждого, в сущности уникального, выразителя ее полноты (и одновременно ее закрывателя, затемнителя в силу недоступности и неисчерпаемости полноты).
Священное Предание в том мистическом, «пневматологическом» понимании, которое раскрывает в своих произведениях Лосский, оказывается не столько социальной, сколько духовно-индивидуальной категорией – связанной с «метанойей», «умоизменением» человека. В этом состоит корень его пневматологического парадокса, суть которого: вмещение конечным и ограниченным бесконечного и вечного, освобождение от собственной ограниченности и конечности, от скованности рамками, положенными человеческой жизнью. Это роднит религиозно-философский идеал Лосского с исихастской традицией, однако об исихазме он в этой связи специально не говорит. Его трактовка пневмато логической проблематики остается предельно аскетичной и в то же время широкой, поскольку не фиксируется на конкретных школах и направлениях духовной практики внутри православия, оставляя для всех открытой дверь к мистической полноте. В то же время Лосский был нацелен на то, чтобы избежать свойственного католическому опыту искажения первоначального церковного понимания сущности Священного Предания, в силу которого западные христиане часто ставили на место задачи выявления многоликости истины другие цели: прозелитические, пропагандистские, агрессивно миссионерские и т. д.
Пневматологический парадокс указывает на многослойность традиции и подразумевает, что статические состояния, инертная реакция традиции-системы в одном ее измерении могут подразумевать креативный активизм, молниеносную и даже опережающую реакцию той же самой традиции в другом ее измерении. Отсюда становятся ясными такие «мистические» и поэтические метафоры как «самодвижный покой», «неподвижное движение», «пресветлый мрак», «полнозвучное молчание», «плодотворная бесплодность»[60 - Двойственность этих формул обманчива. В них состояние субъекта традиции парадоксально и нередко антиномично сочетается с состоянием субстанции традиции, при этом качества субъекта распространяются еще и на его проекцию вовне субстанции (то есть на функцию традиции-системы). Таким образом, перечисленные метафоры указывают не только на внешнюю двойственность традиции, но и на более глубокий уровень, а именно: ее тройственности и в других отношениях – плюралистичности.]. С точки зрения Уильяма Джемса, автора знаменитой книги «Многообразие религиозного опыта», такие мистические парадоксы показывают, что в основе их лежит не логика, а музыка. На наш взгляд, это не совсем так. Музыкальные аналогии в понимании трансцендентного аспекта традиции и его соотношений с традицией-системой возможны и нередко уместны – однако они не снимают логичности и семантической стройности этих соотношений. Нелогичными они могут казаться только стороннему наблюдателю.
Статья «Традиция» в энциклопедии «Русская философия»
Понятие, отражающее сущность социокультурного наследования, исторической устойчивости и преемственности. В современном словоупотреблении Т. понимается, во-первых, как порядок (стереотип) наследования, обеспечивающий посредством определенных правил, норм, образцов точное воспроизведение наследуемого содержания, во-вторых, как сам процесс организованного таким образом наследования и, в-третьих, как полная система моделей наследования, включая мировоззрение, институты и организации, ее обеспечивающие (Т. как «традиционное общество», культурно-национальная Т. и т. д.).
Специфически русское философское осмысление проблемы Т. восходит еще к средневековой системе понятий, описывающих формы преемственности, таких как «покон», «старина», «пошлина» (то, что «пошло» испокон). В старом языковом сознании Т. отождествлялась с «устным преданием» и тесно связывалась с понятием «церковного предания». Церковный раскол XVII века был во многом определен спором о правильной форме религиозной Т. – о ее вселенском и национальном масштабах, об очертаниях «отеческого» и общецерковного предания. Многие русские мыслители (Тареев, Розанов, Н. Трубецкой, Федотов, Флоровский) видели в расколе XVII в. и в последовавших за ним петровских преобразованиях объяснение кризисности русской культурно-исторической и государственной Т. в ее целом.
Осмысление проблематики социального наследования и традиционности культуры в русской философии происходило под перекрестным воздействием консервативно-традиционалистского направления западной мысли (католическая контрреформация, традиционализм XIX в., романтический консерватизм, неоконсерватизм) и ее прогрессистско-модернистского направления. В России Т. трактовалась и как «органицистская» категория, выражающая национальный дух страны (славянофилы, почвенники, русские консерваторы), и как форма приспособления общечеловеческого духа к местным и национальным условиям (русские просветители, позитивисты, представители либерализма), и как историческую инерцию, остатки и следы прежних ступеней развития общества (марксисты).
Проблема Т. резко актуализировалась в перв. пол. XX века в связи с революционными событиями. Своеобразными итогами размышлений русской интеллигенции о судьбах культурного наследия стали сборник «Вехи» и «Переписка из двух углов» Вяч. Иванова и Гершензона. Большинство мыслителей Русского Зарубежья видели свою миссию в сохранении наследия «традиционной России». Для евразийства была характерна критика «неорганической» Т, предвосхищавшая идеологию афро-азиатского традиционализма в развивающихся странах второй пол. XX в. У Н.С. Трубецкого органическая Т. понималась как воплощение гармонии и сбалансированности национально-культурных начал исторической общности. При этом евразийцы оптимистично смотрели на возможность синтеза в России новых форм национально-культурной Т. В отличие от них либеральные консерваторы (П.Б. Струве, С.Л. Франк) ориентировались на дореволюционное состояние России и строили компромиссный социальный идеал, в котором диалектически сочетались бы и гармонизировали друг друга Т. и новация, совершалась бы постоянная «уступка» друг другу со стороны либеральных и охранительных сил. Особую позицию занимал И.А. Ильин, допускавший исторический компромисс для того, чтобы в дальнейшем достигнуть прочной цивилизационной стабильности. Неоконсервативный идеал Ильина – духовная Т. «сердечного созерцания», исторически заданная русскому народу, но, тем не менее, имеющая универсальное духовное значение.
У большинства советских мыслителей Т. рассматривается не как самостоятельный источник социального становления, но скорее как сумма сложившихся культурных форм, своего рода «осадок» и кристаллизация культурного наследия. Если в 20-30-е гг. Т. рассматривается как реакционная стихия сопротивления преобразованиям, то впоследствии формируется устойчивая тенденция к «позитивизации» представления о Т. и преемстве, культурном прошлом. В зрелый советский период Т. понимается как само социальное наследование (включающее в себя инновации и неотделимое от них), а также как механизм становления культуры как системы. В 60-е – 70-е гг. сложилось несколько подходов к проблеме Т, которая интерпретировалась как наследуемые нормы и принципы (нормативисты), как закон стабилизации общественных отношений (В.Д. Плахов), код культурной системы (структуралисты, Д.Б. Зильберман), воспитательная система, фиксирующая определенное состояние общественного сознания (И.В. Суханов). Одной из наиболее влиятельных школ позднего советского периода была школа Э.С. Маркаряна, которая рассматривала Т. как гомеостатическую систему, обеспечивающую равновесие общества и природной среды. Маркарян выступил с идеей создания особой теории культурной Т, традициологии, которая мыслилась в его школе как информационная теория культуры. В советской гуманитарной науке были свои глубоко своеобразные разработки проблемы Т, не укладывающиеся в значительной мере в схемы западной социальной философии (В.Д. Плахов, К.В. Чистов, В.П. Аникин и др.).
В постсоветский период в отечественной мысли происходит резкое смещение научных границ исследования. Обращение к постмодернизму с его убеждением в кризисе традиционной науки соседствует с обращением к собственному культурному, духовному, философскому наследию. На место Т. как суммы некоторых имманентных социальному процессу фактов приходит поиск Т. как ключевого фактора социальной жизни. Т. понимают как неуловимое, ноуменальное строение внутреннего культурного акта, необъективированного «универсального предела» культуры (В.В. Малявин), как «трансляцию синергии» (диакон Андрей Кураев), как скрытый, трансцендентный, «пневматологический» аспект социальной жизни (современные традиционалисты). Традиционалистская трактовка Т. связана одновременно как с усвоением опыта близких европейских религиозно-философских направлений (Р. Тенон, религиоведческая школа М. Элиаде), так и с возрождением интереса к отечественной богословской и религиозно-философской мысли. В теологическом смысле Т. представляет собой фундаментальный «источник откровения» о Боге и мире; в русской религиозной философии при констатации разрыва современной культуры с Т. утверждается теснейшая связь и зависимость друг от друга светской и религиозной Т. (М.М. Тареев, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Г.В. Флоровский, В.В. Зеньковский, Н.С. Арсеньев).
Тема Св. Предания обсуждалась в русском богословии XVIII и XIX вв. (Стефан Яворский, школа митрополита Платона (Левшина), митрополит Филарет (Дроздов), представители духовно-академической философии). В начале XX в. эта тема получила широкое освещение в работах Филевского, Пономарева, Н. Аксакова, Тареева. Флоренский усматривал в церковном каноническом типе организации смысла общечеловеческий идеал социального наследования. Карсавин видел в традициях как исторических феноменах их внутреннюю связь в абсолютном идеале истории, при этом Св. Предание выступает у него как единственно возможная подлинная Т. а также как специфическое отношение всякой индивидуальности к Богу По определению С.Н. Булгакова, Т. (предание) есть феноменальная манифестация ноуменального единства Церкви, в котором личное согласуется со всей совокупностью верующих и со всеми моментами временного ряда, в котором это личное стоит. Широта и гибкость предания в его конкретных формах парадоксально сочетается с неисчерпаемостью внутреннего его измерения, «полнотой» (плеромой). Согласно В.Н. Лосскому, в каждую историческую эпоху эта «полнота» открывается отчасти и по-разному, в различных «ракурсах». Лосский описывает свой идеал культурного наследования как «динамический консерватизм», т. е. установку на непрерывное обновление горизонтальных проекций Т, что не означает изменения (обогащения, развития и т. п.) ее самой[61 - Лит.: Аксаков Н.П. Предание Церкви и предания школы. // Богословский вестник т. 1. 1908; Аникин В Л. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. – М.,1980; Арсеньев Н.С. Из русской культурной и творческой традиции. – Франкфурт, 1959; Булгаков С. Православие. Очерки учения Православной Церкви. – М., 1991; Лосский В.Н. По образу и подобию. – М., 1995; Маркарян Э.С. Узловые проблемы культурной традиции. // Советская этнография 1981 № 2. (статья и дискуссия вокруг нее); Осипова О.А. Американская социология о традициях в странах Востока. – М, 1985; Плахов В.Д. Традиции и общество. – М., 1982; Пономарев П.П. Священное Предание как источник христианского ведения. – Казань, 1908; Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М., 1976; Тареев М.М. Христианская философия. Часть I: Новое богословие. – М., 1917; Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. – М., 1999; Филевский Иоанн, священник. Учение Православной Церкви о Священном Предании. – Харьков, 1902; Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992; Художественные традиции литератур Востока и современность: Ранние формы традиционализма. – М., 1985; Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. – М., 1986.].
Другая дискретность[62 - Статья представляет собой выступление в дискуссии вокруг доклада А.И. Неклессы на научном семинаре «Sinergia» и впервые была опубликована в сб.: Миропознание и миростроительство. Материалы научного семинара «Sinergia». Выпуск № 1 – М., 2007. – С. 154–155.]
Я благодарен автору за доклад. Он был чрезвычайно познавателен. И ответ на вопрос о ценностях в последующей дискуссии также был обеспечен. Из предыдущего разговора я вынес, что к числу абсолютных ценностей для автора доклада относятся свобода и новизна, а это уже не мало. Я бы хотел выступить с позиций противоположных, с позиций традиционалиста, но традиционалиста синергийного, если использовать Вашу, Александр Иванович, терминологию. Отождествление традиционалистской установки сознания с парадигмой синхронистической или, не дай Бог, рефлекторной, представляется неоправданным.
Что же касается дискретности, о которой Вы говорите в применении к архаическому типу сознания, то безотносительно того, насколько это справедливо в отношении первобытного человека, я бы хотел отметить, что дискретность, разорванность смыслового целого исторически никуда от нас не ушла. Она проявляется теперь на другом уровне, дает о себе знать в эпоху современности и пост-современности. Это, конечно, другая дискретность. В первую очередь она выражается в том, что традиция, понимаемая как целостность социума, как расположенная во времени культура, не успевает справляться с инновациями, не успевает их переработать, абсорбировать, аккумулировать. Соответственно, общество находится в состоянии инновационного шока, и не столько потому, что оно ошарашено новым, сколько как раз потому, что оно попадает в другую дискретность, в ситуацию частичного забвения традиционных ценностей, неспособности их удержать и готовности довольствоваться их суррогатами. Эта проблема известна, она обсуждалась неоднократно в XX веке.
С другой стороны, понятие революции, которое Вы совершенно верно трактовали по этимологии, все же не случайно эту первоначальную этимологию изменило. И пока что горизонты, в которых революция возвращается к своей первичной этимологии, представляются мне очень отдаленными. Может быть, когда-то это произойдет, и революции будут свершаться как восстановление некой нормы, золотого века, возвращение в ситуацию для общества желанную, не проективную, а знакомую, связанную не с разрывом, а именно со срастанием социальной ткани…
В.М. Межуев: Это консервативная революция…
– Я думаю, это не совсем так. Является ли консервативная революция тем, о чем идет сейчас речь – это большой вопрос. Скорее я бы назвал это состояние как раз «синергийным традиционализмом» или динамическим консерватизмом, как мы его называем. Нашему времени до этого состояния еще очень далеко, наша эпоха поражена дискретностью. Возможно, что она поражена ею смертельно, потому что этот разрыв между инновациями и способностью гармонизировать общество как целостную традицию выражается в посягательстве на ценности, в том числе и кажущиеся незыблемыми. Вы признаете, что «идеальные ценности» (в Вашей терминологии) подвергаются большему воздействию, чем раньше. Яркий пример этого – такие традиционные ценности как война и мир. До XX века война и мир представляли собой аккумуляцию высоких символических смыслов, объясняли мироздание. С появлением ядерного оружия ценности войны и мира резко изменились, они потеряли свои контуры. А следовательно и перестали объяснять мир, скорее превратившись в инструментарий манипуляции, чем объяснения и ценностного самоопределения человека.
Однако дискретность, разорванность смыслов в эпоху современности и пост-современности посягает уже и на те ценности, которые по Вашему определению являются инертными, практически не подверженными воздействиям со стороны человека. К таковым Вы относите ценности «биологические». Но как раз сейчас мы стоим перед новыми вызовами, под знаком которых начинается XXI век. Фактически мы можем столкнуться с революцией, которую род человеческий уже не сможет вынести. Я имею в виду возможные катастрофические последствия био-социальной революции, составной частью которых будет революция биотехнологий и био-конструирования, что является не частным научным вопросом, а неким ключом к будущему. Проявляется это и в глубинном ценностном фоне постсовременной цивилизации, в которой мутируют и искажаются первичные биологические инстинкты, меняется отношение к семье, рождению и смерти, браку и взаимоотношению полов, смыслу и ценности сексуальности. Формирование новых биологических форм и их сотворение из ничего, когда оно перешагивает пределы самого человека и вторгается в человеческую природу – это такой вызов, который способен размыть самые устойчивые ценностные барьеры.
Я бы не согласился с трактовкой Аристотеля как автора наиболее внятной системы логики, определившей лицо причинно-следственной парадигмы сознания, как Вы ее предлагаете называть. Оптимальность аристотелевского понятийного аппарата всегда подвергалась сомнению и существовала в жестком конкурентном окружении – и с платоническим и с пифагорейским аппаратами, если брать эллинистическую эпоху, не говоря уже об эпохе христианской (или исламской) или, тем более, не говоря о сложной и самобытной индийской логической традиции. В этом отношении аппарат Аристотеля в какой-то момент явился победителем в конкурсе, но это не значит, что он стал окончательным монополистом.
С одной стороны, рассуждая о Парижском споре, о науке как доказательстве верно найденной истины, Вы в этом пункте аранжируете известное суждение, что практика является критерием истины. Однако, с другой стороны, это кажущееся столь эффектным суждение лишено какой-либо очевидности. Недавний конфликт, связанный с выступлением папы Римского Бенедикта XVII, шел как раз вокруг этой проблемы. И хотя в СМИ эта тема освещалась недостаточно, для читавших оригинальный текст лекции папы Римского вполне ясно, что главный пункт претензии папы по отношению к исламу заключался в том, что у христиан истина логична, тогда как у мусульман она иррациональна. Это было основополагающим критическим и отталкивающим зарядом, который папа послал в адрес ислама. Другое дело, что это было обличено в форму буквальных исторических примеров. Исламская улица отреагировала именно на буквальные формулы, однако понятно, что за исламской улицей стояли исламские богословы и авторитеты, без мнения которых никаких волнений и протестов не произошло бы. А интеллектуальная элита в среде мусульман совершенно четко уловила этот глубинный посыл папы, этот вызов: что ваша истина иррациональна, а наша истина логична…
И завершая свое выступление, я хотел бы отреагировать на саму тему нашего семинара «Гуманитарная наука и высшие ценности российского государства». Тема сегодняшнего доклада «Мышление. Наука. Миропознание. Миростроительство» и сам доклада бросил в большую тему семинара очень хорошую закваску. Именно нам в России нужно вырабатывать такую модель, такую интеллектуальную формулу, которая позволила бы нам от дискретности, от ошарашенности инновациями и шокированности вызовами современности, начать переход к более гармоническому состоянию. К тому самому «синергийному традиционализму», о котором я говорил. Потому что выработка такой формы сознания и идеологии позволила бы мудрее отнестись и к ценностям новизны (инновациям и революциям), и к ценностям свободы (эмансипации), о которых сегодня шла речь. Ведь человеку важно не столько преодолеть в себе архаические парадигмы мышления, сколько научиться подпитываться из всех этих форм организации мышления: в том числе и из мифологичности и способности к вневременному прочтению знака, и из установки на гармонизацию и синхронизацию как построение человеческого острова посреди мировой неустойчивости, и из идеологически-поисковой формы мышления. Только в этом и будет заключаться настоящий синергийный эффект.