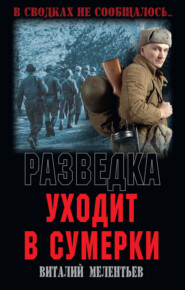По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Варшавка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лысов поправил фуражку и спросил:
– Автомат лишний есть?
Лишнего автомата, конечно, не было, и адъютант старший молча передал капитану свой – незаконно списанный когда-то, нигде не числящийся и потому ставший как бы личной собственностью начальника штаба.
Обстановка прояснялась. Противник, видимо, проводил разведку боем. Если бы он собрался в настоящее наступление, так артподготовку вел бы на полную мощность, а не скупился бы, не маневрировал бы стволами. Тоже, видать, на лимите сидят, экономят выстрелы. Выходит, все замыкается на ротном участке.
«Ну что ж… это полегче, – подумал Лысов, но, взглянув на часы – прошло минуты четыре-пять, – спохватился. – Всем легче, а мне – труднее. На меня наваливаются. Значит, все от одного меня и зависит».
И хотя еще в те секунды, когда он просил автомат, он уже принял решение пробираться на свой НП – ведь вон связисты восстановили же связь, значит, пробиться можно, – только теперь Лысов осознал обстановку, прочувствовав ее, понял, чем он рискует, и выругался про себя: «Чертов Жилин! Иди под огонь без прикрытия. Ранят – и вытащить некому».
– Старший лейтенант. Дайте связиста, пойдем на НП.
Как раз в это время позвонили с НП.
– Товарищ капитан! – почему-то весело, возбужденно кричал командир взвода связи молоденький младший лейтенант, и Лысов, узнав его по голосу, про себя решил, что командир взвода связи действовал в данном случае правильно – НП сейчас главное звено, и именно там находится начальник связи.
– Товарищ капитан! Фрицы атакуют.
– Много? – спокойно спросил Лысов – ведь он ждал этой атаки.
– Много, товарищ капитан! Человек сто!
– Держитесь там. Сейчас подойду!
Он бросился к дверям, и адъютант старший глазами приказал писарю сопровождать капитана: последнего, дежурного, связиста он отпустить не мог.
Глава четвертая
Жалсанов как стоял, боком привалившись к стенке котлована, так и остался стоять. Только выложил винтовку между темными ломтями осенней глины. Колпаков и Малков молча встали по обе стороны и тоже выложили винтовки. Жилин с Засядько пробежали метров сто и юркнули в кустарник – когда-то они отрывали там парные окопы-«кувшинчики».
Они едва успели устроиться в тесных окопчиках, как начался минометный налет. До кустарника мины не долетали. Вся оборона батальона была как на ладони, и Жилин гораздо раньше Лысова определил и направление удара противника, и его замысел.
«Конечно, – думал он, – фрицу тоже требуется узнать, чего мы стоим на сегодняшний день и почему так активно примолкли. Ничего… рога мы ему сейчас собьем».
Сюда, ко второй линии обороны, осколки не долетали, но дым от разрывов доплывал – горьковато-пряный, возбуждающий.
Жилин видел, как мелькали каски наших солдат, как юлили по бурому бурьяну связисты, сращивая обрывы, и находил, что все идет правильно и опасаться нечего. Но тут вспомнился Лысов, и Костя на секунду заколебался. Комбату, ясно, потребуется пробраться на НП, а он, его связной, здесь. Непорядок.
«А-а… – мысленно махнул он рукой. – Не маленький, проберется. Людей много, возьмет на прикрытие».
И все-таки успокоения не пришло. Бой, он и есть бой, и комбату, конечно, было бы надежней с Костей – и привычка, и есть с кем перекинуться парой слов, и даже на ком сорвать злость. Но главным все-таки было не это. Костя привык к комбату и, может быть, по-своему любил. И беспокоился он о нем в те минуты не потому, что не сможет прикрыть его, спасти, а потому, что как нелюбящая, но преданная жена вечно беспокоится о своем баламуте-муже, отце ее детей, так и он боялся, как бы Лысов не натворил что-нибудь. «Не дело», как сказал бы Малков. Косте казалось, что он умел удерживать Лысова от ненужных, на его, конечно, взгляд, порывов, а иногда, наоборот, подталкивать, когда комбат колебался. А тут Лысов окажется один, без присмотра…
Была минута, когда Костя мог бы бросить снайперов и побежать к комбату, хотя был твердо убежден, что здесь, на этом месте, в этой неожиданной засаде, он нужней. Но сердце иногда бывает сильней разума.
Огонь минометов и артиллерии усилился, распространился почти на весь фронт батальона, а с первых траншей нашей обороны переместился и в глубину – немцы били по штабу батальона и ходам сообщения.
И тут началась атака.
Противник выскакивал резво, стремительно – застоявшиеся, хорошо тренированные солдаты словно распластывались над землей, как летающие лыжники после взлета с трамплина. На секунды они скапливались у проходов в проволочных заграждениях, а потом бежали опять вперед. Целиться в таких, прорвавшихся за проволоку, было нелегко, и Жилин стрелял по тем, кто еще только выпрыгивал на бруствер своей, только что такой надежной, траншеи.
Первый же фриц мгновение покачался в неестественной позе – задрав вверх руку с автоматом, выставив вперед колено – и завалился назад.
Жилин, как всегда, стрелял трассирующими. Он указал и цель и показал, как нужно бить. И снайперы заработали. А Жилин в это время стремительно сменил обойму – выбросил трассирующие и загнал обычные.
Теперь целеуказание ни к чему. Противник – на ладони. Бей – не хочу.
И они били. Конечно, многие из фрицев успевали оттолкнуться от брустверов траншей и устремлялась вперед, но многие, очень многие опрокидывались навзничь, оставались лежать на брустверах.
В грохоте минных и снарядных разрывов винтовочные выстрелы, конечно, потонули, трасс не было, и поэтому убийственно точный, на выбор, снайперский огонь подавляюще подействовал на тех, кто еще не успел выпрыгнуть. Там, в траншеях противника, заметались офицеры и унтера, выталкивая замешкавшихся солдат, и снайперы стали бить по каскам, выбирая точку прицеливания пониже, на срезе брустверов: точно попадешь – пуля прошьет шею; возьмешь чуть выше – попадет в голову, а если винтовка «клюнет», пуля пробьет землю и врежется в грудь. Винтовочная пуля – мощная. Верхушку бруствера она прошьет и не завихрится. Не автомат стреляет…
Но как бы точно ни били снайперы, как бы ни заливались неслышимые в грохоте разрывов дежурные пулеметы, а, как потом выяснилось, большинство из них немцы разбили из орудий прямой наводки, – все-таки большая половина атакующего противника ворвалась в траншеи, добила немногих наблюдателей и захватила «языка». Бить по этим, ворвавшимся, снайперы поначалу не могли: над траншеями виднелись только каски, и какая из них своя, а какая чужая – разобрать было трудно.
Жилин все это время даже не оглядывался на остальных троих. Он знал Жалсанова, его каменный, жесткий в бою характер, его поразительное умение мгновенно увидеть то, чего еще никто не видит, и сразу принять единственно правильное решение. Недаром он был из рода воинов.
Да и сам Жалсанов совершенно не следил за Жилиным. Он только стрелял – не торопясь, размеренно, не взглядывая на своих товарищей. По звуку их выстрелов он понимал, что ребята ведут огонь спокойно, выцеливают старательно – они не частили, не затаивались. Все были заняты своим делом, увлеклись им и не думали ни о себе, ни о чем другом, кроме этого дела.
Вот почему никто так и не увидел, как капитан Кривоножко пробежал позади Жилина и Засядько, как остановился возле Жалсанова. Он сразу оценил действия снайперов, понял, какой урон они могут нанести, а присмотревшись, увидел этот урон и внутренне обмяк: все оказалось не так страшно, как там, в землянке батальонного штаба. Вспомнился Лысов, и Кривоножко отрывисто, по-командирски, спросил:
– Где Жилин?
Никто не удивился появлению замполита, никто даже не обернулся. Только Жалсанов небрежно махнул рукой в сторону, откуда вел огонь Жилин. Кривоножко понял это по-своему: Жилин убежал к штабу, к Лысову. Значит, и здесь все в порядке.
Капитан немного потоптался. Он осознал, что правому флангу батальона ничто не угрожает и лучше бы ему быть на НП, но сейчас же вспомнил, что теперь он такие вопросы решать не может. Он получил приказ и обязан его выполнить. В частности, подготовить контратакующие группы. Конечно, он сразу понял, что контратаковать силами крайней девятой роты стык седьмой и восьмой слишком неудобно. Людей придется вести поверху, на виду у противника, или, наоборот, обводить тылами… Но приказ есть приказ. И Кривоножко, уже не слишком торопясь, потрусил, сгибаясь, по еще мелкой траншее на правый фланг.
Кривоножко не видел, как из захваченной противником траншеи вывалились два немца и поволокли к своим траншеям «языка». «Язык» в бурой шинели, без каски хорошо просматривался меж зелеными шинелями фрицев. Виднелась даже белая точка кляпа во рту. Немцы связали ноги и руки «языка», и он беспомощно волочился по земле, вероятно, теряя сознание от боли.
Когда Жилин увидел эту троицу, он прежде всего понял именно эту боль «языка», представил, как ломят суставы, как обдираются руки о бурьяны, и отдал приказ:
– Засядько! «Языка» не трогай. Беру на себя.
Засядько с ужасом посмотрел на Жилина – он решил, что Костя расстреляет сейчас своего же брата красноармейца, с которым, может быть, коротали ночные часы, а то и ели из одного котелка и который попал вот в такую беду.
Самым страшным, пожалуй, было то, что Засядько понимал: противник не должен иметь «языка». Ни при каких обстоятельствах! Потому что «язык» может рассказать все, что он знает об их обороне, и тогда туго придется всем, а значит, и Засядько. И все-таки он, убивающий сейчас фрицев, с ужасом ждал, когда Жилин расстреляет этого бедолагу – ведь другого выхода Засядько не видел.
Его видел Жилин. Он выцеливал так долго и так тщательно, что Засядько перестал ужасаться. Фрицы проползли уже метров тридцать, когда Жилин выстрелил первый раз. Ближний к нему немец поерзал правой ногой и вывернулся на бок. Второй, тот, что был за пленным, видно, покричал ему, потом толкнул, и убитый немец вяло отвалился на сторону. Живой подхватил пленного поудобней, для чего ему пришлось несколько приподняться над землей, и тут его свалил Жилин.
Костя с облегчением вздохнул, мельком посмотрел на Засядько, ужас в глазах которого сменился восхищением, и буркнул:
– Ну ползи же, дура старая!
Засядько теперь понял все: Жилин не торопился с выстрелами, ждал, пока немцы подтянут пленного к старой бомбовой воронке, в которой можно будет скрыться. Стрелял он первым ближнего потому, что дальний немец после смерти напарника обязательно приподнимется и, значит, у лежащего пленного окажется больше шансов не попасть под жилинскую пулю. «Дура старая» – тоже сказано неслучайно: днем в траншеях норовили оставлять пожилых бойцов. Считалось, что они бдительней, их не так тянет в сон.
Все это Засядько оценил, и его добрые темно-карие глаза повлажнели. Он перевел дыхание и опять стал выцеливать противника. Лицо его сразу стало жестким и колючим, как полминуты назад у Жилина.
Глава пятая
До наблюдательного пункта капитан Лысов добрался благополучно. Раза два его обдавало глиняной крошкой и прахом от ближних разрывов, но не сильно и не страшно. Только на НП он обнаружил молчаливого пожилого писаря, но не обратил на него особого внимания – бросился к стереотрубе. И уж только убедившись, что противник, как ему и докладывал стоящий рядом начальник связи, явно создал огневой мешок вокруг стыка, а по фронту ведет отвлекающий огонь, окончательно освободился от предчувствия общей для всего участка беды. Теперь все, что происходило, стало его личной бедой и заботой. И думать он стал соответственно.
– Автомат лишний есть?
Лишнего автомата, конечно, не было, и адъютант старший молча передал капитану свой – незаконно списанный когда-то, нигде не числящийся и потому ставший как бы личной собственностью начальника штаба.
Обстановка прояснялась. Противник, видимо, проводил разведку боем. Если бы он собрался в настоящее наступление, так артподготовку вел бы на полную мощность, а не скупился бы, не маневрировал бы стволами. Тоже, видать, на лимите сидят, экономят выстрелы. Выходит, все замыкается на ротном участке.
«Ну что ж… это полегче, – подумал Лысов, но, взглянув на часы – прошло минуты четыре-пять, – спохватился. – Всем легче, а мне – труднее. На меня наваливаются. Значит, все от одного меня и зависит».
И хотя еще в те секунды, когда он просил автомат, он уже принял решение пробираться на свой НП – ведь вон связисты восстановили же связь, значит, пробиться можно, – только теперь Лысов осознал обстановку, прочувствовав ее, понял, чем он рискует, и выругался про себя: «Чертов Жилин! Иди под огонь без прикрытия. Ранят – и вытащить некому».
– Старший лейтенант. Дайте связиста, пойдем на НП.
Как раз в это время позвонили с НП.
– Товарищ капитан! – почему-то весело, возбужденно кричал командир взвода связи молоденький младший лейтенант, и Лысов, узнав его по голосу, про себя решил, что командир взвода связи действовал в данном случае правильно – НП сейчас главное звено, и именно там находится начальник связи.
– Товарищ капитан! Фрицы атакуют.
– Много? – спокойно спросил Лысов – ведь он ждал этой атаки.
– Много, товарищ капитан! Человек сто!
– Держитесь там. Сейчас подойду!
Он бросился к дверям, и адъютант старший глазами приказал писарю сопровождать капитана: последнего, дежурного, связиста он отпустить не мог.
Глава четвертая
Жалсанов как стоял, боком привалившись к стенке котлована, так и остался стоять. Только выложил винтовку между темными ломтями осенней глины. Колпаков и Малков молча встали по обе стороны и тоже выложили винтовки. Жилин с Засядько пробежали метров сто и юркнули в кустарник – когда-то они отрывали там парные окопы-«кувшинчики».
Они едва успели устроиться в тесных окопчиках, как начался минометный налет. До кустарника мины не долетали. Вся оборона батальона была как на ладони, и Жилин гораздо раньше Лысова определил и направление удара противника, и его замысел.
«Конечно, – думал он, – фрицу тоже требуется узнать, чего мы стоим на сегодняшний день и почему так активно примолкли. Ничего… рога мы ему сейчас собьем».
Сюда, ко второй линии обороны, осколки не долетали, но дым от разрывов доплывал – горьковато-пряный, возбуждающий.
Жилин видел, как мелькали каски наших солдат, как юлили по бурому бурьяну связисты, сращивая обрывы, и находил, что все идет правильно и опасаться нечего. Но тут вспомнился Лысов, и Костя на секунду заколебался. Комбату, ясно, потребуется пробраться на НП, а он, его связной, здесь. Непорядок.
«А-а… – мысленно махнул он рукой. – Не маленький, проберется. Людей много, возьмет на прикрытие».
И все-таки успокоения не пришло. Бой, он и есть бой, и комбату, конечно, было бы надежней с Костей – и привычка, и есть с кем перекинуться парой слов, и даже на ком сорвать злость. Но главным все-таки было не это. Костя привык к комбату и, может быть, по-своему любил. И беспокоился он о нем в те минуты не потому, что не сможет прикрыть его, спасти, а потому, что как нелюбящая, но преданная жена вечно беспокоится о своем баламуте-муже, отце ее детей, так и он боялся, как бы Лысов не натворил что-нибудь. «Не дело», как сказал бы Малков. Косте казалось, что он умел удерживать Лысова от ненужных, на его, конечно, взгляд, порывов, а иногда, наоборот, подталкивать, когда комбат колебался. А тут Лысов окажется один, без присмотра…
Была минута, когда Костя мог бы бросить снайперов и побежать к комбату, хотя был твердо убежден, что здесь, на этом месте, в этой неожиданной засаде, он нужней. Но сердце иногда бывает сильней разума.
Огонь минометов и артиллерии усилился, распространился почти на весь фронт батальона, а с первых траншей нашей обороны переместился и в глубину – немцы били по штабу батальона и ходам сообщения.
И тут началась атака.
Противник выскакивал резво, стремительно – застоявшиеся, хорошо тренированные солдаты словно распластывались над землей, как летающие лыжники после взлета с трамплина. На секунды они скапливались у проходов в проволочных заграждениях, а потом бежали опять вперед. Целиться в таких, прорвавшихся за проволоку, было нелегко, и Жилин стрелял по тем, кто еще только выпрыгивал на бруствер своей, только что такой надежной, траншеи.
Первый же фриц мгновение покачался в неестественной позе – задрав вверх руку с автоматом, выставив вперед колено – и завалился назад.
Жилин, как всегда, стрелял трассирующими. Он указал и цель и показал, как нужно бить. И снайперы заработали. А Жилин в это время стремительно сменил обойму – выбросил трассирующие и загнал обычные.
Теперь целеуказание ни к чему. Противник – на ладони. Бей – не хочу.
И они били. Конечно, многие из фрицев успевали оттолкнуться от брустверов траншей и устремлялась вперед, но многие, очень многие опрокидывались навзничь, оставались лежать на брустверах.
В грохоте минных и снарядных разрывов винтовочные выстрелы, конечно, потонули, трасс не было, и поэтому убийственно точный, на выбор, снайперский огонь подавляюще подействовал на тех, кто еще не успел выпрыгнуть. Там, в траншеях противника, заметались офицеры и унтера, выталкивая замешкавшихся солдат, и снайперы стали бить по каскам, выбирая точку прицеливания пониже, на срезе брустверов: точно попадешь – пуля прошьет шею; возьмешь чуть выше – попадет в голову, а если винтовка «клюнет», пуля пробьет землю и врежется в грудь. Винтовочная пуля – мощная. Верхушку бруствера она прошьет и не завихрится. Не автомат стреляет…
Но как бы точно ни били снайперы, как бы ни заливались неслышимые в грохоте разрывов дежурные пулеметы, а, как потом выяснилось, большинство из них немцы разбили из орудий прямой наводки, – все-таки большая половина атакующего противника ворвалась в траншеи, добила немногих наблюдателей и захватила «языка». Бить по этим, ворвавшимся, снайперы поначалу не могли: над траншеями виднелись только каски, и какая из них своя, а какая чужая – разобрать было трудно.
Жилин все это время даже не оглядывался на остальных троих. Он знал Жалсанова, его каменный, жесткий в бою характер, его поразительное умение мгновенно увидеть то, чего еще никто не видит, и сразу принять единственно правильное решение. Недаром он был из рода воинов.
Да и сам Жалсанов совершенно не следил за Жилиным. Он только стрелял – не торопясь, размеренно, не взглядывая на своих товарищей. По звуку их выстрелов он понимал, что ребята ведут огонь спокойно, выцеливают старательно – они не частили, не затаивались. Все были заняты своим делом, увлеклись им и не думали ни о себе, ни о чем другом, кроме этого дела.
Вот почему никто так и не увидел, как капитан Кривоножко пробежал позади Жилина и Засядько, как остановился возле Жалсанова. Он сразу оценил действия снайперов, понял, какой урон они могут нанести, а присмотревшись, увидел этот урон и внутренне обмяк: все оказалось не так страшно, как там, в землянке батальонного штаба. Вспомнился Лысов, и Кривоножко отрывисто, по-командирски, спросил:
– Где Жилин?
Никто не удивился появлению замполита, никто даже не обернулся. Только Жалсанов небрежно махнул рукой в сторону, откуда вел огонь Жилин. Кривоножко понял это по-своему: Жилин убежал к штабу, к Лысову. Значит, и здесь все в порядке.
Капитан немного потоптался. Он осознал, что правому флангу батальона ничто не угрожает и лучше бы ему быть на НП, но сейчас же вспомнил, что теперь он такие вопросы решать не может. Он получил приказ и обязан его выполнить. В частности, подготовить контратакующие группы. Конечно, он сразу понял, что контратаковать силами крайней девятой роты стык седьмой и восьмой слишком неудобно. Людей придется вести поверху, на виду у противника, или, наоборот, обводить тылами… Но приказ есть приказ. И Кривоножко, уже не слишком торопясь, потрусил, сгибаясь, по еще мелкой траншее на правый фланг.
Кривоножко не видел, как из захваченной противником траншеи вывалились два немца и поволокли к своим траншеям «языка». «Язык» в бурой шинели, без каски хорошо просматривался меж зелеными шинелями фрицев. Виднелась даже белая точка кляпа во рту. Немцы связали ноги и руки «языка», и он беспомощно волочился по земле, вероятно, теряя сознание от боли.
Когда Жилин увидел эту троицу, он прежде всего понял именно эту боль «языка», представил, как ломят суставы, как обдираются руки о бурьяны, и отдал приказ:
– Засядько! «Языка» не трогай. Беру на себя.
Засядько с ужасом посмотрел на Жилина – он решил, что Костя расстреляет сейчас своего же брата красноармейца, с которым, может быть, коротали ночные часы, а то и ели из одного котелка и который попал вот в такую беду.
Самым страшным, пожалуй, было то, что Засядько понимал: противник не должен иметь «языка». Ни при каких обстоятельствах! Потому что «язык» может рассказать все, что он знает об их обороне, и тогда туго придется всем, а значит, и Засядько. И все-таки он, убивающий сейчас фрицев, с ужасом ждал, когда Жилин расстреляет этого бедолагу – ведь другого выхода Засядько не видел.
Его видел Жилин. Он выцеливал так долго и так тщательно, что Засядько перестал ужасаться. Фрицы проползли уже метров тридцать, когда Жилин выстрелил первый раз. Ближний к нему немец поерзал правой ногой и вывернулся на бок. Второй, тот, что был за пленным, видно, покричал ему, потом толкнул, и убитый немец вяло отвалился на сторону. Живой подхватил пленного поудобней, для чего ему пришлось несколько приподняться над землей, и тут его свалил Жилин.
Костя с облегчением вздохнул, мельком посмотрел на Засядько, ужас в глазах которого сменился восхищением, и буркнул:
– Ну ползи же, дура старая!
Засядько теперь понял все: Жилин не торопился с выстрелами, ждал, пока немцы подтянут пленного к старой бомбовой воронке, в которой можно будет скрыться. Стрелял он первым ближнего потому, что дальний немец после смерти напарника обязательно приподнимется и, значит, у лежащего пленного окажется больше шансов не попасть под жилинскую пулю. «Дура старая» – тоже сказано неслучайно: днем в траншеях норовили оставлять пожилых бойцов. Считалось, что они бдительней, их не так тянет в сон.
Все это Засядько оценил, и его добрые темно-карие глаза повлажнели. Он перевел дыхание и опять стал выцеливать противника. Лицо его сразу стало жестким и колючим, как полминуты назад у Жилина.
Глава пятая
До наблюдательного пункта капитан Лысов добрался благополучно. Раза два его обдавало глиняной крошкой и прахом от ближних разрывов, но не сильно и не страшно. Только на НП он обнаружил молчаливого пожилого писаря, но не обратил на него особого внимания – бросился к стереотрубе. И уж только убедившись, что противник, как ему и докладывал стоящий рядом начальник связи, явно создал огневой мешок вокруг стыка, а по фронту ведет отвлекающий огонь, окончательно освободился от предчувствия общей для всего участка беды. Теперь все, что происходило, стало его личной бедой и заботой. И думать он стал соответственно.