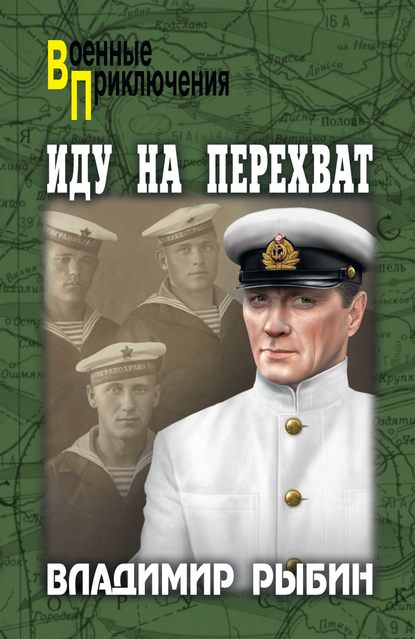По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иду на перехват
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Где мы?
– Да в Килии ж, – весело говорит молодайка.
Старшина сладко чмокает, нехотя отрывается от кринки.
– Мы через город не поедем, – говорит он. – Топайте пешком, моряки, прямо по этой улице.
Протасов будит Суржикова, и они вдвоем идут по окаменевшей от жары тропе вдоль домов, спрятанных в садах. С каждым кварталом дома все смелее выглядывают из-за зелени ветвей и наконец, ближе к центру города, выставляются к самому тротуару дремотно обвисшими занавесками окон.
В просветах улиц виден Дунай. Он лежит вдали темной полосой, и светлые блики скользят по его поверхности. На другой стороне реки, за леском, виднеются дома, и высокая колокольня Килии-Веке, той заречной Старой Килии, поблескивает двумя острыми шпилями.
Протасов немало наслышан о судьбе этих двух городов, разгороженных Дунаем. Говорят, что впервые люди поселились здесь двадцать три века назад. Будто еще Александр Македонский построил тут храм Ахилла, возле которого и возникло поселение Ахиллия – Акилия – Килия. Будто было это место стратегическим пунктом Древней Руси на Дунае, и киевские князья останавливались тут с дружинами на пути в Византию. Правда, все это больше относилось к той, задунайской, Килии. Но и левобережная немолода, упоминалась в списке «всем градам русским, дальним и ближним», составленном еще в XIV веке.
Город живет бессонной и беспокойной жизнью. На улицах не по времени людно. Кто-то куда-то спешит, ходят патрули попарно – один военный, один гражданский с винтовкой.
Гремя и пыля, как боевые колесницы, проносятся подводы. Мальчишки топчутся возле угла кирпичного дома, развороченного бомбой, с удивлением разглядывают в пролом железную кровать с никелированными шарами, домашний коврик на стене.
Неровным строем шагает взвод пестро одетых гражданских, и какая-то бабуся ехидно отзывается из-за калитки:
– Истребители пошли. – Увидев рядом военных моряков, охотно поясняет: – Истребительный батальон собирают. Из наших-то мужиков…
– Не волнуйся, бабуся, в обиду не дадим, – говорит Протасов, решив, что ему, как военному, положено внушать населению уверенность.
– Да уж как же, видела я сегодня ваше войско. Чуть что не бегом уходили. Всю ночь гремели под окнами.
– Это, бабушка, маневр, стратегия такая, – говорит мичман, думая, однако, совсем о другом, что, видно, не везде крепка граница, если полк, стоявший в Килии, действительно переброшен на другой участок. Еще он думает о том, что на всей западной границе нет такого естественного рубежа, как Дунай, и, стало быть, главная война, по-видимому, не здесь. От этих мыслей ему становится грустно. Он, как и многие в эти первые дни, еще уверен, что война долго не продлится, и оставаться в стороне от главных дел ему не хочется. Но тут же приходит утешающая мысль: если для врагов Дунай не главное направление, то нужно здесь воевать так, чтобы им на других направлениях стало тошно.
Капитан-лейтенант Седельцев, осунувшийся после двух бессонных ночей, встречает Протасова невесело.
– Где катер? Почему погубили людей? – кричит он. – За это судить полагается!
У Протасова холодеет лицо. Он чувствует, что вот сейчас, сию минуту может не выдержать, стыдно упасть на земляной пол.
– Разрешите выйти? – хрипло говорит он. И, не дожидаясь разрешения, идет к двери.
Суржиков сидит на крыльце, покуривает, подставив лицо солнцу. Протасов тяжело опускается рядом, откидывается к стене.
– Что с вами?
– Ничего. Дай курнуть.
Когда отступает от глаз темная тяжесть и остается только медленно затухающий звон, Протасов встает, устало отряхивает китель.
– Посиди тут, – говорит он. – Если меня хватятся, скажи – сейчас буду. Я прогуляюсь чуток, курева куплю на рынке.
– Какой теперь рынок?
– Все равно. Надо пройтись.
Еще издали он видит – рынок есть. Человек пятьдесят толкутся у лотков, что-то покупают, что-то продают. Протасов медленно идет к этой толпе, понемногу успокаиваясь, удивляясь неизменности человеческих привычек. И вдруг замечает в небе звено самолетов, идущих к Килии с севера. Судя по курсу, самолеты должны были пройти стороной. Но они разворачиваются и летят прямо на центр города. Где-то в улицах за домами сдвоенным эхом стучат винтовочные выстрелы.
– Расходитесь!
Протасов бежит к первой подводе, вскакивает в мягкую солому и, полуобернувшись, взмахивает рукой, чтобы показать людям самолеты. И замирает на миг, поймав глазами выпуклую старую надпись над тяжелой дверью соседнего магазина: «Керосин». «Вдруг сюда бомба!» – с испугом думает он. И кричит совсем неистово, срываясь на фальцет:
– Разбегайтесь! Во-оздух!
Но происходит непонятное: люди не бегут врассыпную, а любопытной толпой подаются к телеге.
– Чего вин гуторить?
– Бомбить будут!
Передние догадываются, бегут в соседние дворы, лезут под телеги. Паника катится по толпе, как волна. Толпа тает, рассыпается по площади. Но тут из-за крыш обрушивается рев самолета, и сразу же – раскатистый треск бомбы. Сбитая на землю лошадь сухо бьет копытом по передку телеги. Протасов видит, как падает старик, резко, словно его ударили под коленки. Молодая крестьянка застывает в недоумении от неожиданной и непонятной боли. Маленькая девочка в цветастом сарафанчике вдруг распластывается на камнях. И кто-то кричит, кричит на одной высокой, отчаянной ноте. И сыплются с лотков вишни, застывают на истоптанной земле, словно капли крови.
Второй взрыв сбрасывает его с телеги. Он больно падает боком на колесо, тут же вскакивает, бросается к девочке, лежащей на камнях. Не понимая случившегося, девочка болезненно улыбается. Из ее широко распахнутых, испуганных глаз часто-часто выкатываются слезинки, смешиваются с кровью на подбородке и падают на серый от пыли китель мичмана.
– До-оча!
К нему подбегает женщина, грубо вырывает девочку, и, припадая от тяжести, быстро идет, почти бежит по улице, и все говорит, говорит что-то, вскрикивая и всхлипывая.
Через полчаса санитары увозят раненых и убитых, и Протасов с удивлением замечает, что базар все тот же. Кто-то снова торгует вишней с воза, на деревянных лотках лежит пирамида абрикосов, женщины, как и полчаса назад, трясут на толкучке своим немудреным барахлишком.
Протасов покупает мешочек своего любимого, мелко нарезанного, крепкого, как спирт, местного табака, стараясь унять дрожь в руках, набивает трубку, затягивается и закрывает глаза.
«Черт с ним, – думает он о Седельцеве, – пусть судит. И в штрафбате можно воевать…»
Но капитан-лейтенант Седельцев встречает Протасова неожиданно ласково.
– Как вы себя чувствуете? – спрашивает он, улыбаясь. И обиженно складывает губы. – Что же вы меня подводите, товарищ мичман? Почему сразу не рассказали, что героической схваткой с вражеским монитором сорвали высадку десанта?
– Я докладывал.
– Что вы докладывали? Что пошли в открытую против монитора? Что погубили катер и людей? Как прикажете реагировать на такой доклад? А ваш подчиненный, матрос Суржиков, рассказывает, что был героический бой, были и мужество, и самопожертвование. Я звонил на заставу – все подтверждается. О героизме надо в трубы трубить, а не докладывать.
– Ну, трубить нам еще рано. Сначала надо фашистов отбить.
– Нет, не рано. Примеры героизма нам сейчас вот так нужны!
Седельцев, словно обидевшись, отворачивается и долго смотрит в окно.
– Как вы себя чувствуете? – опять спрашивает он.
– Как можно себя чувствовать? На базаре баб да детей бомбят. Фашистам глотки рвать надо, а мы тут рассусоливаем!
– Товарищ мичман!
– Мы по вооруженным нарушителям не стреляли, а они по безоружным… – Снова почувствовав тяжелую боль в голове, он судорожно сглатывает воздух и добавляет терпеливо: – Товарищ капитан-лейтенант. Отправьте меня на катер. Кем угодно, лишь бы к пулемету.