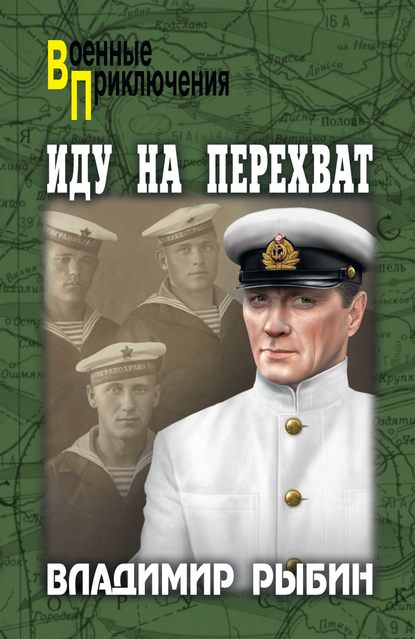По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иду на перехват
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Всегда так стреляли.
– Всегда была одна обстановка, а теперь другая.
Грач отмахивается – другого стрельбища все равно нет. Он любуется Говорухиным – долговязым, но удивительно собранным для своей комплекции. У него не болтаются руки, как это часто бывает у худощавых и длинноруких, каждый его жест – сама четкость.
Проверяющий поворачивается к начальнику заставы и кричит, обмакивая потный лоб белым казенным носовым платком:
– Сколько у вас мишеней?
– Четыре ростовых, три грудных и пулемет.
– Хорошо, – говорит майор и подзывает начальника заставы. – Обстановка следующая: наряд – два человека – остановил группу бандитов – четыре ростовых, три грудных и пулемет. Бой быстротечный. В наряд пойдут Говорухин и… вы, – майор, обведя глазами строй, показывает на пограничника Горохова.
Грач огорченно кусает губы. За Говорухина он не беспокоится. Но Горохов…
– Показа-ать! – кричит майор, растягивая «а», словно при строевой команде.
Потом все гурьбой идут к мишеням. И пограничники тоже идут, и никто их не останавливает.
– Такая стрельба! – морщится Ищенко.
– Какая?
– Граница же рядом. Что на той стороне подумают?
Грач глядит на политрука недоуменно, но тут же забывает о нем, потому что видит над бруствером сияющую физиономию сержанта Голубева, старшего в блиндаже, и догадывается: результат неплохой.
– Поздравляю, – говорит майор. – Поразили-таки пулемет. Делайте разбор, лейтенант.
Строй стоит бравый, улыбчивый, покачивает длинными штыками. Начальник заставы, как обычно, рассказывает о результатах стрельб, об успехах и ошибках. Упоминает о пулемете, который Говорухин догадался срезать, благодарит всех за отличную стрельбу. А потом командует Говорухину два шага вперед и от лица службы объявляет ему персональную благодарность. Но вместо четкого «Служу Советскому Союзу» слышит в ответ что-то невнятное.
– В чем дело? – удивляется Грач.
– Так ведь я, товарищ лейтенант, по пулемету-то не стрелял.
Грач оглядывает строй, находит глазами пограничника Горохова.
– Это вы?
– Не знаю, товарищ лейтенант.
– С перепугу, – говорит кто-то в строю.
– Отставить разговоры! Вы стреляли по пулемету?
– Так точно! Но я не знаю, попал ли…
«Хорошо это или плохо? – размышляет Грач, шагая впереди строя по твердой, как камень, пересохшей дороге. – Ведь есть же стрелки получше Горохова». Решает, что все же хорошо, ибо отличился именно он. Грач считал правильным отмечать благодарностями не вообще службу, а конкретные, видные всем успехи. Благодарности по случаю праздников и юбилеев, ему казалось, не могут ни воодушевить поощренного, ни явиться примером. Такие «юбилейные поощрения» нередко вызывают у других нездоровую зависть, чувство, какое возникает у людей, несправедливо обойденных. Ведь каждый человек в душе своей считает себя достойным. И самому внимательному командиру невозможно оценить все внутренние усилия подчиненного. Ибо иногда самая маленькая, незаметная для других победа над собой дается человеку труднее, чем видимый успех отличника, привыкшего срывать высшие оценки с такой же легкостью, как яблоки в перестоявшем саду.
Строй входит в тень редкого леска, где и земля помягче, и воздух гуще.
– Песню!
Летит песня над тополями и вербами, над близкими камышами, темнеющими в просветах леса.
По долинам и по-о взго-орьям
Шла дивизия впе-еред!..
Сразу становится покойно на душе. И текут мысли самые что ни на есть мирные. О былом, о Марии, так внезапно сломавшей привычный распорядок его жизни.
Размышлять в строю Грач привык в училище. Это пришло, как самозащита от утомительного однообразия длинных маршей, когда горели пятки, расплющенные тяжестью пулеметной станины, и пот заливал глаза. Тогда он мысленно начинал перелистывать страницы прожитого: влажные апрельские прогалины возле дома, бабушек на завалинке, авиамодельный кружок в Доме пионеров, и сверкающее половодье за городской дамбой, и ночной хохот козодоя над костром, и «гадких» соседских девчонок, в какой-то срок превращавшихся в сказочных лебедиц.
К девушкам у него было отношение особое. Он боготворил их, подражая героям старых книг. Тургеневская Ася была для него образцом женской нежности. Ее портрет он срисовал из книжки по клеточкам и повесил дома над кроватью. Это вызывало насмешки друзей. Он терпел и молчал, замыкаясь.
А однажды он вступился за женщину. Услышав что-то грубое, оскорбительное, сказанное вслед молодой, любившей погулять соседке, Грач возмутился так неистово, что парни опешили.
– Как можно о женщине?! – кричал он, и губы его тряслись. – Да кто бы она ни была! Надо видеть в человеке хорошее!
Парни хохотали. А Сашка, тот самый, что умел делать для малышей лодочки из сосновой коры, подошел тогда, похлопал по плечу и сказал:
– Могу спорить, у тебя нет девчонки.
– Есть, – соврал Грач. В шестнадцать лет он еще не умел признаваться, что у него чего-то нет. Уж такой это возраст.
Но Сашка был старше и понимал больше.
– Пошли в парк, познакомлю, – сказал он.
И Грач пошел, замирая сердцем в ожидании чего-то особенного, более интересного, чем даже рыбалка или показывание картинок через эпидиаскоп.
Тот вечер был теплым и тихим. По темным аллеям парка шеренгами ходили парни, шеренгами ходили девчонки, перекрикивались на расстоянии, будто переругивались делано-равнодушно, как соседки, уставшие от свар.
Прошли один круг, прошли другой. На третьем Сашка подтолкнул Грача к какой-то толстушке. Она оглядела его надменно, повернулась и пошла одна.
– Все в порядке, – сказал Сашка. – Давай причаливай.
И Грач пошел за ней следом, не зная, что делать. Девушка посмотрела на него через плечо, усмехнулась и пошла дальше. А Грачу вдруг стало стыдно. Он нырнул в кусты, исцарапавшись, продрался на другую аллею и, ни на кого не глядя, побежал домой. Звезды порхали, как мотыльки. Издалека плыла музыка, которой он не знал, но от которой хотелось плакать. В те минуты Грач казался себе героем, сохранившим верность своей томной Асе.
Но упрек Сашки не прошел бесследно. На больших переменах в школе Грач стал ходить по коридорам, присматриваясь, в кого бы можно влюбиться.
И нашел ее.
Потом Грач пытался представить себе эту девушку и не мог. Губы как губы, нос как нос. Вот разве коса – большая, пепельно-русая, с бантом на конце. И еще что-то, чему не было названия. Но это «что-то» было главным, вызывало приятную слабость и непривычную растерянность каждый раз, когда он видел ее стоявшей одиноко у окна в школьном коридоре.
Девушку звали Тоня. Это он узнал позже от Гали из того же класса, с которой познакомился в целях конспирации. На больших переменах он бегал на другой этаж, будто бы поболтать с Галей, а на самом деле для того, чтобы хоть краешком глаза увидеть Тоню. Ее случайный взгляд лишал его дара речи. А когда она ему улыбнулась однажды, он сбежал с уроков, и ушел за город, и ходил один по сырому от схлынувшего половодья лугу, и пел откуда-то запомнившееся:
Эх, гитара, звени потихонечку —
Я люблю одну славную Тонечку…
– Всегда была одна обстановка, а теперь другая.
Грач отмахивается – другого стрельбища все равно нет. Он любуется Говорухиным – долговязым, но удивительно собранным для своей комплекции. У него не болтаются руки, как это часто бывает у худощавых и длинноруких, каждый его жест – сама четкость.
Проверяющий поворачивается к начальнику заставы и кричит, обмакивая потный лоб белым казенным носовым платком:
– Сколько у вас мишеней?
– Четыре ростовых, три грудных и пулемет.
– Хорошо, – говорит майор и подзывает начальника заставы. – Обстановка следующая: наряд – два человека – остановил группу бандитов – четыре ростовых, три грудных и пулемет. Бой быстротечный. В наряд пойдут Говорухин и… вы, – майор, обведя глазами строй, показывает на пограничника Горохова.
Грач огорченно кусает губы. За Говорухина он не беспокоится. Но Горохов…
– Показа-ать! – кричит майор, растягивая «а», словно при строевой команде.
Потом все гурьбой идут к мишеням. И пограничники тоже идут, и никто их не останавливает.
– Такая стрельба! – морщится Ищенко.
– Какая?
– Граница же рядом. Что на той стороне подумают?
Грач глядит на политрука недоуменно, но тут же забывает о нем, потому что видит над бруствером сияющую физиономию сержанта Голубева, старшего в блиндаже, и догадывается: результат неплохой.
– Поздравляю, – говорит майор. – Поразили-таки пулемет. Делайте разбор, лейтенант.
Строй стоит бравый, улыбчивый, покачивает длинными штыками. Начальник заставы, как обычно, рассказывает о результатах стрельб, об успехах и ошибках. Упоминает о пулемете, который Говорухин догадался срезать, благодарит всех за отличную стрельбу. А потом командует Говорухину два шага вперед и от лица службы объявляет ему персональную благодарность. Но вместо четкого «Служу Советскому Союзу» слышит в ответ что-то невнятное.
– В чем дело? – удивляется Грач.
– Так ведь я, товарищ лейтенант, по пулемету-то не стрелял.
Грач оглядывает строй, находит глазами пограничника Горохова.
– Это вы?
– Не знаю, товарищ лейтенант.
– С перепугу, – говорит кто-то в строю.
– Отставить разговоры! Вы стреляли по пулемету?
– Так точно! Но я не знаю, попал ли…
«Хорошо это или плохо? – размышляет Грач, шагая впереди строя по твердой, как камень, пересохшей дороге. – Ведь есть же стрелки получше Горохова». Решает, что все же хорошо, ибо отличился именно он. Грач считал правильным отмечать благодарностями не вообще службу, а конкретные, видные всем успехи. Благодарности по случаю праздников и юбилеев, ему казалось, не могут ни воодушевить поощренного, ни явиться примером. Такие «юбилейные поощрения» нередко вызывают у других нездоровую зависть, чувство, какое возникает у людей, несправедливо обойденных. Ведь каждый человек в душе своей считает себя достойным. И самому внимательному командиру невозможно оценить все внутренние усилия подчиненного. Ибо иногда самая маленькая, незаметная для других победа над собой дается человеку труднее, чем видимый успех отличника, привыкшего срывать высшие оценки с такой же легкостью, как яблоки в перестоявшем саду.
Строй входит в тень редкого леска, где и земля помягче, и воздух гуще.
– Песню!
Летит песня над тополями и вербами, над близкими камышами, темнеющими в просветах леса.
По долинам и по-о взго-орьям
Шла дивизия впе-еред!..
Сразу становится покойно на душе. И текут мысли самые что ни на есть мирные. О былом, о Марии, так внезапно сломавшей привычный распорядок его жизни.
Размышлять в строю Грач привык в училище. Это пришло, как самозащита от утомительного однообразия длинных маршей, когда горели пятки, расплющенные тяжестью пулеметной станины, и пот заливал глаза. Тогда он мысленно начинал перелистывать страницы прожитого: влажные апрельские прогалины возле дома, бабушек на завалинке, авиамодельный кружок в Доме пионеров, и сверкающее половодье за городской дамбой, и ночной хохот козодоя над костром, и «гадких» соседских девчонок, в какой-то срок превращавшихся в сказочных лебедиц.
К девушкам у него было отношение особое. Он боготворил их, подражая героям старых книг. Тургеневская Ася была для него образцом женской нежности. Ее портрет он срисовал из книжки по клеточкам и повесил дома над кроватью. Это вызывало насмешки друзей. Он терпел и молчал, замыкаясь.
А однажды он вступился за женщину. Услышав что-то грубое, оскорбительное, сказанное вслед молодой, любившей погулять соседке, Грач возмутился так неистово, что парни опешили.
– Как можно о женщине?! – кричал он, и губы его тряслись. – Да кто бы она ни была! Надо видеть в человеке хорошее!
Парни хохотали. А Сашка, тот самый, что умел делать для малышей лодочки из сосновой коры, подошел тогда, похлопал по плечу и сказал:
– Могу спорить, у тебя нет девчонки.
– Есть, – соврал Грач. В шестнадцать лет он еще не умел признаваться, что у него чего-то нет. Уж такой это возраст.
Но Сашка был старше и понимал больше.
– Пошли в парк, познакомлю, – сказал он.
И Грач пошел, замирая сердцем в ожидании чего-то особенного, более интересного, чем даже рыбалка или показывание картинок через эпидиаскоп.
Тот вечер был теплым и тихим. По темным аллеям парка шеренгами ходили парни, шеренгами ходили девчонки, перекрикивались на расстоянии, будто переругивались делано-равнодушно, как соседки, уставшие от свар.
Прошли один круг, прошли другой. На третьем Сашка подтолкнул Грача к какой-то толстушке. Она оглядела его надменно, повернулась и пошла одна.
– Все в порядке, – сказал Сашка. – Давай причаливай.
И Грач пошел за ней следом, не зная, что делать. Девушка посмотрела на него через плечо, усмехнулась и пошла дальше. А Грачу вдруг стало стыдно. Он нырнул в кусты, исцарапавшись, продрался на другую аллею и, ни на кого не глядя, побежал домой. Звезды порхали, как мотыльки. Издалека плыла музыка, которой он не знал, но от которой хотелось плакать. В те минуты Грач казался себе героем, сохранившим верность своей томной Асе.
Но упрек Сашки не прошел бесследно. На больших переменах в школе Грач стал ходить по коридорам, присматриваясь, в кого бы можно влюбиться.
И нашел ее.
Потом Грач пытался представить себе эту девушку и не мог. Губы как губы, нос как нос. Вот разве коса – большая, пепельно-русая, с бантом на конце. И еще что-то, чему не было названия. Но это «что-то» было главным, вызывало приятную слабость и непривычную растерянность каждый раз, когда он видел ее стоявшей одиноко у окна в школьном коридоре.
Девушку звали Тоня. Это он узнал позже от Гали из того же класса, с которой познакомился в целях конспирации. На больших переменах он бегал на другой этаж, будто бы поболтать с Галей, а на самом деле для того, чтобы хоть краешком глаза увидеть Тоню. Ее случайный взгляд лишал его дара речи. А когда она ему улыбнулась однажды, он сбежал с уроков, и ушел за город, и ходил один по сырому от схлынувшего половодья лугу, и пел откуда-то запомнившееся:
Эх, гитара, звени потихонечку —
Я люблю одну славную Тонечку…