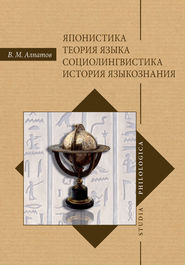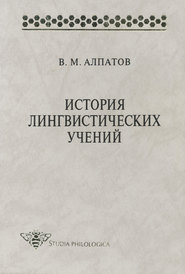По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Волошинов, Бахтин и лингвистика
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но и в работах круга Бахтина 20-х гг. и в более поздних сочинениях Бахтина чувствуется особое внимание к деятельности Виноградова, хотя чаще связанное с критическим к ней отношением. Бахтиноведы не раз отмечали, что этот ученый был оппонентом Бахтина и его круга на протяжении более чем четырех десятилетий: его критические оценки встречаются у Бахтина или Волошинова с 1924 по 1965 г..[94 - Махлин 2000: 592] Особенно подробно об этом особом отношении пишет Л. А. Гоготишвили в комментариях к лингвистическим работам Бахтина 50-х гг. Об этих комментариях я буду специально говорить в главе шестой, здесь лишь отмечу их «вино-градовский» аспект, в оценке которого (в отличие от ряда других аспектов) я с Л. А. Гоготишвили полностью согласен. Она указывает, что в текстах 50-х гг. Виноградов – главный оппонент даже там, где прямо не упоминается (а в наиболее законченных рукописях его имя ни разу не встречается). Л. А. Гоготишвили отмечает скрытые «антивиноградовские» мотивы в его неоконченных текстах и особенно в подготовительных материалах к ним,[95 - Гоготишвили 1996: 540] а в «Проблеме речевых жанров» видит «виноградовскую призму», сквозь которую рассматриваются враждебные автору концепции [Гоготишвили 1996: 538].
Конечно, это уже 50-е гг. В это время Бахтин в Саранске не мог не сравнивать свою судьбу с судьбой Виноградова: эти судьбы, сходные в 30-е гг., к 50-м гг. сильно разошлись. Но особое отношение к Виноградову чувствуется в 20-е гг. и в волошиновском цикле, и в «Проблемах творчества Достоевского». Как раз этот ученый, в те годы далеко не самый именитый в наших филологических кругах (хотя известный намного больше, чем весь круг Бахтина, и уже опубликовавший несколько книг), казался главным противником. В. В. Ко-лесов высказывает удивление и не находит «разумных обьяснений» в связи с тем, что «не входивший в круг записных формалистов» Виноградов постоянно критиковался Бахтиным (в число работ которого отнесен и волошиновский цикл).[96 - Колесов 2003: 368] Но, как справедливо отмечает Л. А. Гоготишвили, Виноградов, может быть, и не самый враждебный, но самый «затрагивающий» из оппонентов Михаила Михайловича; он постоянно оказывается близок по тематике и далек по теоретическим установкам.[97 - Гоготишвили 1996: 540]
Вернемся к отнесению Виноградова в МФЯ к последователям Женевской школы. Сейчас, когда можно рассмотреть весь творческий путь этого выдающегося русиста, неправомерность такой трактовки особенно очевидна. В историю отечественной науки Виноградов, как я уже писал,[98 - Алпатов 1998а] вошел прежде всего как хранитель традиций русской дореволюционной науки. К структурализму он в целом относился отрицательно, особенно в публикациях 50—60-х гг. Об этом свидетельствуют и воспоминания о Викторе Владимировиче, см..[99 - Макаев 1992]
Позволю к этому добавить и свои личные воспоминания. Я в 1963–1968 гг., то есть в последние годы жизни Виноградова, учился на отделении структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Тогда это был ведущий центр «новой» лингвистики, основанной на структурных методах (хотя на Западе эпоха структурализма как раз к этому времени завершилась). «Традиционная» наука о языке, господствовавшая на других отделениях факультета, там оценивалась крайне низко. И чуть ли не главным ее олицетворением казался академик Виноградов, заведовавший кафедрой русского языка на факультете (сказывались, конечно, и неприязненные личные отношения между ним и заведующим кафедрой структурной и прикладной лингвистики В. А. Звегинцевым). На нашей кафедре существовал некий «антикульт» личности Виноградова, как я сейчас понимаю, во многом несправедливый. Академик не оставался в долгу. Помню, как, представляя в апреле 1968 г. заместителю декана М. Н. Зозуле незнакомого молодого человека, он сказал: «Вот наш новый аспирант из Венгрии. К счастью, не по структурным методам». Вообще для последовательных советских структуралистов тех лет Виноградов был таким же главным противником, как для круга Бахтина, только их отношение к академику не выражалось в печати. Иными, однако, были и их позиции (очень последовательный «абст рактный объективизм»), и причины такого отношения (сказывалось высокое официальное положение Виноградова, как бы олицетворявшего «казенную науку»). В 80—90-е гг. некоторые из этих ученых стали относиться к уже покойному Виноградову намного лучше.
Конечно, в конце 20-х гг. это все еще было в будущем. Однако и в 20-е гг. публикации Виноградова вряд ли позволяли видеть в нем более строгого последователя Соссюра, чем, скажем, в Л. В. Щербе. Впрочем, у него и тогда, и даже позже было заметно некоторое влияние Женевской школы, особенно Шарля Балли. Например, его получившая значительное распространение в отечественной науке классификация фразеологизмов представляет собой пересадку на русскую почву соответствующих идей Балли, что показал И. Е. Аничков.[100 - Аничков 1997: 429—431] Как будет отмечено во второй главе, авторы МФЯ заинтересовались идеями Соссюра через знакомство с идеями его последователя Ш. Балли, а имя последнего, весьма вероятно, они узнали благодаря его упоминанию у Виноградова. Отсюда, видимо, и представление о Виноградове как последователе Женевской школы. Отмечается в волошиновском цикле («О границах поэтики и лингвистики») и влияние на Виноградова идей не очень популярного в нашей стране А. Сеше,[101 - Бахтин 2000: 489] книги которого переведены на русский язык лишь сейчас.[102 - Сеше 2003а, б]
Обвинения в соссюрианстве, впрочем, предьявлялись Виноградову и позже. В 1948–1949 гг. он был в числе ученых, подвергшихся травле со стороны представителей марристского лагеря. Один из последних, В. А. Аврорин (в целом – серьезный лингвист, видный исследователь тунгусо-маньчжурских языков и автор лучших в 60– 70-е гг. у нас работ по социолингвистике) назвал Виноградова «проповедником реакционных идей де Соссюра».[103 - ИЛЯ 1949, 1: 90] Для того времени это было еще менее оправдано, чем для конца 20-х гг.
Кстати, не было ли это выступление навеяно формулировкой МФЯ? В. А. Аврорин, в 1929 г. студент-лингвист ЛГУ, мог эту книгу помнить.
В МФЯ имя Виноградова, помимо упомянутого выше включения в число «абстрактных объективистов», встречается еще дважды (оба раза в третьей части). Эти упоминания связаны с частными проблемами и не содержат критики. В книге Виноградова об Ахматовой отмечены «интересные замечания о диалоге полулингвистического характера» (332). Виноградов упомянут и как один из исследователей проблемы роли рассказчика в художественной прозе (338); в одном ряду с ним, в числе других, стоит и Шарль Балли. Несомненно, Виноградов в МФЯ представлен как серьезный представитель «абстрактного объективизма», заслуживающий внимания в связи с частными вопросами, где у него могут быть «интересные замечания», но порочный по методу.
Но Виноградов в пределах волошиновского цикла упомянут не только в МФЯ. Именем Волошинова подписана рецензия на книгу Виноградова «О художественной прозе».[104 - Волошинов 1930а] В том же 1930 г. появилась и статья «О границах поэтики и лингвистики», в значительной степени посвященная критике концепции Виноградова, содержащейся в разных его публикациях. Об этих работах специ-ально будет говориться в пятой главе. Здесь отмечу лишь общее отношение к Виноградову. Точка зрения здесь та же, что в МФЯ, но оценки резче. В статье подход Виноградова назван «глубоко антиисторичным и антисоциологичным».[105 - Бахтин 2000: 498] Но этот порочный подход – не личное свойство автора, а «первородный грех» всей лингвистики.[106 - Бахтин 2000: 499] Сам же Виктор Владимирович назван «одним из наиболее тонких и осторожных аналитиков»,[107 - Бахтин 2000: 489] «талантливым лингвистом с большим научным кругозором, эстетическим вкусом».[108 - Бахтин 2000: 499] То есть опять-таки крупный представитель враждебного подхода. Те же оценки и в короткой (две страницы в журнале) отрицательной рецензии.
Неоднократно упомянут Виноградов и в «Проблемах творчества Достоевского». Здесь, безусловно, два автора соприкасались по тематике: Виноградов тоже писал о стиле и языке Достоевского. Оценки Виноградова в этой книге, изданной под именем Бахтина, те же, что в волошиновском цикле, хотя без резкости двух последних публикаций. Это, разумеется, не свидетельствует ни в пользу общего авторства, ни против него, но показывает общность оценок в круге Бахтина. Как и в МФЯ, интересными признаются некоторые частные наблюдения Виноградова, но общая оценка отрицательна: «Вообще оставаясь в пределах формально-лингвистической стилистики, к собственному художественному заданию стиля подойти нельзя. Ни одно формально-лингвистическое определение слова не покроет его художественных функций в произведении. Подлинные сти-леобразующие факторы остаются вне кругозора В. В. Виноградова».[109 - Бахтин 1929: 168] Отмечу, что в новом варианте книги о Достоевском, вышедшем в 1963 г., еще при жизни Виноградова, основные оценки сохраняются, но в добавлениях тон заметно смягчается.
Другая же сторона – В. В. Виноградов – о своих оппонентах отзывалась мало. Бахтина он упоминал лишь изредка, а имя Волошинова он, по данным досконально изучавшего этот вопрос Н. Л. Васильева, упомянул всего один раз, лишь попутно и в одном ряду с М. М. Бахтиным и П. Н. Медведевым.[110 - Виноградов 1963: 102] Тот же Н. Л. Васильев находит следы скрытой полемики с МФЯ в статье о стиле «Пиковой дамы» (над которой Виноградов работал в самый момент ареста в феврале 1934 г. и которую он заканчивал в ссылке[111 - Васильев 1998: 537; 2000а: 48]), однако прямо книга там не названа.
Хватает, конечно, устных рассказов, иногда попадающих в печать. Отметим упоминание Виноградова среди лиц, распространявших версию о Бахтине как единственном авторе волошиновского цикла.[112 - Бочаров 1993: 73; Иванов 1995: 134]
Но вот документ: изданная Н. А. Паньковым[113 - Паньков 1999: 68– 74] стенограмма заседания Высшей аттестационной комиссии (ВАК) от 21 мая 1949 г., где обсуждали диссертацию М. М. Бахтина о Рабле и где среди других выступал Виноградов. Это краткое выступление Виноградова уже служило предметом анализа [Васильев 2000б: 304–306].
Для обоих интересующих нас ученых май 1949 г. не был легким периодом. У Бахтина уже третий год тянулось отвлекавшее его от других занятий дело об утверждении в докторской степени, которая в итоге так и не была ему присуждена. На заседании обстановка для него не была благоприятна, хотя тогда еще не произошло окончательного отказа в присуждении степени доктора (в результате обсуждения работа была отдана автору на доработку). А для Виноградова, тогда уже академика, в разгаре была разгромная критика со стороны марристов. Как рассказывала мне в 1989 г. его вдова Надежда Матвеевна, тогда он всерьез боялся, что ему в третий раз принудительно придется покинуть Москву (этого не произошло, наоборот, через год по воле Сталина он стал во главе филологических наук СССР). Такая ситуация наложила отпечаток на поведение академика на заседании: даже из стенограммы видно, что он, с одной стороны, хочет помочь Бахтину, а с другой стороны, вынужден соблюдать ос-торожность. Среди выступавших более активно, чем Виноградов, защищал диссертанта лишь И. Э. Грабарь.
Речь Виноградова, несомненно, хорошо продумана. Заявляя в духе времени: «Неправильна мысль о влиянии Рабле на Гоголя. Эта мысль… получила хождение в буржуазном литературоведении», – он тут же смягчает оценку: эту мысль «Бахтин немножко… изменил, признав влияние народной литературы. Но это входит (в диссертацию. – В. А.) как побочный эпизод».[114 - Паньков 1999: 73—74] Диссертант охарактеризован как «человек очень большой культуры, очень больших знаний, ну, необыкновенно талантливый, но, как видите, очень больной»[115 - Паньков 1999: 73] (слова «как видите»—явный намек на отсутствие у Бахтина ноги). В речи особо отмечена положительная рецензия А. В. Луначарского на книгу Бахтина о Достоевском.
Одна формулировка речи загадочна: «Бахтин—почти мой товарищ по Ленинградскому университету».[116 - Паньков 1999: 73] На нее обращали внимание и публикатор, и комментатор выступления.[117 - Паньков 1999: 116; Васильев 2000б: 302—303] Однако ни тот ни другой не смогли обьяснить значение слов «почти товарищ». Я тоже не берусь это сделать. Версия о Виноградове как «товарище Бахтина по Петербургскому (!) университету» уже появляется в печати,[118 - Колесов 2003: 368] но не имеет подтверждения. Виноградов кончал в Петрограде не университет, а Историко-филологический институт и Археологический институт (оба в 1917 г.). В университете же он только преподавал в 1920–1929 гг. (часть времени внештатно) до переезда в Москву. В эти годы Бахтин там не учился и не работал. Зачем вообще академику было вспоминать о старой дружбе с провинциальным диссертантом? Может быть, Виноградов, откуда-то (откуда?) зная об отсутствии у Бахтина высшего образования, хотел дополнительно подтвердить этими словами его наличие? А может быть, обьявляя о своем знакомстве с ним, академик хотел как-то воздействовать в его пользу на членов ВАК? Кто знает?
Настрой большинства членов ВАК был явно недоброжелатель-ным. Видя это, Виноградов предложил компромиссный вариант: не присуждать Бахтину докторскую степень, но дать звание профессора (для преподавателя провинциального вуза это было важнее). А когда этот вариант не прошел, он согласился с мнением большин-ства отдать диссертацию автору на доработку. И все равно он закончил речь словами: «Сам Бахтин заслуживает некоторого снисхождения и поощрения».[119 - Паньков 1999: 74] Он, конечно, не мог забыть критику по своему адресу в похваленной Луначарским книге. А если он считал, что Бахтин стоял за спиной Волошинова, отозвавшегося о нем еще резче, то он не мог не считать себя обиженным этим вдруг возникшим из небытия человеком. И тем не менее Виноградов, сам находившийся в1949 г. в трудном положении, подал руку Бахтину, которому было еще тяжелее.
О сопоставлении научных взглядов Бахтина и Виноградова уже существует несколько публикаций.[120 - Перлина 1995; Большакова 1999] Но совсем не изучен вопрос о сопоставлении двух столь ярких личностей, как Михаил Михайлович Бахтин и Виктор Владимирович Виноградов. Этот вопрос я выношу в отдельный Экскурс 1.
Последнее, на что хочется обратить внимание. В беседах Бахтина с Дувакиным имя Виноградова не встречается ни разу. Вряд ли это случайно.
I.2.5. Круг Бахтина и Н. Я. Мирр
В заключение надо рассмотреть вопрос об отношении авторов МФЯ к Н. Я. Марру и его учению. Во время написания книги и примыкающих к ней работ это учение еще не стало непререкаемой догмой, но уже было настолько влиятельным, что его нельзя было игнорировать. Особенно последнее обстоятельство сказывалось в Ленинграде, где жили и авторы МФЯ, и сам академик Марр. Если в Москве даже в 1932 г. могла выйти упоминавшаяся выше брошюра П. С. Кузнецова против марризма, то в Ленинграде к 1928–1929 гг. спорить с марризмом или совсем его игнорировать было уже очень трудно. Подробнее об обстановке тех лет в этом аспекте см..[121 - Алпатов 1991: 79—111]
Некоторые авторы причисляют МФЯ к марристской литературе. Так делает, например, автор вышедшей во Франции книги об истории марризма.[122 - L'Hermitte 1987: 28] Другая исследовательница марризма пишет, что хотя В. Н. Волошинов находился вне «кружка Н. Я. Марра», но «выглядел поддерживавшим марровские стремления».[123 - Bruehe-Schulz 1993: 456] Аргумент она приводит один: Во-лошинов, как и марристы, интересовался проблемой социальной природы человеческого мышления, а не эмпирическими фактами. Заканчивается этот абзац словами о «горьком капризе истории»: Во-лошинов, поддерживавший марризм, был уничтожен, как и его противники,[124 - Bruehe-Schultz 1993: 456] хотя к 1993 г. обстоятельства его смерти уже были известны.
Если в данном случае очевидно недостаточное знание фактов, то несколько странно читать у покойной Н. А. Слюсаревой, много занимавшейся историей советской лингвистики, о том, что статья «Новейшие течения лингвистической мысли на Западе» (сокращенный вариант МФЯ) написана «с позиций яфетической теории».[125 - Слю-сарева 1998: XV] Аргументов нет.
Интерес к социальному в языке и невнимание к эмпирике—критерии очень уж общие. Надо реально посмотреть, что есть в МФЯ от Марра.
Казалось бы, можно найти один реальный аргумент в пользу принадлежности МФЯ к марризму. Выше говорилось, что в этой книге нет положительных оценок советских лингвистов (кроме оценок по очень частным вопросам). Но есть одно исключение: Н. Я. Марр. Он упомянут в книге трижды и всегда в положительных контекстах. Но что это за оценки?
В раннем варианте МФЯ, «Отчете» Волошинова (см. о нем в следующей главе), имя Марра не встречается. Учитывая атмосферу ленинградской лингвистики тех лет с уже сложившимся культом Марра, можно с большой долей вероятности предположить, что среди не дошедших до нас замечаний при обсуждении «Отчета» было и указание на «неучет» теории академика. Это тем более правдоподобно потому, что в обсуждении участвовал Л. П. Якубинский, в это время увлекавшийся этой теорией. Но что обычно делают, если необходимо упомянуть авторитетное, но «чужое» имя? Идут чаще всего двумя путями: либо находят у авторитета какое-то близкое своим идеям высказывание, пусть фигурирующее совсем в ином контексте, либо упоминают его заслуги в той области, где они признаны, пусть эта область выходит за рамки исследования. Все три случая упоминания Марра в МФЯ укладываются в эту схему.
Первый раз Марр упомянут в связи с разбиравшимся выше тезисом о филологизме как определяющей черте «абстрактного обьективизма» с самого его возникновения. Вслед за словами о «свирели, пробуждающей мертвых», сказано: «Совершенно справедливо на эту филологическую сущность индоевропейского лингвистического мышления указывает акад. Н. Я. Марр» (286). Далее идут две цитаты из Марра с резкими оценками «индоевропейской лингвистики», исходящей «от окоченелых форм письменных языков», затем заключение: «Слова академика Н. Я. Марра справедливы, конечно, не толь-ко по отношению к индоевропеистике… но и относительно всей лингвистики, какую мы знаем в истории» (287).
Очевидно, что авторы МФЯ специально искали в трудах академика что-то близкое себе и нашли. Исходя из совсем других посылок, Марр тоже выступал против филологизма, уклона в изучение мертвых, а не живых языков. Цитаты в данном случае не противоречили идеям МФЯ (хотя этого совпадения, конечно, недостаточно для сближения книги с марризмом). Но последнее замечание об индоевропеистике показывает как раз малое знакомство авторов книги с марристской терминологией. Обычно индоевропеистикой называют сравнительно-историческое изучение языков индоевропейской семьи. Таким естественным образом поняли Марра и авторы МФЯ: разумеется, индоевропеистика в этом смысле «задавала тон» в языкознании времен младограмматиков, но к ней не могла сводиться лингвистика всех времен и народов. Но Марр, а вслед за ним его последователи уничижительно называли «индоевропеистикой» любую науку о языке, кроме собственного «нового учения». Для человека, находившего «внутри» марристского цеха, сделанное в МФЯ уточнение было бы излишним, но авторы МФЯ его сделали именно потому, что марристами не были.
Второе упоминание Марра – там, где речь идет об освоении чужого, иноязычного слова и скрещении его со своим. В связи с этим всплывает термин «скрещение языков», один из любимых у Мар-ра. Далее идет: «Идея языкового скрещения, как основного фактора эволюции языков, со всей отчетливостью была выдвинута акад. Н.Я. Марром. Фактор языкового скрещения был признан им как основной и для разрешения проблемы происхождения языка» (291). Далее идут две цитаты из Марра, одна о скрещении, другая о происхождении языка (в отличие от высказываний о филологизме, в которых есть какой-то смысл, в этих двух цитатах современному читателю трудно найти что-либо хоть минимально разумное). Затем вывод: «Здесь мы только намечаем значение чужого слова для проблемы происхождения языка и его эволюции. Сами эти проблемы выходят за пределы нашей работы… Мы отвлекаемся здесь… от особенностей первобытного мышления чужого слова» (292).
В третий и последний раз о Марре говорится в связи с разграничением значения и темы в последней главе второй части книги. Приводится гипотеза Марра о том, что в самую древнейшую эпоху «в распоряжении племени было только одно слово для применения во всех значениях, которые только осознавало человечество». Вывод: «Относительно всезначащего слова, о котором говорил Н.Я. Марр, мы можем сказать следующее: такое слово, в сущности, почти не имеет значения: оно все – тема… Здесь тема, таким образом, поглощает, растворяет в себе значение, не давая ему стабилизироваться и хоть сколько-нибудь отвердеть» (319).
В двух последних случаях, несомненно, имя академика Марра упоминается в связи с его славой как крупнейшего специалиста в области «языковой доистории», происхождения языка и первобытного языка. Поскольку этими проблемами мало кто всерьез занимался, то очень многие принимали марровские безапелляционные утверждения на веру. Вряд ли здесь авторы МФЯ, также не занимавшиеся этими проблемами, составляли исключение. Второе упоминание—чистое «украшательство» книги: мы говорим о «скрещении», Марр тоже говорит о «скрещении», но о скрещении в эпоху происхождения языка, которой мы не занимаемся. Третий случай сложнее. Здесь единственный раз можно говорить о каком-то использова-нии марровских идей. Разграничение двух некоторых понятий (в данном случае – значения и темы) часто ставит вопрос: существует ли предельный случай, когда два понятия совпадают? И здесь марровское «всезначащее слово» далекого прошлого, существование которого нельзя было ни доказать, ни опровергнут^ могло дать пример такого совпадения. Это могло показаться интересным. Но конечно, одного этого явно периферийного для книги рассуждения недостаточно для отнесения МФЯ к марризму.
Разумеется, в книге нет прямой полемики с марризмом. В боль-шинстве случаев она была и не нужна: книга о другом. Однако в обстановке того времени авторы были вынуждены ритуально покло-ниться Марру, найдя при этом способ сделать это, не поступившись принципами. В конце жизни Бахтин, по свидетельству С. Г. Бочарова, называл марксистскую проблематику МФЯ «неприятными добавлениями».[126 - Бочаров 1993: 71] О марксизме речь еще впереди. А упоминания Марра (кроме, может быть, последнего) явно имели характер «неприятных добавлений».
И в то же время в самом начале МФЯ, во введении, есть скрытый выпад против марризма. «Единственной марксистской работой, касающейся языка», названа книжка о происхождении речи и мышления[127 - Презент 1928] (217); впрочем, и она оценивается явно невысоко, а ее проблематика признается далекой от задач МФЯ. Само по себе имя И. И. Презента любопытно. Этот автор сейчас если и известен, то как «теоретик», состоявший в 30—40-е гг. при Т. Д. Лысенко. Это был профессиональный «методолог», занимавшийся созданием «марксистской науки» в любой области. В лингвистике ему, однако, не повезло: марристы не признали его «своим».[128 - Аптекарь, Быковский 1931: 37] Ему пришлось переквалифицироваться на биологию, где итог оказался также неудачным, но это выяснилось значительно позже.
Но главное было в том, что формулировка об отсутствии марксистских работ о языке означала непризнание марксистскими многочисленных к тому времени работ самого Марра и его последователей, получивших название «подмарков». Вероятно, марристы заметили это место в книге (тем более что предисловия и введения традиционно читают внимательнее, чем все остальное). И это могло послужить одной из причин отрицательного отношения к книге со стороны марристов, о котором будет говориться в пятой главе. Ритуальные похвалы Марру значили гораздо меньше, чем отказ считать его марксистом.
В заключение раздела надо сделать одно уточнение. В марров-ский лагерь в те годы входили не только малокультурные «подмарки», но и серьезные, ищущие ученые. И у них, особенно у В. И. Абаева, также можно найти идейную перекличку с МФЯ, вовсе не обязательно под прямым влиянием книги. Этот вопрос еще будет рассмотрен в пятой главе. Но безусловно, от марризма авторы МФЯ были далеки.
Из всего сказанного выше можно сделать один вывод. Авторы МФЯ были одиноки и в советской, и в мировой лингвистике. Ближе всего к ним была школа К. Фосслера, в исторической перспективе уже уходившая со сцены. Книга была маргинальной для лингвистики того времени, а ее авторы были маргиналами в советской лингвистике, пришедшими в лингвистику извне. Их научные и личные связи с современными им лингвистами были незначительны, а идеи этих лингвистов отвергались или игнорировались авторами МФЯ.
Экскурс 1
БАХТИН И ВИНОГРАДОВ. ОПЫТ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТЕЙ
Михаил Михайлович Бахтин и Виктор Владимирович Виноградов являлись одними из наиболее известных и значительных русских ученых-гуманитариев своего поколения. В то же время характеры у них были разные. Даже попадая в сходные обстоятельства, два ученых часто вели себя по-разному. Хочется сопоставить их просто как две личности (вопрос об их научных и человеческих взаимоотношениях специально разбирался в первой главе). По жанру статья несколько похожа на статью,[129 - Тодоров 2003] где сопоставляются личности Бахтина и Якобсона.
В биографиях Бахтина и Виноградова много сходного. Они принадлежали к одному поколению и даже были ровесниками: Виноградов родился (по новому стилю) в начале, а Бахтин – в конце 1895 г. Оба происходили из интеллигентных, но не дворянских семей. Оба формировались как специалисты (Виноградов всецело, а Бахтин лишь отчасти) в Петрограде предреволюционных и послереволюционных лет, имея частично сходный круг учителей и знакомых. Оба жили в Ленинграде второй половины 20-х г. и были связаны с одними и теми же учреждениями вроде Института истории искусств (Зубовского). Оба в 20-е г. были «внештатными за неблагонадежность» (используя приведенное выше высказывание Р.Якобсона о Виноградове), а в период «культурной революции» подверглись репрессиям, хотя и в несколько разное время: Бахтин с декабря 1928 г., Виноградов с февраля 1934 г. Оба испытали тюрьму, ссылку, жизнь с «минусом», но обоих судьба уберегла от лагеря. Оба в 1937–1938 гг. подверглись новым нападкам «за допущение в преподавании буржуазного объективизма» (формулировка, примененная тогда к Бахтину в Саранске), но избежали новых несчастий. Оба умерли в Москве в пожилом возрасте (Бахтин пережил Виноградова на пять с половиной лет), получив при жизни широкую известность. Обоим повезло с женами: и Елена Александровна Околович-Бахтина, и Надежда Матвеевна Малышева-Виноградова всю жизнь помогали мужьям в самых тяжелых обстоятельствах (хотя людьми они были разными: Елена Александровна не имела профессии и посвятила жизнь мужу, а Надежда Матвеевна была самостоятельной женщиной, видным музыкальным педагогом). У обоих не было детей. Оба имели преданных учеников, чья помощь много значила в нелегкие годы их жизни.
К обоим может быть применена формулировка из статьи памяти Виноградова, написанной одним из его учеников: «Его жизненный путь был неровным, колеблясь от драматических затруднений до вершин научной и общественной славы».[130 - Костомаров 1971: 12—13] Однако если «драматические затруднения» у обоих были сходными, то вершины научной и особенно общественной славы оказались у них существенно разными.
В весьма разных характерах двух ученых можно найти и некоторые сходные черты. Оба отличались огромной работоспособнос-тью и просто не умели не работать. У обоих эта черта резко выяви-лась в ссылке, когда и того и другого в гнусных жизненных условиях спасала работа. Оба привлекали к себе людей, но в свои зрелые годы почти не имели друзей и держали собеседников на некотором расстоянии. Об обоих вспоминают как о блестящих лекторах, хотя в силу жизненных обстоятельств Бахтин имел меньше возможностей, чем Виноградов, реализовать свое умение выступать.
Я уже отмечал значительное пересечение исследовательских интересов Бахтина и Виноградова. Это хорошо известно литературоведам, но важно подчеркнуть, что оно было и в лингвистике. Взгляды их были разными, но в одном они все-таки сходились, пусть в негативном плане. Оба в конечном итоге не приняли влиятельнейшую научную парадигму двух первых третей XX в., проявившуюся в лингвистике в структурализме, в литературоведении в формальном методе. Как известно, в волошиновском цикле как раз Виноградов представлен как чуть ли не главный в нашей стране представитель данной парадигмы, что трудно считать объективной оценкой. Максимализм авторов МФЯ заставлял их игнорировать различия между «формалистами» и Виноградовым, однако в 50—60-е гг. такое различие Бахтин, безусловно, проводил. Конечно, и в волошиновском цикле, и в поздних сочинениях Бахтина антиструктурализм радикальнее, но и Виноградов, используя отдельные исследовательские приемы структурализма и формальной школы, никогда не присоединялся к ним.
И все-таки людьми Бахтин и Виноградов были совершенно разными. Именно это несходство характеров стало причиной того, что их судьбы, имевшие сходство в 20-е и особенно в 30-е гг. (хотя у Виноградова не было ни Невеля с Витебском, ни чего-то хоть отдаленно похожего на круг Бахтина), решительно разошлись после войны. Различия характеров видны и в их поведении в похожих ситуациях, и в памяти, которую они о себе оставили, и в самих их сочинениях.
Многое показывают самохарактеристики обоих ученых, дошедшие до нас. Для Бахтина это прежде всего записи бесед с В. Д. Дувакиным, неоднократно упоминаемые в этой книге. Рассказы Бахтина часто недостоверны в отношении фактов его биографии, но характер и мировоззрение Михаила Михайловича в последние годы жизни отражены там ярко и достоверно. Для Виноградова это хранящиеся в Архиве РАН 359 очень откровенных его писем 1934–1936 гг. Надежде Матвеевне из вятской ссылки. Они лишь в небольшой части опубликованы А. Б. Гуськовой.[131 - ВРАН 1995, 1]
При всех довольно значительных точках пересечения тематики их научные интересы все-таки во многом различались, как и само отношение к творческому процессу. Бахтин, долгое время у нас рассматривавшийся как литературовед, рассматривал себя прежде всего как философа. Так он и заявил В. Д. Дувакину: «Я – философ. Я – мыслитель».[132 - Беседы 1996: 42] Его первые сочинения 20-х гг. были чисто философскими, а под конец жизни, по воспоминаниям С. Г. Бочарова, Михаил Михайлович смотрел на свою жизнь как на неудачу, поскольку «не мог в свое время пофилософствовать всласть».[133 - Бочаров 1993: 83] Любая его мысль, любая тема хотя бы в подтексте имеет выход в высокую философию (что, однако, не означает, что она одновременно не может относиться к лингвистике или к литературоведению). Виноградов же при достаточно широкой тематике исследований философом отнюдь не был. Если исходить из принятой у нас номенклатуры ВАК, то его интересы умещались в рамках филологических наук; имевшаяся у него степень доктора этих наук точно их отражала (чего нельзя сказать о кандидате филологических наук Бахтине). О философских взглядах Виноградова говорить вообще довольно сложно, хотя несомненна его склонность к умеренному позитивизму, в традициях которого он воспитывался.
Как-то с этим, возможно, было связано и разное отношение двух ученых к религии. Бахтин, как известно, всю жизнь был религиозен, хотя и далек от официальной церкви. Беседы с Дувакиным это подтверждают. И ничего похожего у сына священника Виноградова. В письмах из вятской ссылки ничего о Боге, а Пасха и Первое мая – в равной степени поводы посмеяться над идиотизмом окружавшей его мещанской среды, особенно ярким в праздники.
Мыслитель Бахтин вообще невысоко ставил профессионализм. Разумеется, он не отрицал необходимости владеть специальностью, но это для него не было главным. Дувакину он говорил, что из окружавших его людей он больше всего уважал тех, кто, как М. В. Юдина, вырывался за рамки профессии.[134 - Беседы 1996: 237] Говоря о друге юности своего брата – Н. Э. Радлове, получившем в советское время известность в качестве художника-карикатуриста, он оговаривал: «Конечно, это не было главное в нем».[135 - Беседы 1996: 52] И ОПОЯЗ он не признавал, в том числе и потому (а может быть, прежде всего потому), что там занимались специальностью и не было главного – «очень глубокого… весело-критического отношения ко всем явлениям жизни и современной культуры».[136 - Беседы 1996: 54] Вообще, вероятно, замыкание в узком кругу проблем своей специальности, будь то лингвистика или поэтика, отталкивало его от структурализма и формальной школы. Недаром одно из главных обвинений структурализма в МФЯ – в ограничении объекта исследования, в обрыве связей лингвистики со всем остальным. Надо думать, такое ограничение не могло быть близко и Бахтину как человеку.
И все иначе у Виноградова, именно профессионала-филолога по своей сути. В его вятских письмах – множество жалоб на московских и провинциальных коллег, деятельность которых он оценивал не выше, чем Бахтин. Но критикует он их совсем за другое: за недостаток профессионализма и знаний, за неумение анализировать тексты и т. д. В письмах жене Виноградов нередко рассуждал о научных проблемах, волновавших его в то время. Например, в одном из опубликованных писем Виноградов обстоятельно обсуждает проблему «Войны и мира» как произведения русско-французской языковой культуры: тогда он как раз писал статью о стиле Льва Толстого, затем опубликованную. Рассуждения интересны, но это конкретные проблемы конкретной работы ученого. Перехода на более общие темы, на «философствование», что постоянно у Бахтина в беседах с Дувакиным, нигде нет.
Различны и сочинения ученых. Ограничимся лингвистическими (включая волошиновский цикл). О чем бы ни говорилось и в этом цикле, и в поздних работах Бахтина, всегда речь идет об общей теории. Даже совсем, казалось бы, конкретная по теме статья о вопросах стилистики на школьных уроках связана с теорией языка. А конкретных примеров всегда немного, причем их анализ в целом значительно менее интересен, чем общие построения (подробнее об этом в тре-тьей и шестой главах). И в истории лингвистики в МФЯ рассмотрены, прежде всего, глобальные вопросы: что такое язык, что такое речевое высказывание и т. д. И беглый суммарный анализ развития мировой науки от древних греков до современности гораздо ярче, чем сухой пересказ французских и немецких работ по несобственно-прямой речи.