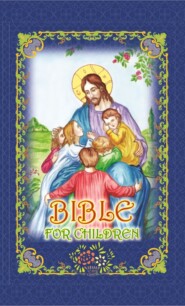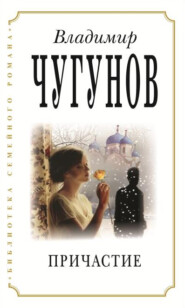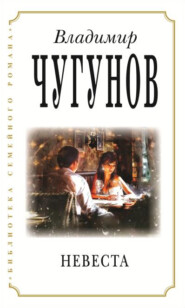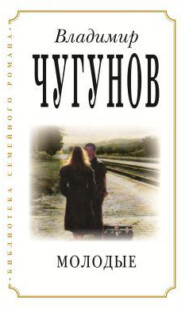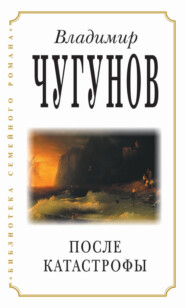По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Запущенный сад (сборник)
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молчание на этот раз длилось больше месяца. А потом пришло: «Да, я это писала. Но я же не знала, что ты додумаешься до такого. Всему же есть предел. А у тебя его, похоже, нет. И что теперь – всю жизнь ругаться? И потом, мама твоя не секретарь комсомола, не секретарь партийной организации. А посмотрела бы я на неё, когда бы она хотя бы на моём месте один день побыла. И потом, кому много дано, с того спросу больше. И когда столько хамства вокруг, хочется, чтобы хотя бы близкие люди тебя понимали и поддерживали. А они наоборот – только предают».
И всё равно я не мог лечь под её убеждения.
И вот опять сижу, производя экзекуции с фотографией. Всё никак не могу решить, что со всем этим делать?
* * *
И тут как нарочно подвернулся Новогодний бал.
Поскольку о нашей вечной дружбе не только в классе, но и по всей школе ходили слухи («Аж из самой Астрахани подцепил!»), если б кого и рискнул пригласить на танец, был бы неправильно понят, но белый танец снимал все подозрения.
И вот хотите – верьте, хотите – нет, но как в песне, «красивая и смелая», взяла и всей школе дорогу-то перешла. Иначе, на виду у классных руководителей, секретаря комсомольской организации и целых четырёх классов, прошла через весь зал и пригласила меня на белый танец.
И после этого я виноват?
Положим, от такого везения я чуть не свихнулся! То прикоснуться к слабому полу не смел, а тут… Ну, и понеслось, поехало… Тебя как звать?.. А тебя?.. Ты из какого класса? Что-то я тебя раньше не видел… Видно, не в ту сторону смотрел… И всё в таком роде.
Оказалась из девятого класса, с гордо вздёрнутой головкой, светленькая, в коротенькой юбочке, на каблучках. А глаза – просто синь поднебесная! Утонуть можно! Что со мною, можно сказать, и произошло. До того аж, что только с ней до конца вечера и танцевал – кроме быстрых танцев, разумеется. А потом провожать пошёл.
Такими глазами Кеша на меня ещё никогда не смотрела! Даже мороз по коже пробежал! Но я уже катился под гору – не остановить. Тем более, оказалось, что синеокой я уже давно приглянулся, да «ты всё не знай на кого смотришь». Я не стал уточнять, почему ни на кого внимания не обращал. Не знает – и ладно, глядишь, за первую любовь сойдёт. Ведь четыре раза уже до этого влюблялся – позор!
Но самое главное – мы с ней даже поцеловались! Как-то так, не пойми как, ткнулись сначала носами, а затем зубами – и друг над дружкой расхохотались.
– Ладно, – сказала, – пойду, а то мама сейчас выбежит. Видишь, занавеска шевелится? Ну что, спасибо, что проводил, а то я такая трусиха!
Ну а мне бояться темноты по статусу индивидуума не полагалось. И хотя идти было далеко, почти от конца соседнего посёлка, я преодолел расстояние, как во сне. И когда проснулся дома, в первую очередь достал Сашенькину фотографию и спросил:
– Что, дождалась?
И даже показалось, не такая уж она красивая. Лишь бы, думал, обман с рук сошёл, поскольку синеокую пришлось заверить, что до неё ни с кем я не дружил. Думал, проедет, а не тут-то было. Сразу же после новогодних каникул всё стало известно. В том числе и Сашеньке.
Таким образом, я оказался между двух огней.
Как из такого положения выкрутился, разумеется, расскажу.
Сначала произошла война с синеокой. На этот раз – настоящая. За такой наглый обман она дала мне, слава Богу, не при всех пощёчину. Потом пришло письмо от оппозиции.
«Я так и думала, что такие, как ты, ещё и не на такое способны! И не стыдно тебе? А ещё – индивидуум!»
И до конца учебного года, всем женским контингентом школы презираемый, я упивался совершенным одиночеством.
11
А к началу выпускных экзаменов неожиданно зацвёл заброшенный сад. Старые яблони, всю зиму неприятно поражавшие корявым уродством, до неузнаваемости преобразились. На них больно и радостно было смотреть. Такими же ослепительно снежными в дни выпускных экзаменов казались фартуки и бантики одноклассниц.
Но ещё до начала экзаменов, в день последнего школьного звонка, в доме Сидика Умярова наши родители позволили нам устроить первое праздничное застолье с вином. Чем окончилось застолье – припоминаю смутно, зато хорошо помню начало. Не понимаю, для чего надо было вино, когда мы и так были до нервного озноба возбуждены. Разумеется, были тосты, и все, как один, жизнеутверждающие. И таким плёвым после выпитого вина представлялось покорение предлежащих вершин. Не помню, о чём именно говорили, но говорили так громко, и главное, все сразу, что совершенно ничего невозможно было понять, и, тем не менее, все прекрасно друг друга понимали. Затем всё как бы стало отходить в сказочную нереальность и, наконец, совершенно потухло в памяти.
А вот выпускной вечер высвечивается от начала до конца. После торжественного вручения аттестатов мы вышли на улицу, чтобы сфотографироваться с учителями в последний раз, а потом для нас в спортзале запустили бал, так сказать, «на сухую». Но, прекрасно зная об этом, мы заранее сложились с ребятами и, улучив момент, сбегали к тому же Сидику Умярову. На этот раз всё происходило непразднично, впопыхах, в сарае. Быстренько разлили, выпили, что же касается закуски, всю обратную дорогу до школы усиленно жевали дольки резиновой конской колбасы. Насилу, помнится, её проглотил. Задержавшись ещё на малое время за оградой сада, как взрослые, покурили «в себя», и, когда нас окончательно развезло, с ощущением разлившейся по душе удали бурно влились в хаотично танцующий зал. Сразу же ринулись девичьи пары разбивать и никаких отказов уже принимать не хотели. Потом бегали добавлять ещё, и кто-то даже отключился, а затем всем классом потащились на станцию железной дороги, чтобы ехать на Нижегородский откос.
Ехали на последней электричке. По прибытии на Московский вокзал узнали, что канавинский мост для движения транспорта на всю ночь закрыт на ремонт. И уже ничего не оставалось, как только двинуть пешком, а идти надо было в верхнюю часть города сначала вдоль набережной, в сторону протянутой чугунным идолом руки, затем через вспыхивающий ослепительными «зайчиками» сварки тёмный мост, потом вдоль трамвайных путей, мимо нарядной Строгановской церкви, по тогдашней Маяковке, а ныне опять Рождественке, заключённой в плотную стену старинных многоэтажных домов, с выходящими на улицу витринами ювелирного, радиолюбительского, спортивного магазинов, входами в аптеку, оптику, предварительную кассу железной дороги и даже театр Комедии. Завершало шествие стеклянное кафе «Скоба», за ним, на той стороне Почаинского съезда, на площади у полуразрушенного Предтеченского храма, когда-то было положено начало судьбоносному ополчению на Москву. Начинавшаяся от северной стены обезглавленного храма узенькая улочка довела до нижнего входа в красно-кирпичные стены Нижегородского кремля.
И когда, наконец, через обширную кремлёвскую территорию, преодолев крутой затяжной подъём, мы поднялись на площадь Минина, меня поразило огромное количество собравшихся у памятника Чкалову празднично разодетых выпускников. Помимо стоявшего говорильного гула, в воздухе ощущалось тревожное возбуждение, какое бывает в театре перед началом представления. Чтобы не потеряться в толпе, мы инстинктивно сбились в кучку. И я с жадным любопытством всё вглядывался и вглядывался в незнакомые лица. Не знаю, почему, но все они казались мне совершенно от нас, пригородных, отличными. Было в их поведении больше раскрепощённости что ли. И в то время, когда в одном месте что-то пели под гитару, в другом заразительно смеялись или дружно хлопали в ладоши. Кто-то, придерживаемый за руку, ходил по брустверу смотровой площадки за спиной подсвеченного прожекторами Чкалова. Кого-то качали.
До восхода было ещё далеко, и другой берег реки едва угадывался в тёмном провале, а вот ближний, к которому спускалась широкая каменная лестница, был обозначен гирляндой уличных фонарей.
Площадь Минина поражала призрачной пустынностью. Два института (медицинский и педагогический), которые кому-то из собравшихся предстояло покорять, находились на ней. Тогдашняя Свердловка, а ныне снова Большая Покровка проглядывалась насквозь, но второго кумира, давшего название тогдашнему городу, не было видно. Вдоль могучей кремлёвской стены шелестели на ветру старые липы.
На откосе, обыкновенно, дожидались рассвета. И когда, наконец, зацвело васильковым разливом небо, и обозначился подёрнутый чешуёй величественный речной простор, сначала повисло безмолвие, даже дыхнуть было страшно, а потом кто-то крикнул:
– Солнце встаёт!
И тишину взорвало победоносно торжественное ура. Минут пять, если не больше, все только и делали, что кричали, свистели, прыгали, кружились, толкались, хлопали стоявших рядом по плечу, гонялись друг за дружкой вокруг толпы.
И когда окончательно занялось удивительно погожее утро, стали потихоньку расходиться: кто по лестнице к набережной, кто по площади к остановкам, а мы, войдя через Дмитриевскую башню в стены Кремля, тою же дорогой спустились вниз. Сфотографировались на скамейке. И, наконец, добравшись, опять же пешком, до вокзала, едва стоявшие от усталости и бессонной ночи на ногах, на первой электричке уехали домой.