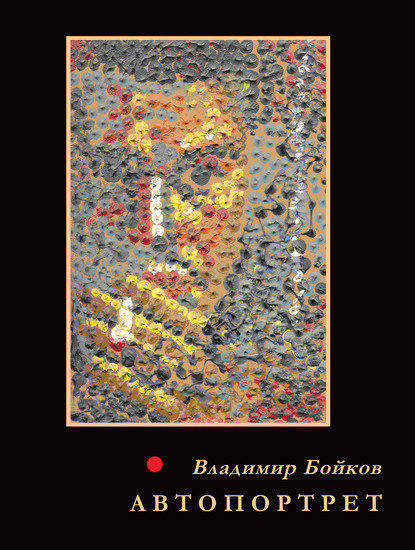По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Автопортрет. Стихотворения. 1958–2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Метят ласковые жала
все слезами затопить.
Шалью белой облипает,
нежным зверем льнет к жилью,
и в дверях не отступает,
тянет песенку свою.
Утихает на порожке,
растворяется в тепле,
лишь серебряные крошки
оседают на стекле.
Это все, что на бумаге
остается от меня,
да и то боится влаги,
а точней сказать – огня…
Морок вьюги изнебесной
завился в семи ветрах:
чуть вздохни – и слезкой пресной
обернется на губах.
Мысли, как снежные вихри:
прилетают и распадаются в прах,
возникают и уносятся прочь.
Я ушел.
В себя.
Далеко.
Знаю, как тебе со мной
рядом кутать одиноко
плечи в шарфик шерстяной.
Но не горько, а скорее
терпеливо и светло,
чашкой с чаем руки грея,
в мутное глядишь стекло.
Там, за ним, с исходом ночи,
словно разом вслух сказать,
звезды наших одиночеств
начинают исчезать.
Воет снегоочиститель,
в чашке чай давно остыл.
Как легко в мою обитель
я тебя переместил!
Если впрямь придешь ко мне ты —
не столкнись сама с собой,
не сожги моей планеты,
грезы этой голубой.
Вплавлена синева
в разводы инея:
эмаль по серебру.
Чувствуется, вот нагрянет
марта первое число,
запуржит, и забуранит,
и залепит все стекло.
Как часам в железном беге
износится суждено,
так исчезнет в белом снеге
то, что снегом рождено, —
и навеки белый профиль
за завьюженным окном
сгинет в царстве белых кровель
с белогривым скакуном.
Но качнется чуть подкова
рядом с дверью на гвозде,
как тоска очнется снова
на грунтованном холсте,
и какой бы слов разъятье
звучностью ни пронизать,
вся их музыка – проклятье,
если некому сказать.
Тянет свежестью —
белья ли, газет ли —
от надтаявшего снега.
Книгочийствую ночами,
связью терпкой упоен
будней наших с мелочами
вязью писанных времен.
Мыслей чаша круговая
переходит от судеб
к судьбам, суть передавая:
как вода, как черный хлеб,
жизнь сладка!
Тому порукой
мука трудная моя,
от которой и с подругой
легкой нет мне забытья.
Перышко еще от птицы
вечности не принесло,
и в конце еще страницы
не проставлено число,
и картонке на мольберте
весь не отдан непокой,
все слезами затопить.
Шалью белой облипает,
нежным зверем льнет к жилью,
и в дверях не отступает,
тянет песенку свою.
Утихает на порожке,
растворяется в тепле,
лишь серебряные крошки
оседают на стекле.
Это все, что на бумаге
остается от меня,
да и то боится влаги,
а точней сказать – огня…
Морок вьюги изнебесной
завился в семи ветрах:
чуть вздохни – и слезкой пресной
обернется на губах.
Мысли, как снежные вихри:
прилетают и распадаются в прах,
возникают и уносятся прочь.
Я ушел.
В себя.
Далеко.
Знаю, как тебе со мной
рядом кутать одиноко
плечи в шарфик шерстяной.
Но не горько, а скорее
терпеливо и светло,
чашкой с чаем руки грея,
в мутное глядишь стекло.
Там, за ним, с исходом ночи,
словно разом вслух сказать,
звезды наших одиночеств
начинают исчезать.
Воет снегоочиститель,
в чашке чай давно остыл.
Как легко в мою обитель
я тебя переместил!
Если впрямь придешь ко мне ты —
не столкнись сама с собой,
не сожги моей планеты,
грезы этой голубой.
Вплавлена синева
в разводы инея:
эмаль по серебру.
Чувствуется, вот нагрянет
марта первое число,
запуржит, и забуранит,
и залепит все стекло.
Как часам в железном беге
износится суждено,
так исчезнет в белом снеге
то, что снегом рождено, —
и навеки белый профиль
за завьюженным окном
сгинет в царстве белых кровель
с белогривым скакуном.
Но качнется чуть подкова
рядом с дверью на гвозде,
как тоска очнется снова
на грунтованном холсте,
и какой бы слов разъятье
звучностью ни пронизать,
вся их музыка – проклятье,
если некому сказать.
Тянет свежестью —
белья ли, газет ли —
от надтаявшего снега.
Книгочийствую ночами,
связью терпкой упоен
будней наших с мелочами
вязью писанных времен.
Мыслей чаша круговая
переходит от судеб
к судьбам, суть передавая:
как вода, как черный хлеб,
жизнь сладка!
Тому порукой
мука трудная моя,
от которой и с подругой
легкой нет мне забытья.
Перышко еще от птицы
вечности не принесло,
и в конце еще страницы
не проставлено число,
и картонке на мольберте
весь не отдан непокой,