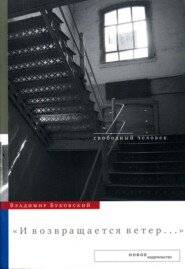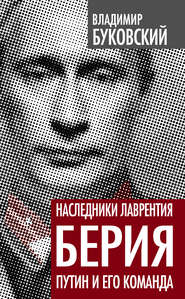По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
И возвращается ветер…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
декабрь 1989 – август 2007
И возвращается ветер…
Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире.
Начинался обычный тюремный день, очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В шесть часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь: «Падъ-ем! Падъ-ем! Падъ-ем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. Провались ты со своим подъемом!
Заорал репродуктор. Раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл Гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва! Доброе утро, товарищи! Утреннюю гимнастику начинаем с ходьбы на месте». Черт, поскорее выключить! Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте.
Зимнее смурное утро и на воле-то приходит, точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, и этот день впереди – как проклятье. Недаром поется в старой арестантской песне:
Проснешься утром, город еще спит.
Не спит тюрьма – она давно проснулась.
А сердце бедное так заболит,
Как будто к сердцу пламя прикоснулось.
По заснеженному двору от кухни прогрохотал «тюрьмоход» – тележка с бачками, повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча об пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша, хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый, старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся – недодали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались – завтрак, с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору в другой конец. Кто теперь проверит, кто докажет, дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта.
Обычно по утрам, после завтрака, повторял я английские слова, выписанные накануне. Два раза в день повторял – утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом, уже днем, брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка: «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого-то нам и не хватало, начался проклятый денечек. Собирайся, да тащись, да устраивайся на новом месте – пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут, вечная таинственность.
– Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду? – Это уже наша разведка. Если матрацы брать – значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать – значит, на другой, а куда? Если матрасовки брать – значит, на первый или на третий: на втором свои дают, и посуду тоже.
– Все забирайте с собой, – говорит неопределенно начальник, туману напускает. Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять, на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем, поволокут на строгий режим, на пониженную норму. А может, просто шмон? Это вот не дай Бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона, всякие запрещенные вещицы – ножичек, несколько лезвий, шильце самодельное. Все сейчас заметут.
И заметались все! У каждого же своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть – может, не найдут. В сапог тоже можно – да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги – пожалуйста. Батюшки, сапоги! Я же их в ремонт сдал.
– Начальник! Звони насчет сапогов – в ремонте у меня сапоги. Без сапогов не пойду, начальник!
Я этого ремонта два месяца добивался, жалобы писал, требовал, бился, только взяли – и на тебе! Вернуть бы живыми, не до ремонта теперь, все к черту полетело. Хорошо, хоть позавтракать успели – к обеду, может, будем уже на новом месте. Куда ж это, однако, нас гонят?
Барахла у меня скопилось жуть, полная матрасовка. Казалось бы, какие вещи могут быть у человека в тюрьме? А и не заметишь, как оброс багажом. Освобождались понемногу ребята, уезжали назад в лагеря и бесценные свои богатства норовили оставить здесь, в наследство остающимся. Грешно увозить из тюрьмы то, что с таким трудом удалось протащить через шмоны. Каждая лишняя вещь – ценность. Вот три иностранных лезвия – за каждое из них можно договориться с баландером, и он будет неделю подогревать наших в карцере – три недели жизни для кого-то, может, и для меня. Тетради общие – тоже ценность, поди их достань. Три шариковые ручки, стержни для ручек, главное же – книги, не дай Бог шмон! Все это богатство скопилось у меня в опасном количестве, и никак я не мог исхитриться передать его кому-нибудь, кто остается дольше меня в тюрьме. Не попадал я с ними в одну камеру – не везло.
Но в общем-то похоже было, что просто переводят нас всех в другую камеру, а потому забрали мы и мыло, и тряпки свои, и веревочки всякие – на новом месте все очень пригодится, особенно если в камере раньше сидели уголовники. После них как после погрома: камера грязная, все побито и поломано, дня два чинить и чистить, мыть да скрести – и ни тряпок, ни мыла у них обычно не водится, поэтому даже половую тряпку забрали мы с собой.
Тьфу, ну, кажется, собрались. «Готовы?» – кричит начальник из-за двери. – Готовы!
Дверь открылась, и корпусной вдруг, указав на меня пальцем, сказал коротко: «Пошли со мной». Мать честная, куда же это? Не иначе как в карцер. И, цепляясь в уме за всякие возможности и варианты, спросил я только: «Матрац брать?» – «Бросьте в коридоре». Так и есть, карцер. За что ж это? Ничего же не делал. Голодовку объявлю!
Спускаемся вниз, на первый этаж, поворачиваем не к выходной двери, а в коридор – так и есть, карцер! Нет, прошли мимо, идем по коридору. Значит, шмон, к шмоналке идем. Ну, холера, сейчас все отберут. Как бы им голову заморочить? Говорю первое попавшееся: «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» – «Послали уже». Послали? Зачем же послали за сапогами, если только шмон? Может, этап?
Заходим в комнату для шмонов. Там уже шмонная бригада Петухова – ждут, как шакалы, сейчас все отметут. «Так, – говорят, – мешок положите здесь, а сами раздевайтесь». Раздели, как водится; ощупали каждую вещь по швам, в телогрейке одно лезвие было спрятано – не заметили, слава Богу, неделя жизни кому-то. «Одевайтесь». Выводят в коридор, запирают в этапку. Черт, значит, этап! Как же я потащусь со своим барахлом по этапу? Я и сам-то еле двигаюсь. И пропадет теперь все – на каждой пересылке шмон. Как обухом по голове. Куда бы это? Эх я, дурак, тряпку половую взял и мыло. Сапоги! Заиграют сапоги, потом ищи. «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» – «Послали уже».
Надо хоть ребятам дать знать, но как? Этапка самая крайняя, надо мной никого, унитаза нет, кружки у меня нет, тьфу! Написал карандашиком на стене по-английски: «Этапирован неизвестно куда», фамилию и число. Но это мало – когда еще заметят? Надо бы крикнуть как-то. Может, в баню поведут перед этапом? Но вот уже открывается дверь – так скоро? А баня? Нет, идем к выходу. Поворачиваем за угол, идем к вахте. Ну, только здесь и крикнуть. Пятнадцатая камера как раз надо мной. Изо всех сил заорал я вдруг, аж Киселев отпрыгнул от меня со страху.
– Пятнааадцатая, Егооор, меня на этап увозят! На этап забрали! Пятнааадцатая! – Тут они опомнились и втолкнули меня в двери вахты: «Тише, что орешь? В карцер захотел?» Какой карцер… Ври, начальник, не завирайся, где ты меня на этапе в карцер посадишь?
В большой комнате на вахте – не то в красном уголке, не то в раздевалке для надзирателей – посадили на стул. «Сидите!» Тут появился наш воспитатель, капитан Дойников, какой-то сам не свой, торжественно-грустный. Я к нему: «Гражданин начальник, куда?» – тихо так, чтоб никто не слыхал. Мнется, глаза отводит: «Не знаю, нет, право, не знаю. На этап». – «Да бросьте вы все темнить, тайны разводить – куда?» – «Честно, не знаю, не мое дело. Сказали, на этап – в Москву, наверно». Знает все, бес, по лицу видно. «А вещи мои?» – «Уже в машине». Неслыханно! Кто же это за меня вещи таскает, неужто конвой? Да, сапоги. «Скажите, чтобы сапоги принесли, сапоги у меня в ремонте». – «Принесут». – «Да как принесут? Уже на вахте, сейчас ехать!»
А он так тихо вдруг говорит: «Не нужны вам больше сапоги». Что бы это значило? Как так может быть, чтоб сапоги не нужны были? И я ему тихо: «Откуда же вы знаете, что сапоги не нужны, если не знаете, куда еду?» Смутился.
Не надо было этого говорить, и так понятно, что творится нечто необычное: этапы никогда с вахты не отправляют, а прямо внутрь воронок заходит, там и грузят. И вещи сами снесли, и сапоги не нужны, на волю, что ли, освобождать, что ли, будут? А может – наоборот? Тогда тоже сапоги не нужны.
– Ну что ж, прощайте, не поминайте лихом, – говорит капитан. Ведут прямо к выходу на волю, открывают дверь. Оглядеться не дают – вокруг люди в штатском. А, КГБ! Понятно – не на волю, значит. «Сюда, пожалуйста, в машину». Прямо у ворот стоят микроавтобус и какие-то легковые машины. Снег утоптанный, темный. Где же воронок? Нет, сажают в микроавтобус – чудеса! Внутри, на заднем сиденье, лежит мой мешок в тюремной матрасовке. Окна плотно зашторены, вокруг кагебешники в штатском. Предупреждают: в дороге шторы не трогать, в окно не выглядывать. Спереди, между нами и шофером, тоже шторки плотно задернуты, но снизу не прикреплены, болтаются – значит, на ходу будет трепыхаться, что-нибудь да увижу. Ждут еще какого-то начальника, он садится спереди, с шофером, хлопает дверца, колышутся шторки – тронулись. Развернулись, повернули еще раз, пошли.
Эх, черт, слышали ребята или нет? Должны были слышать – орал я громко. Куда же, однако, меня везут? В Москву? Дойников сказал – в Москву. Но мог и соврать. А куда же меня везти? Почему в микроавтобусе, а не в воронке? Почему не нужны сапоги? А что, очень даже могут. Завезут сейчас в лесок за городом и – при попытке к бегству…
Машина же наша неслась тем временем с сумасшедшей скоростью. Шторки спереди вздрагивали, развевались, и, к удивлению своему, я вдруг заметил впереди нас милицейскую легковую машину с мигающим фонарем на крыше. В ней два офицера милиции. Один, высунув из окна руку с палочкой, разгонял с нашего пути машины. Что за дьявол – может, случайное совпадение? Нет, минут через пять вновь сильно всколыхнулись занавески спереди, и вновь та же машина с тем же фонарем. Покосившись украдкой назад, увидел я равномерное мелькание света на задних шторках – значит, и сзади шла милицейская машина. А мы неслись и неслись вперед на предельной скорости, даже боязно становилось – не перевернуться бы, зима все-таки, скользко. И вновь на повороте взметнулись шторки, и все та же милицейская машина впереди. Сзади же свет мелькает непрестанно. Да, вот это чудеса! Так только члены правительства ездят. Никогда еще меня так не этапировали. Куда же это они меня?
Чекисты же мои переговаривались между собой, на меня взглядывали редко, только двое, что сидели с боков от меня, были настороже. И как ни вглядывался я в их лица да в дорогу впереди сквозь щель в занавесках – ничего не мог почерпнуть нового. Ну что ж, в лесок так в лесок – в Москву так в Москву, что я мог поделать, что предпринять? Ну, стало быть, и думать об этом нечего – что будет, то будет.
Оставалось мне сидеть совсем немного – всего каких-нибудь пять месяцев здесь, в тюрьме, а потом – в Пермскую область, в свой родной 35-й лагерь, примерно на десять месяцев. Это – как праздник, все равно что домой. Уже прикидывал я, кого застану из ребят, а кто освободится к тому времени. Глухо доходили новости от вновь прибывающих – что-то там в зоне делается, какие новые порядки, какое теперь начальство. Потом же, в марте 78-го, предстояло мне еще в ссылку. Эти вот несчастные пять лет ссылки раздражали меня больше всего срока, как ненужный довесок – ни то ни се, ни свобода, ни тюрьма. Да еще смотря куда пошлют, какая там будет работа, какое начальство. А то и хуже лагеря. Известно было, что из пермских лагерей отправляют на ссылку в Томскую область, а там известно что: повал, болота, глухомань, закон – тайга, медведь – хозяин. Из Владимира же шли на ссылку в Коми, и хоть Коми тоже не мед, тоже повал и болота, но как-то ближе к Москве – все-таки Европа.
Поэтому прикидывал я, нельзя ли еще раз исхитриться вернуться из лагеря во Владимир. Надежды было мало, ходили слухи, что по новой инструкции тех, кому осталось меньше года, в тюрьму не посылают. Предписано воспитывать на месте, своими средствами. Оставшиеся же пять тюремных месяцев расписаны были у меня вперед: какую книжку и когда я должен успеть прочесть. В лагере уже не почитаешь – успевай поворачивайся. Да и в ссылке не до того будет. Когда же еще и заниматься, как не в тюрьме – и времени не жалко, все равно уходит даром.
Как ни кинь, выходило, что других университетов, кроме Владимирской тюрьмы, у меня уже не будет. Если даже не намотают мне нового срока, то выйду я из ссылки в 83-м году, и будет мне сорок один год – совсем не возраст для обучения. Да и на воле ничего хорошего меня не ждало. Это только новичок, который первый раз сидит, – тот воли ждет да дни считает. И кажется ему эта воля чем-то светлым, солнечным и недостижимым. Я-то сидел уже четвертый раз и знал, что нет большего разочарования в жизни, чем освобождение из тюрьмы. Знал я также, что больше года мне на этой проклятой воле никогда не удавалось продержаться и никогда не удастся. Потому что причины, которые загнали меня в тюрьму в первый раз, загонят и во второй, и в третий. Они, эти причины, неизменны, как неизменна и сама советская жизнь, как не меняешься и ты сам. Никогда не позволят тебе быть самим собой, а ты никогда не согласишься лгать и лицемерить. Третьего же пути не было.
Потому-то, освобождаясь каждый раз, я думал только об одном – как бы успеть побольше сделать, чтобы потом, уже снова в тюрьме, не мучиться по ночам, перебирая в памяти все упущенные возможности, чтобы не казниться, не терзаться, не стонать от злости на свою нерешительность. Эти вот бессонные терзания были в моей жизни самым мучительным, и оттого короткие промежутки моей свободы никак нельзя было назвать нормальной жизнью. Это была лихорадочная гонка, вечное ожидание ареста, вечные агенты КГБ, дышащие в затылок, и люди, люди, люди, которых не успеваешь даже разглядеть как следует. Если ты встретился с человеком один раз и он тебя не продал, ты уже считаешь его хорошим знакомым, если два – близким другом, три – закадычным приятелем, как будто ты с ним полжизни прожил бок о бок.
А встретив человека в первый раз, неизбежно смотришь на него как на будущего свидетеля по твоему будущему делу. Неизбежно прикидываешь: на каком допросе он расколется – на первом или на втором? На каких его слабостях попытается играть КГБ? Робкий – значит, запугают, самолюбивый – постараются унизить, любит детей – пригрозят забрать детей в интернат. И смотришь ему в глаза вопросительно – выдержит или не выдержит, когда припугнут сумасшедшим домом. Редко кто выдерживает. А потому не отягощай память ближнего излишней информацией, не ставь его перед необходимостью мучиться потом угрызениями совести. Ты прокаженный, ты не имеешь права на человеческую жизнь, каждый, кто коснулся тебя, рискует заразиться, и если ты действительно любишь кого-то – избегай его, сторонись, делай вид, что не узнал, не заметил. Иначе завтра ему на голову обрушится вся мощь государства.
И потому-то, втискивая 25 часов в сутки, растягивая неделю в месяц, ты должен сделать максимум возможного и даже невозможного, потому что завтра ты опять будешь в лефортовской камере и долго потом ничего не сможешь сделать – может быть, никогда. Опять будешь по ночам перебирать в памяти все, что упустил, что мог сделать лучше и сильнее, будешь казнить себя за нерасторопность. Ведь столько десятилетий люди ничего не могли сделать – даже плюнуть в морду тем, кто их убивал. И миллионы их сгинули, мечтая хоть чем-нибудь отплатить за свои мучения. А у тебя – была возможность кричать на весь мир, были друзья, на которых можно положиться, было время – что ты успел сделать? И миллионы мертвых глаз будут обжигать тебе душу укоризненными вопрошающими взглядами.
В Сибири мне рассказывали об одном способе охоты на медведя. Где-нибудь вблизи медвежьей тропы на сосне прячут приманку – обычно мясо с тухлинкой. А на ближайший толстый сук этой сосны привязывают здоровенную тяжелую колоду так, чтобы она заслоняла путь к приманке и притом свободно раскачивалась на канате. Медведь, чуя приманку, лезет на ствол и встречает на пути колоду. По своей медвежьей натуре он даже не пытается эту колоду обойти, а отодвигает ее в сторонку и лезет дальше. Колода, качнувшись в сторону, бьет медведя в бок. Мишка ярится, толкает колоду сильнее, та, естественно, бьет его еще сильнее, медведь – еще сильнее, колода – еще сильнее. Наконец, колода бьет его с такой силой, что оглушает и сшибает с дерева. Примерно такие же отношения сложились у меня с властями: чем больший срок мне давали – тем больше я старался сделать после освобождения, чем больше я делал – тем больший срок получал. Однако и время менялось, и возможности мои увеличивались, и трудно было сказать, кто из нас медведь, кто колода и что из этого всего выйдет. Я, во всяком случае, отступать не собирался.
Выходило таким образом, что не только эти пять месяцев расписаны у меня вперед, но и вся жизнь: десять месяцев в лагере, пять лет в ссылке, потом – в лучшем случае – год лихорадки, называемой свободой, затем еще десять лет тюрьмы и еще пять ссылки. Это уже, кажется, мне будет 57 лет? Ну, еще на один круг мне могло хватить времени, а умирать выходило опять на тюрьму. Оттого-то и не ждал я ее, эту свободу, не считал дней и месяцев. Я сам себе напоминал того джинна из сказок «Тысячи и одной ночи», которого посадили в бутылку, – и первые пять миллионов лет он клялся озолотить того, кто его освободит. А вторые пять миллионов лет – уничтожить того, кто его выпустит. Во всяком случае, чувства этого джинна были мне понятны.
Была, однако, и другая причина, заставлявшая меня расписывать тюремное время вперед и каждую минуту использовать для занятий: сама тюрьма.
Человек, не дисциплинирующий себя, не концентрирующий внимания на каком-либо постоянном занятии, рискует потерять рассудок или уж, во всяком случае, утратить над собой контроль. При полнейшей изоляции, отсутствии дневного света, при монотонности жизни, постоянном голоде и холоде впадает человек в какое-то странное состояние, полудрему-полумечтательность. Часами, а то и целые дни напролет может он глядеть невидящими глазами на фотокарточку жены и детей или листать страницы книги, ничего не понимая и не запоминая, или вдруг заводит с соседом бесконечный, бессмысленный спор на совершенно вздорную тему, как бы застревая на одних и тех же доводах, не слушая собеседника и фактически не опровергая его аргументов. Человек абсолютно не может сосредоточиться на чем-то определенном, уследить за нитью рассказа.
Странное что-то происходит и со временем. С одной стороны, время несется стремительно, поражая этим твое воображение. Весь нехитрый распорядок дня с обычными, монотонно повторяющимися событиями: подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой – сливается в какое-то желто-бурое пятно, не оставляющее никаких воспоминаний, ничего, за что могло бы зацепиться сознание. И вечером, ложась спать, человек, хоть убей, не помнит, что же он весь день делал, что было на завтрак или на обед. Более того, сами дни неразличимы, полностью стираются из памяти, и замечаешь вдруг, будто кто тебя толкнул: батюшки, опять баня! – это значит, семь, а то и десять дней пролетело. Так и живешь с ощущением, будто каждый день у тебя баня. С другой стороны, это же самое время ползет удивительно медленно: казалось, уже год прошел – ан нет, все еще тот же месяц тянется, и конца ему не видно.
Опять же, становится человек страшно раздражительным, если что-то нарушает его монотонную жизнь. Вдруг, например, с нового месяца водят гулять не после завтрака, а после обеда. Какая, казалось бы, разница, однако это доводит до бешенства, почти до исступления. Или поругался с надзирателем, или вызвал на беседу воспитатель, а ты с ним завелся – и вот уже не можешь ни читать, ни спать, ни думать о чем-нибудь другом. Строчки в глазах прыгают, мысли скачут, а тебя аж трясет всего. Ну что, казалось бы, необыкновенного? Этих споров, этих бесед, этой ругани с надзирателями было в твоей жизни столько, что и сосчитать невозможно. Однако несколько дней и ночей ты будешь перебирать в уме, что сказал он, что ты ответил, что мог ты сказать, да не сказал, не сообразил сразу. И как бы ты мог его особенным образом поддеть или обрезать, ответить более ехидно или более убедительно. Словно испорченная пластинка, этот разговор все крутится и крутится в мозгу, и нет сил его остановить. Или вот получишь из дому открытку какую-нибудь цветастую и смотришь, смотришь на нее, как идиот, и так дико видеть разные непривычные цвета, что оторваться не можешь.
Нельзя сказать, чтобы голод был очень мучителен, – это ведь не острый голод, а медленное хроническое недоедание. Поэтому очень скоро перестаешь ощущать его резко, остается нечто монотонно сосущее, наподобие тихой тянущей зубной боли. Даже перестаешь понимать, что это голод, а так, через несколько месяцев, замечаешь вдруг, что стало больно и неловко сидеть на лавке и ночью, как ни ляг, все что-то жмет или давит – уж и матрац несколько раз перетрясешь, и ворочаешься с боку на бок, а все неловко. Только так и ощущаешь, что кости вылезли. Но это тебе как-то даже безразлично. Да еще с койки вставать не надо резко – голова кружится.
Самое же неприятное – это ощущение потери личности, точно проволокли тебя мордой по асфальту и совсем не осталось никаких характерных черт и особенностей. Словно твою душу со всеми ее изгибами, извивами и потайными углами да узорами – прогладили гигантским утюгом, и стала она плоская и ровная, как картонная манишка. Затирает тюрьма. От этого каждый человек норовит как-то выделиться, проявить свою индивидуальность, оказаться выше других или лучше. У блатных в камерах постоянные драки, постоянная борьба за лидерство, убийства даже бывают. У нас, конечно, этого нет, но через четыре-пять месяцев сидения в одной и той же камере с одними и теми же людьми становятся они тебе до омерзения понятны, так же, видимо, как и ты им. В любой момент знаешь, что они сейчас сделают, о чем думают, о чем спросить собираются. А чаще всего в камере и не говорят ни о чем, потому что всё друг о друге знают. И удивляешься, как же мало содержательны мы, люди, если через полгода уже и спросить друг у друга нечего.
Особенно же тяжко, если есть у твоего сокамерника какая-нибудь бессознательная привычка – например, носом шмыгать или ногой постукивать. Уже через пару месяцев совершенно невмоготу становится, убить его готов. Но вот развели вас в разные камеры или попал ты в карцер, и через некоторое время встречаетесь вы, как родные: сразу куча вопросов, рассказов, новостей, воспоминаний – праздник на неделю. Бывает, конечно, и полная психологическая несовместимость, когда люди и двух дней в камере не могут прожить, а жить им предстоит так годами. Вообще же все человечество делится на две части: на людей, с которыми ты мог бы сидеть в одной камере, и на людей, с которыми не смог бы. Но ведь никто твоего согласия не спрашивает. Поэтому необходимо быть предельно терпимым к своим сокамерникам и в то же время подавлять свои привычки и особенности: ко всем нужно приспособиться, со всеми поладить, иначе жизнь станет невыносимой.
Помножьте теперь все эти тяготы на годы и годы, возведите их в квадрат, добавьте сюда все те годы, которые вы просидели до этого, в других лагерях и следственных тюрьмах, и тогда вы поймете, почему нужно занять каждую свою минуту постоянным делом – лучше всего изучением какого-нибудь сложного, запутанного предмета, требующего громадного напряжения внимания. От постоянного электрического света веки начинают чесаться и воспаляются. Десятки раз читаешь одну и ту же фразу, но никак не можешь ее понять. С огромными усилиями одолеваешь страницу, но только ты ее перевернул – уже ни звука не помнишь. Возвращайся назад, читай двадцать, тридцать раз одно и то же, не позволяй себе курить, пока не осилишь главу, не позволяй себе ни о чем думать, мечтать или отвлекаться, не позволяй себе даже сходить в туалет – для тебя нет ничего важнее на свете, чем выполнить то, что наметил на сегодняшний день. А если назавтра ты ничего не помнишь – бери и читай заново. И если ты кончил книгу, можешь позволить себе один выходной день, только один, потому что уже на второй память начинает слабеть, внимание рассредотачивается и ты опять медленно погружаешься, уходишь под воду, точно утопающий, – глубже, глубже, пока не начнет звенеть в ушах, а цветные круги не поплывут перед глазами. И еще неизвестно, вынырнешь ли ты.
Особенно заметно это в карцере, в одиночке: ни книг, ни газет, ни бумаги, ни карандаша. На прогулку не водят, в баню не водят, кормят через день, окна практически нет, лампочка где-то в нише, в стене, у самого потолка, еле-еле потолок освещает. Один выступ в стене – твой стол, другой – стул, больше десяти минут на нем не просидишь. Вместо кровати на ночь выдается голый деревянный щит. Теплой одежды не полагается. В углу параша, а то и просто дырка в полу, из которой целый день прет вонь. Словом, цементный мешок. Да еще курить запрещено. Грязь – вековая. По стенам кровавая харкотина, потому что туберкулезников сюда тоже сажают. Вот тут и начинается твой спуск под воду, на самое дно, в самую тину. Так в тюрьме это и называют – спустить в карцер, поднять из карцера.
Первые дня три еще шаришь по камере, ищешь – может, кто до тебя ухитрился пронести махорки и спрятал остатки, может, окурки где заначил. Все ямки и трещинки облазаешь. Еще существуют для тебя ночь и день. Днем все больше ходишь взад-вперед, а ночью стараешься заснуть. Но холод, голод и однообразие берут свое. Дремать можно лишь минут десять-пятнадцать, затем вскакиваешь и минут сорок бегаешь, чтобы согреться. Потом опять дремлешь минут пятнадцать – или привалясь на щит (ночью), или, подвернув под себя ногу, прямо на полу, спиной упершись в стену (днем), затем опять вскакиваешь и полчаса бегаешь.
Постепенно чувство реальности совершенно утрачивается. Тело деревенеет, движения становятся механическими, и чем дальше, тем больше превращаешься в какой-то неодушевленный предмет. Трижды в день дают кипяток, и этот кипяток доставляет несказанное наслаждение, точно оттаивает все у тебя внутри и временно возвращается жизнь. Все в тебе наполняется сладкой болью – минут на двадцать. Дважды в день перед оправкой дают клочок старой газеты, и уж этот клочок ты прочитываешь от первой до последней буквы, причем несколько раз. Перебираешь в памяти все книжки, какие читал, всех знакомых, все песни, какие слушал. Начинаешь складывать или множить в уме цифры. Обрывки каких-то мелодий, разговоров. Время абсолютно не движется. Ты впадаешь в забытье, то вскакиваешь и бегаешь, то опять дремлешь, но это не разнообразит жизнь. Постепенно пятна грязи на стене начинают сливаться в какие-то лица, точно вся камера украшена портретами сидевших здесь до тебя зэков. Галерея портретов твоих предков.
Можно часами их разглядывать, расспрашивать, спорить, ссориться и мириться. Через некоторое время и они уже не вносят разнообразия. Ты знаешь о них все, точно просидел с ними в одной камере полжизни. Некоторые раздражают тебя, с некоторыми еще можно перекинуться словцом. Есть такие, которых нужно сразу обрезать, иначе они становятся слишком навязчивыми. Они будут нудно и монотонно рассказывать никчемные подробности своей никчемной жизни. Они будут врать и приукрашивать свою жизнь, если заметят, что ты их не слушаешь. Они услужливы и суетливы до омерзения. Другие молчат и угрюмо поглядывают исподлобья – с ними держи ухо востро: только заснешь, они могут и пайку стянуть. Есть и дружелюбные, общительные ребята, обычно помоложе, с которыми и пошутить можно. Они покладисты, никогда не унывают и за компанию готовы удавиться. Такие обычно сидят за хулиганство, групповое изнасилование или групповой грабеж. В углу, над парашей, живет старый вор-законник. Он сразу же начинает интриговать, настраивать разные группки друг против друга и всех их против тебя. Шушукается с ними по углам, обменивается какими-то многозначительными взглядами. Важно и авторитетно, ни к кому конкретно не обращаясь, он травит бывальщину: рассказывает о пересылках, о лагерях, об убийствах. Он явно провоцирует конфликт в камере, хочет установить свой порядок. Он знает, кому что положено, а кому не положено. С ним не избежать серьезной стычки, и лучше это делать сразу, пока он не сколотил своей группировки, пока его авторитет не утвердился. Но и это все тонет, стирается и оставляет тебя один на один с вечностью, с небытием.
И возвращается ветер…
Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире.
Начинался обычный тюремный день, очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В шесть часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь: «Падъ-ем! Падъ-ем! Падъ-ем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. Провались ты со своим подъемом!
Заорал репродуктор. Раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл Гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва! Доброе утро, товарищи! Утреннюю гимнастику начинаем с ходьбы на месте». Черт, поскорее выключить! Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте.
Зимнее смурное утро и на воле-то приходит, точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, и этот день впереди – как проклятье. Недаром поется в старой арестантской песне:
Проснешься утром, город еще спит.
Не спит тюрьма – она давно проснулась.
А сердце бедное так заболит,
Как будто к сердцу пламя прикоснулось.
По заснеженному двору от кухни прогрохотал «тюрьмоход» – тележка с бачками, повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча об пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша, хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый, старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся – недодали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались – завтрак, с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору в другой конец. Кто теперь проверит, кто докажет, дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта.
Обычно по утрам, после завтрака, повторял я английские слова, выписанные накануне. Два раза в день повторял – утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом, уже днем, брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка: «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого-то нам и не хватало, начался проклятый денечек. Собирайся, да тащись, да устраивайся на новом месте – пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут, вечная таинственность.
– Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду? – Это уже наша разведка. Если матрацы брать – значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать – значит, на другой, а куда? Если матрасовки брать – значит, на первый или на третий: на втором свои дают, и посуду тоже.
– Все забирайте с собой, – говорит неопределенно начальник, туману напускает. Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять, на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем, поволокут на строгий режим, на пониженную норму. А может, просто шмон? Это вот не дай Бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона, всякие запрещенные вещицы – ножичек, несколько лезвий, шильце самодельное. Все сейчас заметут.
И заметались все! У каждого же своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть – может, не найдут. В сапог тоже можно – да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги – пожалуйста. Батюшки, сапоги! Я же их в ремонт сдал.
– Начальник! Звони насчет сапогов – в ремонте у меня сапоги. Без сапогов не пойду, начальник!
Я этого ремонта два месяца добивался, жалобы писал, требовал, бился, только взяли – и на тебе! Вернуть бы живыми, не до ремонта теперь, все к черту полетело. Хорошо, хоть позавтракать успели – к обеду, может, будем уже на новом месте. Куда ж это, однако, нас гонят?
Барахла у меня скопилось жуть, полная матрасовка. Казалось бы, какие вещи могут быть у человека в тюрьме? А и не заметишь, как оброс багажом. Освобождались понемногу ребята, уезжали назад в лагеря и бесценные свои богатства норовили оставить здесь, в наследство остающимся. Грешно увозить из тюрьмы то, что с таким трудом удалось протащить через шмоны. Каждая лишняя вещь – ценность. Вот три иностранных лезвия – за каждое из них можно договориться с баландером, и он будет неделю подогревать наших в карцере – три недели жизни для кого-то, может, и для меня. Тетради общие – тоже ценность, поди их достань. Три шариковые ручки, стержни для ручек, главное же – книги, не дай Бог шмон! Все это богатство скопилось у меня в опасном количестве, и никак я не мог исхитриться передать его кому-нибудь, кто остается дольше меня в тюрьме. Не попадал я с ними в одну камеру – не везло.
Но в общем-то похоже было, что просто переводят нас всех в другую камеру, а потому забрали мы и мыло, и тряпки свои, и веревочки всякие – на новом месте все очень пригодится, особенно если в камере раньше сидели уголовники. После них как после погрома: камера грязная, все побито и поломано, дня два чинить и чистить, мыть да скрести – и ни тряпок, ни мыла у них обычно не водится, поэтому даже половую тряпку забрали мы с собой.
Тьфу, ну, кажется, собрались. «Готовы?» – кричит начальник из-за двери. – Готовы!
Дверь открылась, и корпусной вдруг, указав на меня пальцем, сказал коротко: «Пошли со мной». Мать честная, куда же это? Не иначе как в карцер. И, цепляясь в уме за всякие возможности и варианты, спросил я только: «Матрац брать?» – «Бросьте в коридоре». Так и есть, карцер. За что ж это? Ничего же не делал. Голодовку объявлю!
Спускаемся вниз, на первый этаж, поворачиваем не к выходной двери, а в коридор – так и есть, карцер! Нет, прошли мимо, идем по коридору. Значит, шмон, к шмоналке идем. Ну, холера, сейчас все отберут. Как бы им голову заморочить? Говорю первое попавшееся: «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» – «Послали уже». Послали? Зачем же послали за сапогами, если только шмон? Может, этап?
Заходим в комнату для шмонов. Там уже шмонная бригада Петухова – ждут, как шакалы, сейчас все отметут. «Так, – говорят, – мешок положите здесь, а сами раздевайтесь». Раздели, как водится; ощупали каждую вещь по швам, в телогрейке одно лезвие было спрятано – не заметили, слава Богу, неделя жизни кому-то. «Одевайтесь». Выводят в коридор, запирают в этапку. Черт, значит, этап! Как же я потащусь со своим барахлом по этапу? Я и сам-то еле двигаюсь. И пропадет теперь все – на каждой пересылке шмон. Как обухом по голове. Куда бы это? Эх я, дурак, тряпку половую взял и мыло. Сапоги! Заиграют сапоги, потом ищи. «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» – «Послали уже».
Надо хоть ребятам дать знать, но как? Этапка самая крайняя, надо мной никого, унитаза нет, кружки у меня нет, тьфу! Написал карандашиком на стене по-английски: «Этапирован неизвестно куда», фамилию и число. Но это мало – когда еще заметят? Надо бы крикнуть как-то. Может, в баню поведут перед этапом? Но вот уже открывается дверь – так скоро? А баня? Нет, идем к выходу. Поворачиваем за угол, идем к вахте. Ну, только здесь и крикнуть. Пятнадцатая камера как раз надо мной. Изо всех сил заорал я вдруг, аж Киселев отпрыгнул от меня со страху.
– Пятнааадцатая, Егооор, меня на этап увозят! На этап забрали! Пятнааадцатая! – Тут они опомнились и втолкнули меня в двери вахты: «Тише, что орешь? В карцер захотел?» Какой карцер… Ври, начальник, не завирайся, где ты меня на этапе в карцер посадишь?
В большой комнате на вахте – не то в красном уголке, не то в раздевалке для надзирателей – посадили на стул. «Сидите!» Тут появился наш воспитатель, капитан Дойников, какой-то сам не свой, торжественно-грустный. Я к нему: «Гражданин начальник, куда?» – тихо так, чтоб никто не слыхал. Мнется, глаза отводит: «Не знаю, нет, право, не знаю. На этап». – «Да бросьте вы все темнить, тайны разводить – куда?» – «Честно, не знаю, не мое дело. Сказали, на этап – в Москву, наверно». Знает все, бес, по лицу видно. «А вещи мои?» – «Уже в машине». Неслыханно! Кто же это за меня вещи таскает, неужто конвой? Да, сапоги. «Скажите, чтобы сапоги принесли, сапоги у меня в ремонте». – «Принесут». – «Да как принесут? Уже на вахте, сейчас ехать!»
А он так тихо вдруг говорит: «Не нужны вам больше сапоги». Что бы это значило? Как так может быть, чтоб сапоги не нужны были? И я ему тихо: «Откуда же вы знаете, что сапоги не нужны, если не знаете, куда еду?» Смутился.
Не надо было этого говорить, и так понятно, что творится нечто необычное: этапы никогда с вахты не отправляют, а прямо внутрь воронок заходит, там и грузят. И вещи сами снесли, и сапоги не нужны, на волю, что ли, освобождать, что ли, будут? А может – наоборот? Тогда тоже сапоги не нужны.
– Ну что ж, прощайте, не поминайте лихом, – говорит капитан. Ведут прямо к выходу на волю, открывают дверь. Оглядеться не дают – вокруг люди в штатском. А, КГБ! Понятно – не на волю, значит. «Сюда, пожалуйста, в машину». Прямо у ворот стоят микроавтобус и какие-то легковые машины. Снег утоптанный, темный. Где же воронок? Нет, сажают в микроавтобус – чудеса! Внутри, на заднем сиденье, лежит мой мешок в тюремной матрасовке. Окна плотно зашторены, вокруг кагебешники в штатском. Предупреждают: в дороге шторы не трогать, в окно не выглядывать. Спереди, между нами и шофером, тоже шторки плотно задернуты, но снизу не прикреплены, болтаются – значит, на ходу будет трепыхаться, что-нибудь да увижу. Ждут еще какого-то начальника, он садится спереди, с шофером, хлопает дверца, колышутся шторки – тронулись. Развернулись, повернули еще раз, пошли.
Эх, черт, слышали ребята или нет? Должны были слышать – орал я громко. Куда же, однако, меня везут? В Москву? Дойников сказал – в Москву. Но мог и соврать. А куда же меня везти? Почему в микроавтобусе, а не в воронке? Почему не нужны сапоги? А что, очень даже могут. Завезут сейчас в лесок за городом и – при попытке к бегству…
Машина же наша неслась тем временем с сумасшедшей скоростью. Шторки спереди вздрагивали, развевались, и, к удивлению своему, я вдруг заметил впереди нас милицейскую легковую машину с мигающим фонарем на крыше. В ней два офицера милиции. Один, высунув из окна руку с палочкой, разгонял с нашего пути машины. Что за дьявол – может, случайное совпадение? Нет, минут через пять вновь сильно всколыхнулись занавески спереди, и вновь та же машина с тем же фонарем. Покосившись украдкой назад, увидел я равномерное мелькание света на задних шторках – значит, и сзади шла милицейская машина. А мы неслись и неслись вперед на предельной скорости, даже боязно становилось – не перевернуться бы, зима все-таки, скользко. И вновь на повороте взметнулись шторки, и все та же милицейская машина впереди. Сзади же свет мелькает непрестанно. Да, вот это чудеса! Так только члены правительства ездят. Никогда еще меня так не этапировали. Куда же это они меня?
Чекисты же мои переговаривались между собой, на меня взглядывали редко, только двое, что сидели с боков от меня, были настороже. И как ни вглядывался я в их лица да в дорогу впереди сквозь щель в занавесках – ничего не мог почерпнуть нового. Ну что ж, в лесок так в лесок – в Москву так в Москву, что я мог поделать, что предпринять? Ну, стало быть, и думать об этом нечего – что будет, то будет.
Оставалось мне сидеть совсем немного – всего каких-нибудь пять месяцев здесь, в тюрьме, а потом – в Пермскую область, в свой родной 35-й лагерь, примерно на десять месяцев. Это – как праздник, все равно что домой. Уже прикидывал я, кого застану из ребят, а кто освободится к тому времени. Глухо доходили новости от вновь прибывающих – что-то там в зоне делается, какие новые порядки, какое теперь начальство. Потом же, в марте 78-го, предстояло мне еще в ссылку. Эти вот несчастные пять лет ссылки раздражали меня больше всего срока, как ненужный довесок – ни то ни се, ни свобода, ни тюрьма. Да еще смотря куда пошлют, какая там будет работа, какое начальство. А то и хуже лагеря. Известно было, что из пермских лагерей отправляют на ссылку в Томскую область, а там известно что: повал, болота, глухомань, закон – тайга, медведь – хозяин. Из Владимира же шли на ссылку в Коми, и хоть Коми тоже не мед, тоже повал и болота, но как-то ближе к Москве – все-таки Европа.
Поэтому прикидывал я, нельзя ли еще раз исхитриться вернуться из лагеря во Владимир. Надежды было мало, ходили слухи, что по новой инструкции тех, кому осталось меньше года, в тюрьму не посылают. Предписано воспитывать на месте, своими средствами. Оставшиеся же пять тюремных месяцев расписаны были у меня вперед: какую книжку и когда я должен успеть прочесть. В лагере уже не почитаешь – успевай поворачивайся. Да и в ссылке не до того будет. Когда же еще и заниматься, как не в тюрьме – и времени не жалко, все равно уходит даром.
Как ни кинь, выходило, что других университетов, кроме Владимирской тюрьмы, у меня уже не будет. Если даже не намотают мне нового срока, то выйду я из ссылки в 83-м году, и будет мне сорок один год – совсем не возраст для обучения. Да и на воле ничего хорошего меня не ждало. Это только новичок, который первый раз сидит, – тот воли ждет да дни считает. И кажется ему эта воля чем-то светлым, солнечным и недостижимым. Я-то сидел уже четвертый раз и знал, что нет большего разочарования в жизни, чем освобождение из тюрьмы. Знал я также, что больше года мне на этой проклятой воле никогда не удавалось продержаться и никогда не удастся. Потому что причины, которые загнали меня в тюрьму в первый раз, загонят и во второй, и в третий. Они, эти причины, неизменны, как неизменна и сама советская жизнь, как не меняешься и ты сам. Никогда не позволят тебе быть самим собой, а ты никогда не согласишься лгать и лицемерить. Третьего же пути не было.
Потому-то, освобождаясь каждый раз, я думал только об одном – как бы успеть побольше сделать, чтобы потом, уже снова в тюрьме, не мучиться по ночам, перебирая в памяти все упущенные возможности, чтобы не казниться, не терзаться, не стонать от злости на свою нерешительность. Эти вот бессонные терзания были в моей жизни самым мучительным, и оттого короткие промежутки моей свободы никак нельзя было назвать нормальной жизнью. Это была лихорадочная гонка, вечное ожидание ареста, вечные агенты КГБ, дышащие в затылок, и люди, люди, люди, которых не успеваешь даже разглядеть как следует. Если ты встретился с человеком один раз и он тебя не продал, ты уже считаешь его хорошим знакомым, если два – близким другом, три – закадычным приятелем, как будто ты с ним полжизни прожил бок о бок.
А встретив человека в первый раз, неизбежно смотришь на него как на будущего свидетеля по твоему будущему делу. Неизбежно прикидываешь: на каком допросе он расколется – на первом или на втором? На каких его слабостях попытается играть КГБ? Робкий – значит, запугают, самолюбивый – постараются унизить, любит детей – пригрозят забрать детей в интернат. И смотришь ему в глаза вопросительно – выдержит или не выдержит, когда припугнут сумасшедшим домом. Редко кто выдерживает. А потому не отягощай память ближнего излишней информацией, не ставь его перед необходимостью мучиться потом угрызениями совести. Ты прокаженный, ты не имеешь права на человеческую жизнь, каждый, кто коснулся тебя, рискует заразиться, и если ты действительно любишь кого-то – избегай его, сторонись, делай вид, что не узнал, не заметил. Иначе завтра ему на голову обрушится вся мощь государства.
И потому-то, втискивая 25 часов в сутки, растягивая неделю в месяц, ты должен сделать максимум возможного и даже невозможного, потому что завтра ты опять будешь в лефортовской камере и долго потом ничего не сможешь сделать – может быть, никогда. Опять будешь по ночам перебирать в памяти все, что упустил, что мог сделать лучше и сильнее, будешь казнить себя за нерасторопность. Ведь столько десятилетий люди ничего не могли сделать – даже плюнуть в морду тем, кто их убивал. И миллионы их сгинули, мечтая хоть чем-нибудь отплатить за свои мучения. А у тебя – была возможность кричать на весь мир, были друзья, на которых можно положиться, было время – что ты успел сделать? И миллионы мертвых глаз будут обжигать тебе душу укоризненными вопрошающими взглядами.
В Сибири мне рассказывали об одном способе охоты на медведя. Где-нибудь вблизи медвежьей тропы на сосне прячут приманку – обычно мясо с тухлинкой. А на ближайший толстый сук этой сосны привязывают здоровенную тяжелую колоду так, чтобы она заслоняла путь к приманке и притом свободно раскачивалась на канате. Медведь, чуя приманку, лезет на ствол и встречает на пути колоду. По своей медвежьей натуре он даже не пытается эту колоду обойти, а отодвигает ее в сторонку и лезет дальше. Колода, качнувшись в сторону, бьет медведя в бок. Мишка ярится, толкает колоду сильнее, та, естественно, бьет его еще сильнее, медведь – еще сильнее, колода – еще сильнее. Наконец, колода бьет его с такой силой, что оглушает и сшибает с дерева. Примерно такие же отношения сложились у меня с властями: чем больший срок мне давали – тем больше я старался сделать после освобождения, чем больше я делал – тем больший срок получал. Однако и время менялось, и возможности мои увеличивались, и трудно было сказать, кто из нас медведь, кто колода и что из этого всего выйдет. Я, во всяком случае, отступать не собирался.
Выходило таким образом, что не только эти пять месяцев расписаны у меня вперед, но и вся жизнь: десять месяцев в лагере, пять лет в ссылке, потом – в лучшем случае – год лихорадки, называемой свободой, затем еще десять лет тюрьмы и еще пять ссылки. Это уже, кажется, мне будет 57 лет? Ну, еще на один круг мне могло хватить времени, а умирать выходило опять на тюрьму. Оттого-то и не ждал я ее, эту свободу, не считал дней и месяцев. Я сам себе напоминал того джинна из сказок «Тысячи и одной ночи», которого посадили в бутылку, – и первые пять миллионов лет он клялся озолотить того, кто его освободит. А вторые пять миллионов лет – уничтожить того, кто его выпустит. Во всяком случае, чувства этого джинна были мне понятны.
Была, однако, и другая причина, заставлявшая меня расписывать тюремное время вперед и каждую минуту использовать для занятий: сама тюрьма.
Человек, не дисциплинирующий себя, не концентрирующий внимания на каком-либо постоянном занятии, рискует потерять рассудок или уж, во всяком случае, утратить над собой контроль. При полнейшей изоляции, отсутствии дневного света, при монотонности жизни, постоянном голоде и холоде впадает человек в какое-то странное состояние, полудрему-полумечтательность. Часами, а то и целые дни напролет может он глядеть невидящими глазами на фотокарточку жены и детей или листать страницы книги, ничего не понимая и не запоминая, или вдруг заводит с соседом бесконечный, бессмысленный спор на совершенно вздорную тему, как бы застревая на одних и тех же доводах, не слушая собеседника и фактически не опровергая его аргументов. Человек абсолютно не может сосредоточиться на чем-то определенном, уследить за нитью рассказа.
Странное что-то происходит и со временем. С одной стороны, время несется стремительно, поражая этим твое воображение. Весь нехитрый распорядок дня с обычными, монотонно повторяющимися событиями: подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой – сливается в какое-то желто-бурое пятно, не оставляющее никаких воспоминаний, ничего, за что могло бы зацепиться сознание. И вечером, ложась спать, человек, хоть убей, не помнит, что же он весь день делал, что было на завтрак или на обед. Более того, сами дни неразличимы, полностью стираются из памяти, и замечаешь вдруг, будто кто тебя толкнул: батюшки, опять баня! – это значит, семь, а то и десять дней пролетело. Так и живешь с ощущением, будто каждый день у тебя баня. С другой стороны, это же самое время ползет удивительно медленно: казалось, уже год прошел – ан нет, все еще тот же месяц тянется, и конца ему не видно.
Опять же, становится человек страшно раздражительным, если что-то нарушает его монотонную жизнь. Вдруг, например, с нового месяца водят гулять не после завтрака, а после обеда. Какая, казалось бы, разница, однако это доводит до бешенства, почти до исступления. Или поругался с надзирателем, или вызвал на беседу воспитатель, а ты с ним завелся – и вот уже не можешь ни читать, ни спать, ни думать о чем-нибудь другом. Строчки в глазах прыгают, мысли скачут, а тебя аж трясет всего. Ну что, казалось бы, необыкновенного? Этих споров, этих бесед, этой ругани с надзирателями было в твоей жизни столько, что и сосчитать невозможно. Однако несколько дней и ночей ты будешь перебирать в уме, что сказал он, что ты ответил, что мог ты сказать, да не сказал, не сообразил сразу. И как бы ты мог его особенным образом поддеть или обрезать, ответить более ехидно или более убедительно. Словно испорченная пластинка, этот разговор все крутится и крутится в мозгу, и нет сил его остановить. Или вот получишь из дому открытку какую-нибудь цветастую и смотришь, смотришь на нее, как идиот, и так дико видеть разные непривычные цвета, что оторваться не можешь.
Нельзя сказать, чтобы голод был очень мучителен, – это ведь не острый голод, а медленное хроническое недоедание. Поэтому очень скоро перестаешь ощущать его резко, остается нечто монотонно сосущее, наподобие тихой тянущей зубной боли. Даже перестаешь понимать, что это голод, а так, через несколько месяцев, замечаешь вдруг, что стало больно и неловко сидеть на лавке и ночью, как ни ляг, все что-то жмет или давит – уж и матрац несколько раз перетрясешь, и ворочаешься с боку на бок, а все неловко. Только так и ощущаешь, что кости вылезли. Но это тебе как-то даже безразлично. Да еще с койки вставать не надо резко – голова кружится.
Самое же неприятное – это ощущение потери личности, точно проволокли тебя мордой по асфальту и совсем не осталось никаких характерных черт и особенностей. Словно твою душу со всеми ее изгибами, извивами и потайными углами да узорами – прогладили гигантским утюгом, и стала она плоская и ровная, как картонная манишка. Затирает тюрьма. От этого каждый человек норовит как-то выделиться, проявить свою индивидуальность, оказаться выше других или лучше. У блатных в камерах постоянные драки, постоянная борьба за лидерство, убийства даже бывают. У нас, конечно, этого нет, но через четыре-пять месяцев сидения в одной и той же камере с одними и теми же людьми становятся они тебе до омерзения понятны, так же, видимо, как и ты им. В любой момент знаешь, что они сейчас сделают, о чем думают, о чем спросить собираются. А чаще всего в камере и не говорят ни о чем, потому что всё друг о друге знают. И удивляешься, как же мало содержательны мы, люди, если через полгода уже и спросить друг у друга нечего.
Особенно же тяжко, если есть у твоего сокамерника какая-нибудь бессознательная привычка – например, носом шмыгать или ногой постукивать. Уже через пару месяцев совершенно невмоготу становится, убить его готов. Но вот развели вас в разные камеры или попал ты в карцер, и через некоторое время встречаетесь вы, как родные: сразу куча вопросов, рассказов, новостей, воспоминаний – праздник на неделю. Бывает, конечно, и полная психологическая несовместимость, когда люди и двух дней в камере не могут прожить, а жить им предстоит так годами. Вообще же все человечество делится на две части: на людей, с которыми ты мог бы сидеть в одной камере, и на людей, с которыми не смог бы. Но ведь никто твоего согласия не спрашивает. Поэтому необходимо быть предельно терпимым к своим сокамерникам и в то же время подавлять свои привычки и особенности: ко всем нужно приспособиться, со всеми поладить, иначе жизнь станет невыносимой.
Помножьте теперь все эти тяготы на годы и годы, возведите их в квадрат, добавьте сюда все те годы, которые вы просидели до этого, в других лагерях и следственных тюрьмах, и тогда вы поймете, почему нужно занять каждую свою минуту постоянным делом – лучше всего изучением какого-нибудь сложного, запутанного предмета, требующего громадного напряжения внимания. От постоянного электрического света веки начинают чесаться и воспаляются. Десятки раз читаешь одну и ту же фразу, но никак не можешь ее понять. С огромными усилиями одолеваешь страницу, но только ты ее перевернул – уже ни звука не помнишь. Возвращайся назад, читай двадцать, тридцать раз одно и то же, не позволяй себе курить, пока не осилишь главу, не позволяй себе ни о чем думать, мечтать или отвлекаться, не позволяй себе даже сходить в туалет – для тебя нет ничего важнее на свете, чем выполнить то, что наметил на сегодняшний день. А если назавтра ты ничего не помнишь – бери и читай заново. И если ты кончил книгу, можешь позволить себе один выходной день, только один, потому что уже на второй память начинает слабеть, внимание рассредотачивается и ты опять медленно погружаешься, уходишь под воду, точно утопающий, – глубже, глубже, пока не начнет звенеть в ушах, а цветные круги не поплывут перед глазами. И еще неизвестно, вынырнешь ли ты.
Особенно заметно это в карцере, в одиночке: ни книг, ни газет, ни бумаги, ни карандаша. На прогулку не водят, в баню не водят, кормят через день, окна практически нет, лампочка где-то в нише, в стене, у самого потолка, еле-еле потолок освещает. Один выступ в стене – твой стол, другой – стул, больше десяти минут на нем не просидишь. Вместо кровати на ночь выдается голый деревянный щит. Теплой одежды не полагается. В углу параша, а то и просто дырка в полу, из которой целый день прет вонь. Словом, цементный мешок. Да еще курить запрещено. Грязь – вековая. По стенам кровавая харкотина, потому что туберкулезников сюда тоже сажают. Вот тут и начинается твой спуск под воду, на самое дно, в самую тину. Так в тюрьме это и называют – спустить в карцер, поднять из карцера.
Первые дня три еще шаришь по камере, ищешь – может, кто до тебя ухитрился пронести махорки и спрятал остатки, может, окурки где заначил. Все ямки и трещинки облазаешь. Еще существуют для тебя ночь и день. Днем все больше ходишь взад-вперед, а ночью стараешься заснуть. Но холод, голод и однообразие берут свое. Дремать можно лишь минут десять-пятнадцать, затем вскакиваешь и минут сорок бегаешь, чтобы согреться. Потом опять дремлешь минут пятнадцать – или привалясь на щит (ночью), или, подвернув под себя ногу, прямо на полу, спиной упершись в стену (днем), затем опять вскакиваешь и полчаса бегаешь.
Постепенно чувство реальности совершенно утрачивается. Тело деревенеет, движения становятся механическими, и чем дальше, тем больше превращаешься в какой-то неодушевленный предмет. Трижды в день дают кипяток, и этот кипяток доставляет несказанное наслаждение, точно оттаивает все у тебя внутри и временно возвращается жизнь. Все в тебе наполняется сладкой болью – минут на двадцать. Дважды в день перед оправкой дают клочок старой газеты, и уж этот клочок ты прочитываешь от первой до последней буквы, причем несколько раз. Перебираешь в памяти все книжки, какие читал, всех знакомых, все песни, какие слушал. Начинаешь складывать или множить в уме цифры. Обрывки каких-то мелодий, разговоров. Время абсолютно не движется. Ты впадаешь в забытье, то вскакиваешь и бегаешь, то опять дремлешь, но это не разнообразит жизнь. Постепенно пятна грязи на стене начинают сливаться в какие-то лица, точно вся камера украшена портретами сидевших здесь до тебя зэков. Галерея портретов твоих предков.
Можно часами их разглядывать, расспрашивать, спорить, ссориться и мириться. Через некоторое время и они уже не вносят разнообразия. Ты знаешь о них все, точно просидел с ними в одной камере полжизни. Некоторые раздражают тебя, с некоторыми еще можно перекинуться словцом. Есть такие, которых нужно сразу обрезать, иначе они становятся слишком навязчивыми. Они будут нудно и монотонно рассказывать никчемные подробности своей никчемной жизни. Они будут врать и приукрашивать свою жизнь, если заметят, что ты их не слушаешь. Они услужливы и суетливы до омерзения. Другие молчат и угрюмо поглядывают исподлобья – с ними держи ухо востро: только заснешь, они могут и пайку стянуть. Есть и дружелюбные, общительные ребята, обычно помоложе, с которыми и пошутить можно. Они покладисты, никогда не унывают и за компанию готовы удавиться. Такие обычно сидят за хулиганство, групповое изнасилование или групповой грабеж. В углу, над парашей, живет старый вор-законник. Он сразу же начинает интриговать, настраивать разные группки друг против друга и всех их против тебя. Шушукается с ними по углам, обменивается какими-то многозначительными взглядами. Важно и авторитетно, ни к кому конкретно не обращаясь, он травит бывальщину: рассказывает о пересылках, о лагерях, об убийствах. Он явно провоцирует конфликт в камере, хочет установить свой порядок. Он знает, кому что положено, а кому не положено. С ним не избежать серьезной стычки, и лучше это делать сразу, пока он не сколотил своей группировки, пока его авторитет не утвердился. Но и это все тонет, стирается и оставляет тебя один на один с вечностью, с небытием.