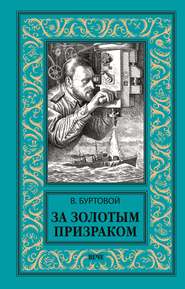По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Демидовский бунт
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Федор упорно молчал. «Отпереться, непременно отпереться… Изломает мужиков по одному треклятый в этой пытошной».
– Будешь дальше упрямиться, не скажешь про Чуприна и иных смутьянов – живым сожгу на углях и кости ссыплю в домницу! Вот и весь тебе мой сказ! За каким чертом Чуприн ездил к оболенским?
Федор отрешенно молчал…
Домой Прокофий Оборот приехал в тот вечер затемно и мертвецки пьяным. Подручные, тоже в изрядном подпитии, перепачканные землей, волоком втащили и небрежно бросили приказчика на прибранную кровать с кружевным покрывалом на пуховых подушках.
Напуганная жена – прежде такого за мужем не водилось – всплеснула ладошками, выгнала прочь из дому любопытную приживалку-странницу, чтобы не разнесла лишнего по соседям, и принялась сама стаскивать с Прокофия сапоги, испачканные влажной глиной.
– Ты это, моя бранчливая Прасковеюшка? – прохрипел Прокофий, силясь поднять голову. – Ну-ну, не ломай брови… А мы под корень того аспида, хе-хе, и концы замочить, бесследно чтоб было…
Просковья живо хлопнула мужа по губам и боязливо оглянулась – плотно ли закрыта дверь из спальни в людскую горницу?
Глава 4. Сход принимает решение
Холодными туманами изошло мокрое Благовещенье. Словно змея, сменившая кожу, обновилась и ожила Ока, сбросив унавоженный и затоптанный ледяной сарафан. Набухали мутною талою водой овраги и суходолы, близ жилья первые скворцы сменили ушедших в отлет красногрудых снегирей.
Истекли давно сроки, по которым ромодановцам следовало прибыть на работу к Дугненскому заводу, а села и деревни даже и не поднимались в отъезд. Месили холодную дорожную жижу между селами торопливые ходоки; остерегаясь демидовских доглядчиков, собирались вечерами в чуть освещенных избах выборные, и вновь до хрипоты спорили, быть им или не быть за Демидовым.
Порешили – на Фомино воскресенье недели Святой Пасхи собрать в Ромоданове общеволостной сход, там определить свою участь.
Капитон упросил Андрея Бурлакова оповестить нижележащие по Оке села, чтоб если отыщется тело утопленницы Акулины, то дали бы знать в Ромоданово.
Бурлаков обещал, а Капитон подстерег Прокофия Оборота около демидовской усадьбы и спросил, куда увез он сына Федора?
Оборот вперил в растерянного мужика тяжелый враждебный взгляд – под глазами все еще сине-фиолетовые круги, – процедил сквозь стиснутые зубы:
– В конторе воеводской узнавай, куда свезли твоего разбойного сына. А явишься еще раз мне пред очи – велю высечь на конюшне. Пошел прочь, разинский выродок! – На скулах желваки ходуном заходили, так что зашевелились бакенбарды.
Капитон убрался от греха подальше и теперь потратил последние копейки на паром, чтобы переехать в Калугу. Придерживаясь за шаткие плетни и заборы, брел по раскисшим от частых дождей улицам города, робко постучал костяшками пальцев в серые дощатые ворота Калужской провинциальной канцелярии. Привратник, отставной безрукий солдат, привычно спрятал в левый карман две медные копейки, пропустил Капитона во внутренний двор. Тщательно вытерев лапти о зашмыганную солому перед крыльцом, Капитон долго топтался, дожидаясь своей очереди в приемной, а потом наконец-то предстал перед тонконогим и худющим канцеляристом Пафнутьевым. Здесь же, будто барин у себя в хоромах, вальяжно развалился в плетеном кресле близ запотевшего окна приказчик Оборот.
Пафнутьев надел на нос круглые стекла, повертел протянутое Капитоном прошение, швырнул на стол – там таких измятых в карманах бумажек целый ворох.
– Твой бунтарского духа сын Федор повязан веревками, бит плетьми и препровожден под караулом в контору Правительствующего сената. Там с него снимут надлежащий допрос – как посмел руку поднять на должностное лицо, – при этих словах уважительный жест в сторону приказчика Оборота. – А тако же спрос поимеют с него, кто тому бунтарству подстрекатель. Ты же, старик, боле мне не докучай никчемными прошениями, иначе быть и тебе повязану. Ступай! В бирюльки играть недосуг мне.
Капитон неловко переступил набухшими от сырости лаптями, посунулся было спиной к двери, да Пафнутьев вдруг остановил его властным жестом руки: так ловчий ставит в стойку охотничью собаку:
– Назовешь мужицких заводил бунта – повелю спешным курьером возвратить Федора домой. И никакого спроса под батогами ему не будет в Сенате. Скажи, кто затевает смуту и непокорство Никите Никитычу Демидову? Что умыслили мужицкие атаманы?
Жалобно скрипнуло плетеное кресло – это Прокофий Оборот резко поднялся на ноги. Широкие ноздри приплюснутого носа раздулись.
– Может, на Дон толпой бежать порешили? Или еще куда? Что молчишь, старый аспид? Говори! – и замахнулся, грозя вернуть старику сыновий удар, но канцелярист остановил его испуганным возгласом: в присутственном месте ведь, не в пыточной камере!
У Капитона волосы взмокли от неожиданного оборота дел – о замысле выборных он ничего не знал: носятся по селу слухи, словно тополиный пух в пору цветения, ждут мужики каких-то событий. Но каких? Занятый своими заботами, Капитон на мужицкие пересуды не обращал внимания.
– Поди прочь с глаз! – резко выкрикнул Пафнутьев. – Нет у тебя желания спасти от каторги и вырывания ноздрей родного сына! Если прознаешь что о смутьянах, тогда и приходи вызволять Федора. – Канцелярист сдернул пенсне с носа, отвернулся к мутному окну, где низ стекол бы покрыт толстым сырым льдом.
Недобрая усмешка скользнула по искривленным злобой губам Оборота, когда Капитон, откланиваясь, пятился к двери.
«Жив мой Федюша, ну и слава богу. А про каторгу зазря он брякнул – стращает. Отбузуют для вразумления плетью, чтоб вдругорядь уважение имел к хозяйским слугам… Мужику не привыкать к порке. Конь и тот попервой взбрыкивает, не хочет влезать в оглобли, а потом ниш-то, ходит как миленький, тянет свой воз, пока ноги держат».
Вышел на крыльцо под голубое, в редких облаках небо, натянул на голову мурмолку, поделился с бородатым привратником:
– Жив мой сын Федор. Только и беды за ним – ударил Прокофия Данилыча. В сердцах он был о ту пору, не от злого умысла. Сказали, что в Сенат под караулом повезли. Далеко-то как…
– Иди себе, – безучастным голосом проворчал отставной солдат: всем не насочувствуешь, сюда не с радостью народ валом валит, ворота порасхлябили, правды доискиваясь. Отвернулся: резкий порыв ветра трепанул пустой рукав долгополого кафтана.
Капитон откланялся сгорбленной спине привратника:
– Прощевай, родимый, – и вдоль заборов, где не так истоптана земля, побрел вниз, к переправе через Оку.
Перекликались над городом стаи диких гусей, беззлобным лаем провожали Капитона собаки. Издали доносился колокольный звон Лаврентьева монастыря, который стоял пообок с домом воеводы Федора Шагарова, на берегу речки Ячейки.
По скользкой круче Капитон осторожно сошел к перевозу, остановился у древнего вяза, за который был закреплен канат до ромодановского берега.
Рядом облокотился на палку односелец Парамон, работный с Выровского завода. Забрызганный грязью почти до опояски, с желтым болезненным лицом, Парамон завидел Капитона, и будто его кишечные колики схватили, покривил изморщиненным лицом. Потом выпрямил спину, стащил с лысой желтокожей головы мурмолку и тут же отыскал взглядом кресты над церковью в Ромоданове, перекрестился.
– Упокой, Господь, душу раба твоего Федора.
Капитон вскинул на Парамона настороженные глаза, переспросил тихо:
– Ты… ты по кому это, Парамоша, упокойные кресты кладешь?
Парамон задергал редкими сивыми бровями, запоздало помолчал, жалостливо всматриваясь в лицо Капитона – бледность, будто густая побелка на прикопченную стену печки, плотно легла на щеки старого Капитона.
– Так тебе что… неведомо разве?
– Про что? Про что мне неведомо? – Капитону показалось, что пологий песчаный берег Оки вдруг резко вздыбился.
– Как же про что? Про Федора, сына твоего. – Сивые брови Парамона поползли вверх, морщиня лоб. Бороденка мелко затряслась: вот так новость вместо соболезнования преподнес он товарищу далекого детства!
Капитон едва успел ухватиться за туго натянутый канат перевоза. Парамон поддержал под локоть, еле различимо просипел:
– Вот ироды… Сгубили человека и концы скрыли в воду…
Капитон потухшими глазами смотрел на толпу мужиков, которые сошли с парома и поднимались мимо него в гору, судача о том, что по всем приметам быть в этом году хорошим покосам: на Марью-половодницу вон какой выпал богатый разлив!
– Как же так, Парамоша? – пробормотал Капитон, давясь горькими слезами. – Может статься, ты что не так слышал, а? – Голубые глаза застлала соленая влага. – Ведь вот только я из канцелярии. Сказывал мне Пафнутьев – в Питербурх повезли Федю… Живой, стало быть. А ты – упокойные кресты по нему…
Парамон долго и со свистом кашлял, сплевывал под ноги в грязь. Правая рука подрагивала, сжимая горло серыми пальцами.
– Застудился минувшей зимой у домницы. Вот, вишь, хворь желтокожая одолевает. Сырость эту вряд ли переживу. А про Федора… доподлинно верно обмолвился. Вот как оно вышло, слушай. Случилось мне по делу в контору нашего Выровского завода зайти. Покамест я в сенцах голиком счищал грязь с лаптей – чу, в приоткрытую дверь пьяный голос приказчикова подручного Клима доносится. Что-то про твоего сына сказывает. Федор-то не был в работных на заводе постоянно, вот я и навострил уши – что за интерес у Климки к нему? А Клим возьми да и скажи кому-то, знать не один был в конторе: «Дурак Федька! Удумал же такое – Прокофию да прямо в глаза и брякни: „Зверь ты! Оборотень ты замогильный!“ И еще плюнул кровяной слюной в бороду приказчика. Прокофий-то и не стерпел, будучи во хмелю, сгоряча ухватил раскаленный в жаровне прут да и прожег мужику грудь. В самое сердце угодил – Федор и не дернулся, обвис на дыбе, будто метелка зрелого проса, серпом подрезанная. А потом повелел нам закопать ночью в лесу да молчать. Целковыми вот одарил, чтоб языки проглотили… И пьем! Вот я, к примеру, язык водкой заливаю, а он не сглатывается! Ха-ха-ха! А тот Федька на дыбе по ночам является мне и кричит истошным криком: „Оборотень ты замогильный!“ Бр-р! Я что, я мелкая козявка, что сказали, то и сотворил тайно, а вот поди же ты, совесть, должно, и у меня есть…»
Капитон повис на тугом канате, словно осенний перезревший хмель на крестьянском плетне.
– Что еще Клим сказывал… про Федюшу? – только и достало сил спросить. Далекий звон монастырских колоколов казался теперь не радостно-праздничным, а погребальным. И перелетные птицы над головой кричали тоскливо, жалостливо. Слезы жгли не глаза, а сердце Капитону, как то раскаленное железо в руках нелюдя Оборотня.
Парамон рукавом однорядки вытер мокрые губы, добавил, что дверь в боковую комнату в тот момент открылась, послышался голос приказчика и пьяный Клим умолк. Парамон догадался сделать вид, будто только вошел в сенцы и хлопнул дверью.
– Будешь дальше упрямиться, не скажешь про Чуприна и иных смутьянов – живым сожгу на углях и кости ссыплю в домницу! Вот и весь тебе мой сказ! За каким чертом Чуприн ездил к оболенским?
Федор отрешенно молчал…
Домой Прокофий Оборот приехал в тот вечер затемно и мертвецки пьяным. Подручные, тоже в изрядном подпитии, перепачканные землей, волоком втащили и небрежно бросили приказчика на прибранную кровать с кружевным покрывалом на пуховых подушках.
Напуганная жена – прежде такого за мужем не водилось – всплеснула ладошками, выгнала прочь из дому любопытную приживалку-странницу, чтобы не разнесла лишнего по соседям, и принялась сама стаскивать с Прокофия сапоги, испачканные влажной глиной.
– Ты это, моя бранчливая Прасковеюшка? – прохрипел Прокофий, силясь поднять голову. – Ну-ну, не ломай брови… А мы под корень того аспида, хе-хе, и концы замочить, бесследно чтоб было…
Просковья живо хлопнула мужа по губам и боязливо оглянулась – плотно ли закрыта дверь из спальни в людскую горницу?
Глава 4. Сход принимает решение
Холодными туманами изошло мокрое Благовещенье. Словно змея, сменившая кожу, обновилась и ожила Ока, сбросив унавоженный и затоптанный ледяной сарафан. Набухали мутною талою водой овраги и суходолы, близ жилья первые скворцы сменили ушедших в отлет красногрудых снегирей.
Истекли давно сроки, по которым ромодановцам следовало прибыть на работу к Дугненскому заводу, а села и деревни даже и не поднимались в отъезд. Месили холодную дорожную жижу между селами торопливые ходоки; остерегаясь демидовских доглядчиков, собирались вечерами в чуть освещенных избах выборные, и вновь до хрипоты спорили, быть им или не быть за Демидовым.
Порешили – на Фомино воскресенье недели Святой Пасхи собрать в Ромоданове общеволостной сход, там определить свою участь.
Капитон упросил Андрея Бурлакова оповестить нижележащие по Оке села, чтоб если отыщется тело утопленницы Акулины, то дали бы знать в Ромоданово.
Бурлаков обещал, а Капитон подстерег Прокофия Оборота около демидовской усадьбы и спросил, куда увез он сына Федора?
Оборот вперил в растерянного мужика тяжелый враждебный взгляд – под глазами все еще сине-фиолетовые круги, – процедил сквозь стиснутые зубы:
– В конторе воеводской узнавай, куда свезли твоего разбойного сына. А явишься еще раз мне пред очи – велю высечь на конюшне. Пошел прочь, разинский выродок! – На скулах желваки ходуном заходили, так что зашевелились бакенбарды.
Капитон убрался от греха подальше и теперь потратил последние копейки на паром, чтобы переехать в Калугу. Придерживаясь за шаткие плетни и заборы, брел по раскисшим от частых дождей улицам города, робко постучал костяшками пальцев в серые дощатые ворота Калужской провинциальной канцелярии. Привратник, отставной безрукий солдат, привычно спрятал в левый карман две медные копейки, пропустил Капитона во внутренний двор. Тщательно вытерев лапти о зашмыганную солому перед крыльцом, Капитон долго топтался, дожидаясь своей очереди в приемной, а потом наконец-то предстал перед тонконогим и худющим канцеляристом Пафнутьевым. Здесь же, будто барин у себя в хоромах, вальяжно развалился в плетеном кресле близ запотевшего окна приказчик Оборот.
Пафнутьев надел на нос круглые стекла, повертел протянутое Капитоном прошение, швырнул на стол – там таких измятых в карманах бумажек целый ворох.
– Твой бунтарского духа сын Федор повязан веревками, бит плетьми и препровожден под караулом в контору Правительствующего сената. Там с него снимут надлежащий допрос – как посмел руку поднять на должностное лицо, – при этих словах уважительный жест в сторону приказчика Оборота. – А тако же спрос поимеют с него, кто тому бунтарству подстрекатель. Ты же, старик, боле мне не докучай никчемными прошениями, иначе быть и тебе повязану. Ступай! В бирюльки играть недосуг мне.
Капитон неловко переступил набухшими от сырости лаптями, посунулся было спиной к двери, да Пафнутьев вдруг остановил его властным жестом руки: так ловчий ставит в стойку охотничью собаку:
– Назовешь мужицких заводил бунта – повелю спешным курьером возвратить Федора домой. И никакого спроса под батогами ему не будет в Сенате. Скажи, кто затевает смуту и непокорство Никите Никитычу Демидову? Что умыслили мужицкие атаманы?
Жалобно скрипнуло плетеное кресло – это Прокофий Оборот резко поднялся на ноги. Широкие ноздри приплюснутого носа раздулись.
– Может, на Дон толпой бежать порешили? Или еще куда? Что молчишь, старый аспид? Говори! – и замахнулся, грозя вернуть старику сыновий удар, но канцелярист остановил его испуганным возгласом: в присутственном месте ведь, не в пыточной камере!
У Капитона волосы взмокли от неожиданного оборота дел – о замысле выборных он ничего не знал: носятся по селу слухи, словно тополиный пух в пору цветения, ждут мужики каких-то событий. Но каких? Занятый своими заботами, Капитон на мужицкие пересуды не обращал внимания.
– Поди прочь с глаз! – резко выкрикнул Пафнутьев. – Нет у тебя желания спасти от каторги и вырывания ноздрей родного сына! Если прознаешь что о смутьянах, тогда и приходи вызволять Федора. – Канцелярист сдернул пенсне с носа, отвернулся к мутному окну, где низ стекол бы покрыт толстым сырым льдом.
Недобрая усмешка скользнула по искривленным злобой губам Оборота, когда Капитон, откланиваясь, пятился к двери.
«Жив мой Федюша, ну и слава богу. А про каторгу зазря он брякнул – стращает. Отбузуют для вразумления плетью, чтоб вдругорядь уважение имел к хозяйским слугам… Мужику не привыкать к порке. Конь и тот попервой взбрыкивает, не хочет влезать в оглобли, а потом ниш-то, ходит как миленький, тянет свой воз, пока ноги держат».
Вышел на крыльцо под голубое, в редких облаках небо, натянул на голову мурмолку, поделился с бородатым привратником:
– Жив мой сын Федор. Только и беды за ним – ударил Прокофия Данилыча. В сердцах он был о ту пору, не от злого умысла. Сказали, что в Сенат под караулом повезли. Далеко-то как…
– Иди себе, – безучастным голосом проворчал отставной солдат: всем не насочувствуешь, сюда не с радостью народ валом валит, ворота порасхлябили, правды доискиваясь. Отвернулся: резкий порыв ветра трепанул пустой рукав долгополого кафтана.
Капитон откланялся сгорбленной спине привратника:
– Прощевай, родимый, – и вдоль заборов, где не так истоптана земля, побрел вниз, к переправе через Оку.
Перекликались над городом стаи диких гусей, беззлобным лаем провожали Капитона собаки. Издали доносился колокольный звон Лаврентьева монастыря, который стоял пообок с домом воеводы Федора Шагарова, на берегу речки Ячейки.
По скользкой круче Капитон осторожно сошел к перевозу, остановился у древнего вяза, за который был закреплен канат до ромодановского берега.
Рядом облокотился на палку односелец Парамон, работный с Выровского завода. Забрызганный грязью почти до опояски, с желтым болезненным лицом, Парамон завидел Капитона, и будто его кишечные колики схватили, покривил изморщиненным лицом. Потом выпрямил спину, стащил с лысой желтокожей головы мурмолку и тут же отыскал взглядом кресты над церковью в Ромоданове, перекрестился.
– Упокой, Господь, душу раба твоего Федора.
Капитон вскинул на Парамона настороженные глаза, переспросил тихо:
– Ты… ты по кому это, Парамоша, упокойные кресты кладешь?
Парамон задергал редкими сивыми бровями, запоздало помолчал, жалостливо всматриваясь в лицо Капитона – бледность, будто густая побелка на прикопченную стену печки, плотно легла на щеки старого Капитона.
– Так тебе что… неведомо разве?
– Про что? Про что мне неведомо? – Капитону показалось, что пологий песчаный берег Оки вдруг резко вздыбился.
– Как же про что? Про Федора, сына твоего. – Сивые брови Парамона поползли вверх, морщиня лоб. Бороденка мелко затряслась: вот так новость вместо соболезнования преподнес он товарищу далекого детства!
Капитон едва успел ухватиться за туго натянутый канат перевоза. Парамон поддержал под локоть, еле различимо просипел:
– Вот ироды… Сгубили человека и концы скрыли в воду…
Капитон потухшими глазами смотрел на толпу мужиков, которые сошли с парома и поднимались мимо него в гору, судача о том, что по всем приметам быть в этом году хорошим покосам: на Марью-половодницу вон какой выпал богатый разлив!
– Как же так, Парамоша? – пробормотал Капитон, давясь горькими слезами. – Может статься, ты что не так слышал, а? – Голубые глаза застлала соленая влага. – Ведь вот только я из канцелярии. Сказывал мне Пафнутьев – в Питербурх повезли Федю… Живой, стало быть. А ты – упокойные кресты по нему…
Парамон долго и со свистом кашлял, сплевывал под ноги в грязь. Правая рука подрагивала, сжимая горло серыми пальцами.
– Застудился минувшей зимой у домницы. Вот, вишь, хворь желтокожая одолевает. Сырость эту вряд ли переживу. А про Федора… доподлинно верно обмолвился. Вот как оно вышло, слушай. Случилось мне по делу в контору нашего Выровского завода зайти. Покамест я в сенцах голиком счищал грязь с лаптей – чу, в приоткрытую дверь пьяный голос приказчикова подручного Клима доносится. Что-то про твоего сына сказывает. Федор-то не был в работных на заводе постоянно, вот я и навострил уши – что за интерес у Климки к нему? А Клим возьми да и скажи кому-то, знать не один был в конторе: «Дурак Федька! Удумал же такое – Прокофию да прямо в глаза и брякни: „Зверь ты! Оборотень ты замогильный!“ И еще плюнул кровяной слюной в бороду приказчика. Прокофий-то и не стерпел, будучи во хмелю, сгоряча ухватил раскаленный в жаровне прут да и прожег мужику грудь. В самое сердце угодил – Федор и не дернулся, обвис на дыбе, будто метелка зрелого проса, серпом подрезанная. А потом повелел нам закопать ночью в лесу да молчать. Целковыми вот одарил, чтоб языки проглотили… И пьем! Вот я, к примеру, язык водкой заливаю, а он не сглатывается! Ха-ха-ха! А тот Федька на дыбе по ночам является мне и кричит истошным криком: „Оборотень ты замогильный!“ Бр-р! Я что, я мелкая козявка, что сказали, то и сотворил тайно, а вот поди же ты, совесть, должно, и у меня есть…»
Капитон повис на тугом канате, словно осенний перезревший хмель на крестьянском плетне.
– Что еще Клим сказывал… про Федюшу? – только и достало сил спросить. Далекий звон монастырских колоколов казался теперь не радостно-праздничным, а погребальным. И перелетные птицы над головой кричали тоскливо, жалостливо. Слезы жгли не глаза, а сердце Капитону, как то раскаленное железо в руках нелюдя Оборотня.
Парамон рукавом однорядки вытер мокрые губы, добавил, что дверь в боковую комнату в тот момент открылась, послышался голос приказчика и пьяный Клим умолк. Парамон догадался сделать вид, будто только вошел в сенцы и хлопнул дверью.