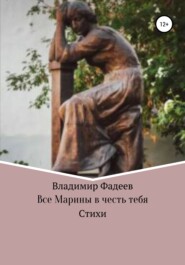По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
И через это
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Настроение, и так-то не очень праздничное, упало совсем: того колдуна, что заведует под рёбрами настроением, утешениями не проведёшь: ничто не обойдётся, не пустяк это, а начало ещё одной из тех бед, которые рождаются и растут в этом Городе как нигде споро.
Иван хотел взять отгул и вообще никуда сегодня не ездить: хоть он и отпустил в наивном суеверии бороду после военкомата – Город его узнает сегодня, а так пусть попробует достать его в Посёлке! Но к такому простому ходу каменный куряка был готов и отрезал начальственным голосом: «Какой отгул?! Работать некому…» Работать некому, а очередь ликвидаторов пухнет… Тогда Иван поменялся с Толяпой сменами (Толяпа – душа, на всё согласен без аннексий и контрибуций), это было едва ли не лучше, чем отгул: и след сбивал, и дома вечером не торчать, этот день рождения дома ему не осилить Жена подарит рубашку и после молчаливого ужина с кислым яблочным вином уйдёт за печку в детскую половину, станет вздыхать там, а может и заплачет. Или не уйдёт, уберёт посуду, сядет за пустой стол, сложит по-старушечьи руки на коленях, скажет еле слышно: «Ну вот, теперь всё!..» и замрёт, словно прислушиваясь к топоту стражников, которые вот-вот придут в дом и разрушат их худой мир. Это «теперь всё» только на первый взгляд лучше истерики – тихо, спокойно, но за полчаса смиренное безразличие ко всему так надавит на душу, таким горьким ядом заполнит их бревенчатый кессон, что жить расхочется и любая истерика покажется семейным праздником. В такие минуты – а как быстро они множатся! – Иван физически чувствовал на себе ту страшную силу, которая растаскивает людей – родных, самых близких людей! – в разные стороны, дальше, дальше, совсем далеко, и из этого далека уже не понять, где в таком чужом и зловредном существе пряталось родное и близкое, по недавней близорукости уравненное в правах и значении с самой жизнью? Как застывшие кадры из фильма ужасов: минута – живая панночка, другая минута – мёртвая панночка, третья – живая ведьма. Тут и сам начнёшь посматривать на крюк от люльки, как на единственный выход из дома. Обычно переламывал себя, заставлял думать о другом, но всегда, кроме прочего другого – о том, как велик и страшен человек, ибо от малого рождается в нём такое, что выше установленного природой последнего предела. Лучше ведь мёртвая панночка, чем живая ведьма… От малого ли только? Может быть, думал Иван, мы смотрим в бинокль с другой стороны? Может это и есть самое большое, а мы, заблудившиеся в буднях, разучились узнавать в добровольном чужении – "ну вот, теперь всё…" – знак этого запредельного? Не хотим слышать волны давно уже подступившего к нашим предгорьям нового потопа? Ведь у них взаимно: жене станет невмоготу от его идиотского терпения, дрогнет и всё же уйдёт за печку, и заплачет… Хорош будет юбилей!.. Только взгляд останется торчать двумя занозами в словно облитом изнутри чайными опивками зеркале старого гардероба, – вот! вот откуда: от трёхлетней бедной Машеньки – такое же зеркало, только живое: «Ну вот, теперь всё…». И это ещё не живши! Они вместе у Бога узнавали, вместе! Ребёнку-то за что? И без того осточертели за десять лет властные трёхглавные слова-короли мышиного языка: ЦДП, ПДК, ПДД (ЦДП – центральный дозиметрический пульт, ПДК – предельно-допустимая концентрация, ПДД – предельно-допустимая доза) сначала в Городе, под трубой, потом, с пуском Цеха – в Посёлке, и вот уже три года, как проклятое слово-гомункул опоздавшим капитаном этой мышиной роты пробралось прямо в дом: ДЦП (ЦДП детский церебральный паралич). В нормальном человеческом языке им не должно бы быть места. Это гробоподобное «Д», на которое они все опираются, за которое в обхват держатся с двух сторон, давно уже ожило и обязательно прыгает в глаза с любой, пусть самой мирной и доброй строчки. Иван хорошо усвоил его получеловечий облик: грязно-землистая горбастая уродина, отплясывающая своими острыми пятками зловещий танец на растерзанных нескончаемым бредом нервах, рассеивающая по одежде, по коже и под кожей своё репьястое цепляющее потомство, – его уже не соскоблить, оно уже навсегда, на всю его оставшуюся жизнь и ещё на одну жизнь, а может быть – и ещё… И пусть с завтрашнего утра объявят снова её, жизнь, светлой и счастливой, пусть опустится рай, – для него, для них всё останется по-прежнему. В людях горя, прошлого и настоящего, на три поколения вперёд. И что делать с Городом?.. ЦДП, ПДК… ни одной гласной, живой буквы, все – буквы-удары, звуки-плевки, подачка, цепко-когтистые, пахнущие падалью лапы… ПДД, ДЦП… Рай… А с Городом-то что делать? Куда его? Он ведь каменный, почти вечный, не уйдёт, и сам не отпустит никого. И внутри его только один выход, да и тот вывернут наизнанку, наряжен тёмной кабиной, задвинут в самый дальний угол, и люди сами стерегут его друг от друга, – и тогда стерегли, когда держали его испуганными взглядами, и теперь, когда вытащили тёмную кабину из угла, и даже потом будут стеречь, когда перекрасят её в светлые тона, когда она станет светлой кабиной, – Город что-нибудь придумает: выйдешь в этот выход, а там опять Город, с трубами, лужами и служками. А кроме Города нигде – ничего и никого, он всех сгрёб в одну грязную кучу, зажал с боков, завалил сверху, пророс изнутри и жёстко поделил свой народец: на тех, кто с радостью пускал его расти через свою душу, выбрасывая из неё всё, что мешает течению чёрной крови, и тех, кто из последних сил берёг своё сокровенное, которому порой и названия уже не помнил, про которое не знал уже, где и как применить его, но всё же берег, как своё, как сокровенное… Поделил и теперь спокойно сам звал в рупор на борьбу с самим собой, с Городом, знал, что первые, плоть его от плоти, всегда добудут ему победу – он научил их из любых лозунгов клеить ленты мёбиуса: что так, что этак, всё моя сторона, без конца и предела, а вам, клопам, через край не перебраться… «Что – и правда нет ему предела?» – удручённо спросит усталый безрадостный человечек. «Как нет? Есть!» – успокоят его те, первые, и даже флажком обозначат: вот он, предел. Всё без обмана – бланк, штамп, подписи, печать… Повертит человечек бумагу, посмотрит её на свет, проронит что-нибудь из вечно-извиняющегося своего репертуара и ещё останется довольный, что не заподозрили его ни в чём предосудительном. Вот он, предел… «Э-э! Эй! Стойте! Куда ж вы дальше – ведь предел?!» – «Так это только один предел, вот – второй, вон – третий…» – «А пределам-то конец будет?» – «Экий ты, брат, надоедливый!..» – и сапогом его, сапогом…
До обеда Иван просидел с Машенькой дома, хоть и солнышко: жена сняла утром фильтры со своих ветродувок (Цех взял её к себе в химлабораторию и даже милостиво разрешил, вместе со свободным графиком, держать во дворе приборы для внешнего контроля – ветродувки, как они их называли), определила по черноте, что ПДК сегодня около восьми, ветер с Цеха, – и на улицу запретила. До восьми ПДК они обычно – при солнышке – гуляли, но, если больше или восемь с ветром – сидеть дома. Пять ПДК считалось нормой, больше десяти – не выходили сами… Поселить бы в теперешний Посёлок того депутатика…
Иван обложил девочку игрушками, а сам уткнулся в журнал – при жене разве почитаешь? Всегда кривилась: в умники лезет? А он не лез, он грелся. С этих новых страниц («Лучше б шапку тебе купили!») доносились едва ли не единственные голоса, которые тихо окликали его душу настоящим именем, и она оборачивалась, пробовала узнавать себя, – читал… Да, почти до обеда читал, время от времени посматривая, как строится башня или обставляется кукольная комнатка. Мучился: и поиграть бы с дочкой, что ж всё в молчанку! – но когда ж и почитать? Машенька работала только правой, левая ручка была прижата к животику, как будто спрятала что-то за пазушкой и боится выронить. Вставала неуверенно, в великоватых колготках, в клетчатой юбочке, неуклюжая, была обидно похожа на цирковую обезьянку. Самому убежать от этого сравнения Ивану не удавалось, но стоило встретиться с долгим, малоподвижным взглядом девочки – так уставшие взрослые смотрят на аквариумных рыб, всё понимая и ничего не понимая в их водяной жизни, – как обезьянка исчезала, а Иван неизменно вспоминал чувство, впервые посетившее его во время болезни грудного ещё Ванечки: дети – это не дети (уж если такое родство, то наоборот), а не понимаемые гости из других миров, несомненно лучших, они тянут за рукав в свои светлые иноземные палестины, да только где им, слабым, осилить упрямых взрослых? Те хватают крохотных пришельцев за протянутые к ним чистые ручонки и, не оборачиваясь больше, волокут их в другую сторону – в вечную вязкую глину земных тщет. Они как будто мстят детям за то, что они чище… Иван отводил глаза, выжидал, когда отвернётся и девочка, и снова украдкой подсматривал за ней, на доставшееся уже ей – и от него, от него! Слабые кривенькие ножки, на никак не разгибающийся мизинчик левой руки, на клонящуюся влево головку и думал: Бог устал звать людей по-хорошему…
Приехал из школы сын, три года уже Иван ревниво умилялся на него, ладного, подвижного, но иногда с трудом прятался от мысли, что физическое благополучие парня – ошибка, и Город только ждёт случая, чтобы исправить её. Хоть не пускай в школу. Обычно страх прибегал впереди автобуса: откроются двери, и никто не выйдет… Или вырастал из пустяка: принесёт сын – обеими руками! – охапку дров и пронижет холодящее: «А вдруг?» И уходит сон, и начинаешь бояться за всех троих, и мечешься от окна к окну, и хочется просить у всех прощенье – и за то, что было неладного, и за то, что не дай, конечно, Бог будет ещё: простите! Живите! Не оставляйте!..
Сын сразу разложил акварели и прикнопил к фанере лист ватмана. Когда был маленьким, у него хорошо получалось, он любил рисовать, Иван, пока мог, помогал, но скоро отстал от парня, а тому стало скучно без участия, потихоньку забросил.
«Подарок будет сотворять». – догадался Иван. Сын перехватил догадку и сразу отставил фанеру, Материн норов. Достал учебники, потом другие. Начались вздохи. Оказалось, к понедельнику задали сочинение про родину. Писание, да еще из своей головы, но так, чтобы получилось нужное учительнице, было пыткой. Сочинять Иван помогал.
– Про какую родину? С большой буквы или с маленькой?
Сын пожал плечами.
– Вообще, – и скривился, как перед микстурой. Задача неприятно разрасталась, ещё и выбирай – про какую.
Если б не в очередь за пивом – день рожденья! – накануне прошёл слух, что завезли бутылочное, сейчас бы и сочинили.
– Ладно, будет к понедельнику родина, и потрепал за чуб.
– Только ты сегодня пораньше! – всё же проскочила лукавинка в глазах. – «Нарисует…»
До единственного горящего фонаря-могиканина надеялся, что зять вернётся, окликнет и догонит. Не дождался, хоть и замедлил около столба шаг. «Скотина, – еще раз подумал Иван, – неправильное правило, по которым любимым сестричкам достаются скверные мужья! В одно место ему надо… Надо бы ему в одно место!» Стало стыдно, как будто его подслушали – ведь всё это он от страха за себя. Пусть и за того себя, в которого ужалась вся небольшая родня и очень немногие другие люди, которым будет больно, когда больно будет ему, всё равно стыдно. А может за такого себя бояться не стыдно, посчитай, и не за себя?.. Нет, всё равно стыдно, иначе зачем люди прячут этот стыд? Живое, если оно живое, живое по-человечески, не может не бояться. Страх – единственная серьёзная защита и гарантия. И разум, и совесть – это ведь его дети. Черепаха твёрдая, потому что она мягкая. Разум – тот же панцирь. И совесть – панцирь, только повёрнутый внутрь. Необходимость. Но почему же стыдно? Или стыд за свой страх – такая же бронь? Покажи, что ты боишься -не стыдись! – и сожрут. Страшно за свой страх? Вот уже два ПДД страха. Значит, может быть и три? И четыре? И восемь, как грязи сегодня в Посёлке? И нет пределам предела?.. От этой последней мысли он поёжился, душа его зажмурилась, вспомнила, что уже заглядывала краешком глаза в эту бездну. Что там совесть! Что там разум! Это с другой стороны разума. «Но не собаки ж мы, кидаться на чужой страх?!» – ему хотелось найти аргументы против, а память от собак потащила обратно, к объездчикам, к сирени, к тёмной кабине, к девочке его, к Городу. Плюнул на аргументы: «Не может, не должно быть два ПДД! Это – абсурд! Страх нужен, но до первого че-ло-ве-чес-ко-го предела. Город мастак на новые нормы, дай только волю – дотянет до двух, трёх, до пяти… но лопнет когда-нибудь и норма, и вывернется страх смрадной своей изнанкой – что тогда? Страшно, когда висишь над пропастью и есть надежда выкарабкаться, но, когда уже оторвался и летишь на камни, уже не страх продувает кишочки, уже другое… Страх только один, все остальные выстроенные на нём крепости должны называться иначе, просто скупой наш язык пожалел нового слова…» – Иван вспомнил еще детское: Город – это одно, а города из песни про голубые города – совсем-совсем другое. «Может быть – трусость? Страх – под кожей, в сокращающих мышцы нервах, а всё, что над этим, благоприобретённое, то самое че-ло-ве-чес-ко-е, то, что в душах – трусость? Физиология и – нравственность?.. Нет, дяденька! Это, конечно, правильно, потому что просто, но потому же, что просто – неправильно. Как ньютонова физика: яблоко падает, потому что притягивается. А если очень сильно притягивается? А если еще сильней? В два, в три, в восемь раз сильней, чем очень сильно, и ещё чуть-чуть, то самое, запредельное чуть-чуть? То уже не притягивается, а отталкивается, рассыпается, взрывается, аннигилирует, а с «чуть-чуть» происходит с нашим яблочком и ещё что-то, вообще пока не понимаемое. Что такое нравственность, как не изощрённая физиология? А сама физиология – разве не растущая, в том числе и из нравственности нашей, дерево? А есть ещё физиология семьи, толпы, Города, наконец, для которых нравственность простого человечка – любимая подкормка… Мать после «кислого» конвейера перестала различать запахи, а запястья и предплечья перестали чувствовать боль, хоть коли, хоть отрубай… Физиология? Нравственность? В прошлом августе маленькая его девочка в два дня облысела. Жена от этого нового горя сделалась совершенной дурочкой и целую неделю ничего не ела, а разговаривала, как тормозящая пластинка – с подвыванием, но без слёз. Врачи, как обычно, ничего не понимали, ни про дочку, ни про её маму . Очнулась, когда Иван рассказал, что облысели и два других поселковых младенца, – плохая весть сошла за хорошую, жена успокоилась и даже обрадовалась. Тихонько смеялась, как смеются от внезапной лотерейной удачи, и Иван тогда подумал всерьёз – не рехнулась ли?.. Что – физиология или нравственность?.. Не рехнулась. После восьми ПДК перестали выводить дочку на улицу, и волосики, мало-помалу, отрасли. И посчитали, что пять ПДК – это норма, только для чего? Для физиологии, чтобы не облысеть? Или для нравственности, чтобы не рехнуться? Или просто – чтобы выжить? Считают, что в Городе выжить легче, там норма – три ПДК, но это только от комбината, никто не считает одной единственной бездымной трубы, под которой ползает со своим РУПом (РУП – радиометрический универсальный прибор