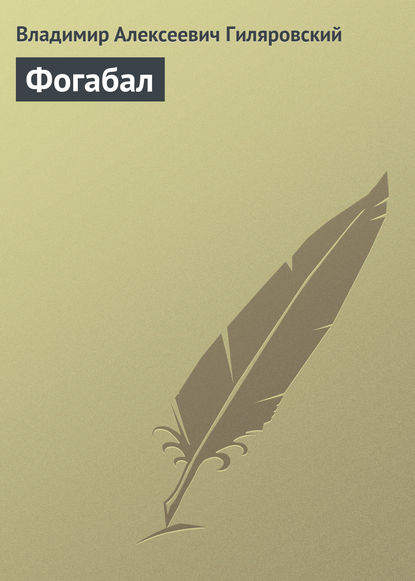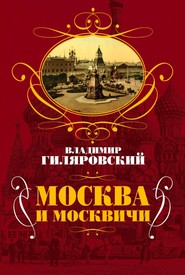По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фогабал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пережил всю революцию, пожаром трибун всю ночь любовался…
– А отчего они сгорели?
– Кто знает? И спросить некого… Э, да что и говорить. Ведь мне под семьдесят, а ни одного седого волоса, никаких катаров не мог напить… И в довершение всего аппетит, как и прежде, прекрасный, а есть нечего.
Во время этого разговора мы дошли до бульвара и сели на уцелевшей лавочке против бывшего «Яра». Я вспомнил, что у меня в кармане большой кусок прекрасного швейцарского сыра, который по дороге сюда я купил у кого-то из-под полы на мосту у вокзала.
– Да-с, Владимир Алексеевич, все кончилось. Кончились «Яр», «Мавритания», «Стрельна»… все… все… А без них и я кончаюсь… Хоть бы чем-нибудь их вспомнить, а там хоть и умирать.
– Ну что же, вспомним! Видишь, Иван Иваныч? Ну-ка, понюхай!
Я вынул из кармана чуть просалившуюся от слезки бумагу с куском сыра и поднес к его носу. Он с удивленным видом откинул голову, так что цилиндр чуть не слетел, и воскликнул:
– Швейцарский сыр! А у меня ножик есть.
Он вынул обломок ножика и подал мне. Я развернул сыр и отрезал ломтик.
– Да разве так можно? Что вы!
Он быстро снял обе перчатки, сунул их в карман и заявил:
– Руки у меня чистые.
Он взял у меня нож и сыр. – Грех такое добро портить. Может быть, да и наверняка, пожалуй, я такой сыр в последний раз ем, так позвольте уж…
И он начал резать тупой стороной ножа, и сыр свертывался в трубочку, становился ароматным, пушистым, мягким и таял на языке.
– Такой сыр не режут, а гофрируют.
Он священнодействовал, и мы молча съели треть куска.
– У-ух! Вот отвел душу. Жаль, что хлеба нет.
Он передал мне кусок сыру, я разрезал его пополам, завернул в бумагу и один кусок положил себе в карман, а другой отдал ему.
Он поблагодарил меня, взял нож и свой сыр разрезал на две равные части, одну половину нарезал ломтиками уже острием, завернул и положил в один карман, другую в другой.
– Зачем вы его так нарезали?
– Ничего, он и так съест, он гофренья не поймет.
– Кто?
– Фогабал. Вы помните его?
– Еще бы! Ильенковская лошадь.
– Да не лошадь, а гимназист – Фогабал.
Да, я помню и гимназиста Фогабала.
Я видел его и в гимназическом пальто, и в щегольском костюме на скачках, и оборванцем в «Перепутье».
«Перепутье» – это был трактир против «Яра». В «Яре» кутили богатые спортсмены, а «Перепутье» в дни бегов и скачек и накануне их был всегда переполнен играющими. Они перед состязанием являлись сюда, чтобы узнать шансы фаворитов у жокеев, наездников и «жучков», отмечали «верную лошадку» и нередко угадывали, а больше жульничали. В числе «жучков» помню я высокого бледного, волосатого блондина, с зари дежурившего на ипподроме и следившего за проездкой лошадей. К концу состязаний он всегда бывал пьян, но лошадей знал хорошо, и его отметкам все верили.
Никто не знал его настоящего имени, и он откликался на Фогабала.
– Милый Фогабалушка, отметь афишечку.
Этот полупьяный оборванец сыграл громадную роль в истории спорта: обе роскошные трибуны выстроены благодаря ему.
Скачки и бега на Ходынке существовали с половины прошлого века. Бега тогда разыгрывались еще по трем дорожкам: каждая лошадь бежала по отдельной. Посещали ипподром только настоящие охотники, любители лошадей, да в праздничные дни приезжали немногие москвичи подышать свежим воздухом и полюбоваться зрелищем.
Так и перебивались с хлеба на квас оба императорских общества: скаковое – дворянское и беговое – купеческое. Сборы были нищенские и призы только для почета.
В конце семидесятых годов секретарь Московского скакового общества М. И. Лазарев за границей познакомился с тотализатором и ввел его на скачках. Первое время билеты были только рублевые, лошади скакали по две, по три, редко по пять. Игра не шла потому, что увлекающий азарт отсутствовал. В каждой скачке была известная всем лучшая лошадь, которая и обходила легко соперников, а потому и выдавали выигравшим не больше гривенника на рубль.
Двойного тотализатора еще не было.
Когда скакал знаменитый Перкун, выигравший ряд призов в Англии и непобедимый в России, больше гривенника никогда не платили. Да Перкун никогда и не проигрывал.
«Банк, а не лошадь», – говорили расчетливые игроки. Некоторые брали на него билеты десятками, чтобы наверняка, как ренту, получить два-три рубля.
Десять процентов в три минуты: и вход и извозчик оплачены.
Лопнул банк!
Было жаркое солнечное воскресенье во второй половине августа. Нарядная публика разукрасила убогую беседку скачек. Галерея, ложи и ряды деревянных скамеек, поднимавшихся амфитеатром, были заняты аристократической и купеческой Москвой, партер – спортсменами и франтами в светлых костюмах. Около касс тотализатора публики по обыкновению было мало. Тогда еще игра шла слабая. Самой интересной в этот день была скачка непобедимого Перкуна, с которым скакали три достойных его соперника с лучшими жокеями-англичанами. На Перхуне ехал считавшийся тогда первым жокей Амброз – это окончательно обеспечивало победу Перкуна. На остальных трех, записанных уже не думая о первом призе, только в надежде получить второй или третий, скакали Клейдон, Конер и Шелли. На пятой лошади, принадлежавшей И. М. Ильенко, собственного его завода, Фогабале, скакал только что вышедший из конюшенных мальчиков жокей Воронков. Все билеты в тотализаторе стояли на Перкуна. Публика играла наверняка: лучше гривенник нажить, чем рубль прожить. Нашлись охотники и «резануть», то есть поставить на других лошадей, вернее, на жокеев-англичан, и только в Фогабала, а главное, в жокея Воронкова никто не хотел верить.
– Харьковский хохленок супротив четырех англичан!
Опустил стартер флаг. С места ринулись скакуны, впереди всех Амброз с улыбкой уверенности в своей победе. Иногда он оглядывался на Клейдона и Конера, голова в голову поспевающих за ним. Близко к ним скакал молоденький, розовый, как девушка, Шелли, а сзади, почти в хвосте у него, коренастый Воронков на своем Фогабале, который шел спокойным махом, будто и не участвовал в скачке, а так, для галопа трепался.
В последнем повороте Воронков легким посылом перегнал Шелли и приблизился чуть-чуть к двум соперникам, в хлысте наседавшим на Перкуна. Пришлось и Амброзу взяться за хлыст, начали резаться вовсю все трое, и все-таки Перкун был на корпус впереди.
И вот Воронков, сохранивший силы, уже перед самым призовым столбом уверенным посылом выбросил своего Фогабала и легко, без хлыста, пришел первым на целый корпус впереди Амброза.
Так с этого дня и осталось прозвище за Воронковым – «хитрый хохленок».
А что было в беседке! И партер, и ложи, и галерея – все гудело, ругало англичан… Всех и вся поносила неистовая публика. Требовали назад деньги. На Фогабала никто не играл, оказался поставленным билет только в одной кассе, и его взял какой-то гимназист, который не имел понятия о лошадях, а просто подошел, вынул рубль и сказал:
– Дайте нумер третий.
Цифра ли ему понравилась, мечтал ли он о тройке за латынь, а получил груду кредиток – тысячу триста девятнадцать рублей на свой рубль, которые он, вытараща от волнения глаза, не считая, рассовывал по карманам своей старой блузы и серого пальто. Счастливца окружили, смущали в продолжение всего антракта, терзали разнообразными вопросами и оставили его, лишь услыхав звонок новой скачки.
В следующем антракте его не нашли. Кто он был, никто не знал.
В газетах на другой день была описана победа Фогабала и неизвестный гимназист, получивший за рубль тысячу триста девятнадцать рублей. Даже люди, никогда не посещавшие скачек и не знавшие слова «тотализатор», заинтересовались, конечно, не лошадьми, а возможностью выиграть тысячу на рубль. И через день на следующих скачках, несмотря на будни, публики было вдвое больше, а в воскресенье через неделю деревянные трибуны были переполнены, игра шла вовсю.
– А отчего они сгорели?
– Кто знает? И спросить некого… Э, да что и говорить. Ведь мне под семьдесят, а ни одного седого волоса, никаких катаров не мог напить… И в довершение всего аппетит, как и прежде, прекрасный, а есть нечего.
Во время этого разговора мы дошли до бульвара и сели на уцелевшей лавочке против бывшего «Яра». Я вспомнил, что у меня в кармане большой кусок прекрасного швейцарского сыра, который по дороге сюда я купил у кого-то из-под полы на мосту у вокзала.
– Да-с, Владимир Алексеевич, все кончилось. Кончились «Яр», «Мавритания», «Стрельна»… все… все… А без них и я кончаюсь… Хоть бы чем-нибудь их вспомнить, а там хоть и умирать.
– Ну что же, вспомним! Видишь, Иван Иваныч? Ну-ка, понюхай!
Я вынул из кармана чуть просалившуюся от слезки бумагу с куском сыра и поднес к его носу. Он с удивленным видом откинул голову, так что цилиндр чуть не слетел, и воскликнул:
– Швейцарский сыр! А у меня ножик есть.
Он вынул обломок ножика и подал мне. Я развернул сыр и отрезал ломтик.
– Да разве так можно? Что вы!
Он быстро снял обе перчатки, сунул их в карман и заявил:
– Руки у меня чистые.
Он взял у меня нож и сыр. – Грех такое добро портить. Может быть, да и наверняка, пожалуй, я такой сыр в последний раз ем, так позвольте уж…
И он начал резать тупой стороной ножа, и сыр свертывался в трубочку, становился ароматным, пушистым, мягким и таял на языке.
– Такой сыр не режут, а гофрируют.
Он священнодействовал, и мы молча съели треть куска.
– У-ух! Вот отвел душу. Жаль, что хлеба нет.
Он передал мне кусок сыру, я разрезал его пополам, завернул в бумагу и один кусок положил себе в карман, а другой отдал ему.
Он поблагодарил меня, взял нож и свой сыр разрезал на две равные части, одну половину нарезал ломтиками уже острием, завернул и положил в один карман, другую в другой.
– Зачем вы его так нарезали?
– Ничего, он и так съест, он гофренья не поймет.
– Кто?
– Фогабал. Вы помните его?
– Еще бы! Ильенковская лошадь.
– Да не лошадь, а гимназист – Фогабал.
Да, я помню и гимназиста Фогабала.
Я видел его и в гимназическом пальто, и в щегольском костюме на скачках, и оборванцем в «Перепутье».
«Перепутье» – это был трактир против «Яра». В «Яре» кутили богатые спортсмены, а «Перепутье» в дни бегов и скачек и накануне их был всегда переполнен играющими. Они перед состязанием являлись сюда, чтобы узнать шансы фаворитов у жокеев, наездников и «жучков», отмечали «верную лошадку» и нередко угадывали, а больше жульничали. В числе «жучков» помню я высокого бледного, волосатого блондина, с зари дежурившего на ипподроме и следившего за проездкой лошадей. К концу состязаний он всегда бывал пьян, но лошадей знал хорошо, и его отметкам все верили.
Никто не знал его настоящего имени, и он откликался на Фогабала.
– Милый Фогабалушка, отметь афишечку.
Этот полупьяный оборванец сыграл громадную роль в истории спорта: обе роскошные трибуны выстроены благодаря ему.
Скачки и бега на Ходынке существовали с половины прошлого века. Бега тогда разыгрывались еще по трем дорожкам: каждая лошадь бежала по отдельной. Посещали ипподром только настоящие охотники, любители лошадей, да в праздничные дни приезжали немногие москвичи подышать свежим воздухом и полюбоваться зрелищем.
Так и перебивались с хлеба на квас оба императорских общества: скаковое – дворянское и беговое – купеческое. Сборы были нищенские и призы только для почета.
В конце семидесятых годов секретарь Московского скакового общества М. И. Лазарев за границей познакомился с тотализатором и ввел его на скачках. Первое время билеты были только рублевые, лошади скакали по две, по три, редко по пять. Игра не шла потому, что увлекающий азарт отсутствовал. В каждой скачке была известная всем лучшая лошадь, которая и обходила легко соперников, а потому и выдавали выигравшим не больше гривенника на рубль.
Двойного тотализатора еще не было.
Когда скакал знаменитый Перкун, выигравший ряд призов в Англии и непобедимый в России, больше гривенника никогда не платили. Да Перкун никогда и не проигрывал.
«Банк, а не лошадь», – говорили расчетливые игроки. Некоторые брали на него билеты десятками, чтобы наверняка, как ренту, получить два-три рубля.
Десять процентов в три минуты: и вход и извозчик оплачены.
Лопнул банк!
Было жаркое солнечное воскресенье во второй половине августа. Нарядная публика разукрасила убогую беседку скачек. Галерея, ложи и ряды деревянных скамеек, поднимавшихся амфитеатром, были заняты аристократической и купеческой Москвой, партер – спортсменами и франтами в светлых костюмах. Около касс тотализатора публики по обыкновению было мало. Тогда еще игра шла слабая. Самой интересной в этот день была скачка непобедимого Перкуна, с которым скакали три достойных его соперника с лучшими жокеями-англичанами. На Перхуне ехал считавшийся тогда первым жокей Амброз – это окончательно обеспечивало победу Перкуна. На остальных трех, записанных уже не думая о первом призе, только в надежде получить второй или третий, скакали Клейдон, Конер и Шелли. На пятой лошади, принадлежавшей И. М. Ильенко, собственного его завода, Фогабале, скакал только что вышедший из конюшенных мальчиков жокей Воронков. Все билеты в тотализаторе стояли на Перкуна. Публика играла наверняка: лучше гривенник нажить, чем рубль прожить. Нашлись охотники и «резануть», то есть поставить на других лошадей, вернее, на жокеев-англичан, и только в Фогабала, а главное, в жокея Воронкова никто не хотел верить.
– Харьковский хохленок супротив четырех англичан!
Опустил стартер флаг. С места ринулись скакуны, впереди всех Амброз с улыбкой уверенности в своей победе. Иногда он оглядывался на Клейдона и Конера, голова в голову поспевающих за ним. Близко к ним скакал молоденький, розовый, как девушка, Шелли, а сзади, почти в хвосте у него, коренастый Воронков на своем Фогабале, который шел спокойным махом, будто и не участвовал в скачке, а так, для галопа трепался.
В последнем повороте Воронков легким посылом перегнал Шелли и приблизился чуть-чуть к двум соперникам, в хлысте наседавшим на Перкуна. Пришлось и Амброзу взяться за хлыст, начали резаться вовсю все трое, и все-таки Перкун был на корпус впереди.
И вот Воронков, сохранивший силы, уже перед самым призовым столбом уверенным посылом выбросил своего Фогабала и легко, без хлыста, пришел первым на целый корпус впереди Амброза.
Так с этого дня и осталось прозвище за Воронковым – «хитрый хохленок».
А что было в беседке! И партер, и ложи, и галерея – все гудело, ругало англичан… Всех и вся поносила неистовая публика. Требовали назад деньги. На Фогабала никто не играл, оказался поставленным билет только в одной кассе, и его взял какой-то гимназист, который не имел понятия о лошадях, а просто подошел, вынул рубль и сказал:
– Дайте нумер третий.
Цифра ли ему понравилась, мечтал ли он о тройке за латынь, а получил груду кредиток – тысячу триста девятнадцать рублей на свой рубль, которые он, вытараща от волнения глаза, не считая, рассовывал по карманам своей старой блузы и серого пальто. Счастливца окружили, смущали в продолжение всего антракта, терзали разнообразными вопросами и оставили его, лишь услыхав звонок новой скачки.
В следующем антракте его не нашли. Кто он был, никто не знал.
В газетах на другой день была описана победа Фогабала и неизвестный гимназист, получивший за рубль тысячу триста девятнадцать рублей. Даже люди, никогда не посещавшие скачек и не знавшие слова «тотализатор», заинтересовались, конечно, не лошадьми, а возможностью выиграть тысячу на рубль. И через день на следующих скачках, несмотря на будни, публики было вдвое больше, а в воскресенье через неделю деревянные трибуны были переполнены, игра шла вовсю.