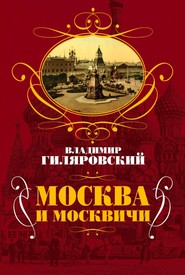По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Москва и москвичи. Избранные главы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А обыкновенно справлялись здесь богатейшие купеческие свадьбы на сотни персон.
И ели «чумазые» руками с саксонских сервизов все: и выписанных из Франции руанских уток, из Швейцарии красных куропаток и рыбу-соль из Средиземного моря…
Яблоки кальвиль, каждое с гербом, по пять рублей штука при покупке… И прятали замоскворецкие гости по задним карманам долгополых сюртуков дюшесы и кальвиль, чтобы отвезти их в Таганку, в свои старомодные дома, где пахло деревянным маслом и кислой капустой…
Особенно часто снимали белый зал для банкетов московские иностранцы, чествовавшие своих знатных приезжих земляков…
Здесь же иностранцы встречали Новый год и правили немецкую масленицу; на всех торжествах в этом зале играл лучший московский оркестр Рябова.
Празднование столетнего юбилея Пушкина в 1899 году было не первым и единственным мероприятием подобного рода в ресторане «Эрмитаж». Здесь часто устраивали чествования и юбилеи знаменитых и выдающихся личностей. Например, еще в 1879 году в ресторане прошел торжественный ужин, посвященный И. Тургеневу Герой праздника произнес тогда такую речь:
«Г<оспо>да! Начну с просьбы: позвольте мне не говорить о моей благодарности. Это выражение слишком слабо и недостаточно. Такие дни, какие я прожил в Москве, такой прием останутся навсегда в моей памяти, и, как я уже имел честь сказать третьего дня гг. студентам, составляют лучшую награду писателя пред концом его поприща. Я предпочитаю осветить значение и смысл приема, которым вы меня удостоили, особенно вы, гг. молодежь. Нет никакого сомнения, что сочувствие ваше относится ко мне не столько как к писателю, успевшему заслужить ваше одобрение, сколько к человеку, принадлежащему эпохе 40?х годов, – оно относится к человеку, не изменившему до конца ни своим художественно-литературным убеждениям, ни так называемому либеральному направлению. Это слово „либерал“ в последнее время несколько опошлилось, и не без причины. Теперь, когда всё указывает на то, что мы стоим накануне хотя близкого и законно правильного, но значительного перестроя общественной жизни, это слово является чем-то неопределенным и шатким. Кто им, подумаешь, не прикрывается! Но в наше, в мое молодое время, когда еще помину не было о политической жизни, слово „либерал“ означало протест против всего темного и притеснительного, означало уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и художеству и наконец – пуще всего – означало любовь к народу, который, находясь еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в деятельной помощи своих счастливых сынов. Мне сдается, что нынешнее молодое поколение поступает согласно с высказанным мною воззрением: оно поняло, в чем тут вопрос, протянуло руку старым либералам и старым художникам в моем лице, оно связует нить преданий, оно продолжает начатое дело; и если, как слышно, это сближение произошло вследствие недавнего поворота, то душевно радуюсь, что дожил до него. В сравнении с нами молодое поколение сделало много шагов вперед; оно до некоторой степени подготовило себя к той будущности, на которую я указывал, но только до некоторой степени. Надо докончить начатое, и докончить прямо, честно, по открытому пути. Задача его, правда, труднее и сложнее нашей: тогда вся сознательная жизнь общества текла, если можно так выразиться, по одному руслу, теперь она разветвилась или готовится разветвиться, как оно и следует в более зрелом возрасте государства. Сочувствую всем стремлениям молодежи, но полагаю, что она хорошо делает, сближаясь с нами: есть чему поучиться и у нас, стариков. Во всяком случае от души желаю, чтобы она так же честно и серьезно, так же избегая напрасных увлечений вдаль и по сторонам, но и не отступая также ни шагу назад, относилась к своим задачам, как то делали иные из моих сверстников, имена которых проложили славный след в истории русского просвещения. Стоит только вспомнить хоть тех из них, которые составляли некогда украшение и гордость Московского университета. Да возникнут же между вами новые Грановские и новые Белинские! – прибавлю я. Я уже не говорю о новых Пушкиных и Гоголях, – таких явлений надо ожидать с смирением и как дара… И так как я уже упомянул об университете, то позвольте мне окончить мою речь тостом за его процветание, неразлучное с правильным, всесторонним и мощным развитием нашего молодого поколения – нашей надежды и нашей будущности!»
В 1917 году «Эрмитаж» закрылся. Собирались в кабинетах какие-то кружки, но и кабинеты опустели…
«Эрмитаж» был мрачен, кругом ни души: мимо ходить боятся.
Опять толпы около «Эрмитажа»… Огромные очереди у входов. Десятки ручных тележек ожидают заказчиков, счастливцев, получивших пакет от «АРА», занявшего все залы, кабинеты и службы «Эрмитажа».
Наполз нэп. Опять засверкал «Эрмитаж» ночными огнями. Затолпились вокруг оборванные извозчики вперемежку с оборванными лихачами, но все еще на дутых шинах. Начали подъезжать и отъезжать пьяные автомобили. Бывший распорядитель «Эрмитажа» ухитрился мишурно повторить прошлое модного ресторана. Опять появились на карточках названия: котлеты Помпадур, Мари Луиз, Валларуа, салат Оливье… Но неугрызимые котлеты – на касторовом масле, и салат Оливье был из огрызков… Впрочем, вполне к лицу посетителям-нэпманам.
В швейцарской – котиковое манто, бобровые воротники, собольи шубы…
В большом зале – те же люстры, белые скатерти, блестит посуда…
На стене, против буфета, еще уцелела надпись М. П. Садовского. Здесь он завтракал, высмеивая прожигателей жизни, и наблюдал типы. Вместо белорубашечных половых подавали кушанья служащие в засаленных пиджаках и прибегали на зов, сверкая оборками брюк, как кружевом. Публика косо поглядывала на посетителей, на которых кожаные куртки.
Вот за шампанским кончает обед шумная компания… Вскакивает, жестикулирует, убеждает кого-то франт в смокинге, с брюшком. Набеленная, с накрашенными губами дама курит папиросу и пускает дым в лицо и п одливает вино в стакан человеку во френче. Ему, видимо, неловко в этой компании, но он в центре внимания. К нему относятся убеждающие жесты жирного франта. С другой стороны около него трется юркий человек и показывает какие-то бумаги. Обхаживаемый отводит рукой и не глядит, а тот все лезет, лезет…
Прямо-таки сцена из пьесы «Воздушный пирог», что с успехом шла в Театре революции. Все – как живые!.. Так же жестикулирует Семен Рак, так же нахальничает подкрашенная танцовщица Рита Керн… Около чувствующего себя неловко директора банка Ильи Коромыслова трется Мирон Зонт, просящий субсидию для своего журнала… А дальше секретари, секретарши, директора, коммерсанты Обрыдловы и все те же Семены Раки, самодовольные, начинающие жиреть…
И на других столах то же.
Через год в зданиях «Эрмитажа» был торжественно открыт Моссоветом Дом крестьянина.
Лубянка
Вдевяностых годах прошлого столетия разбогатевшие страховые общества, у которых кассы ломились от денег, нашли выгодным обратить свои огромные капиталы в недвижимые собственности и стали скупать земли в Москве и строить на них доходные дома. И вот на Лубянской площади, между Большой и Малой Лубянкой, вырос огромный дом. Это дом страхового общества «Россия», выстроенный на владении Н. С. Мосолова.
В восьмидесятых годах Н. С. Мосолов, богатый помещик, академик, известный гравер и собиратель редких гравюр, занимал здесь отдельный корпус, в нижнем этаже которого помещалось варшавское страховое общество; в другом крыле этого корпуса, примыкавшего к квартире Мосолова, помещалась фотография Мебиуса. Мосолов жил в своей огромной квартире один, имел прислугу из своих бывших крепостных. Полгода он обыкновенно проводил за границей, а другие полгода – в Москве, почти никого не принимая у себя. Изредка он выезжал из дому по делам в дорогой старинной карете, на паре прекрасных лошадей, со своим бывшим крепостным кучером, имени которого никто не знал, а звали его все «Лапша».
Против дома Мосолова на Лубянской площади была биржа наемных карет. Когда Мосолов продал свой дом страховому обществу «Россия», то карету и лошадей подарил своему кучеру, и «Лапша» встал на бирже. Прекрасная запряжка давала ему возможность хорошо зарабатывать: ездить с «Лапшой» считалось шиком.
Мосолов умер в 1914 году. Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и офортов, как своей работы, так и иностранных художников. Его тургеневскую фигуру помнят старые москвичи, но редко кто удостаивался бывать у него. Целые дни он проводил в своем доме за работой, а иногда отдыхал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке у окна, выходившего во двор, где помещался в восьмидесятых годах гастрономический магазин Генералова.
При магазине была колбасная; чтобы иметь товар подешевле, хозяин заблаговременно большими партиями закупал кишки, и они гнили в бочках, распространяя ужасную вонь. По двору носилась злющая собака, овчарка Енотка, которая не выносила полицейских. Чуть увидит полицейского – бросается. И всякую собаку, забежавшую на двор, рвала в клочья.
В соседнем флигеле дома Мосолова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах – меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около двадцати, а в верхнем – немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году, у актера А. Д. Казакова.
– Тут все наши, тамбовские! – сказал он.
Мосолов, сам тамбовский помещик, сдал дом под номера какому-то земляку-предпринимателю, который умер в конце восьмидесятых годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого.
Номера все были месячные, занятые постоянными жильцами. Среди них, пока не вымерли, жили тамбовские помещики (Мосолов сам был из их числа), еще в семидесятых годах приехавшие в Москву доживать свой век на остатки выкупных, полученных за «освобожденных» крестьян.
Оригинальные меблирашки! Узенькие, вроде тоннеля, коридорчики, со специфическим «нумерным» запахом. Коридорные беспрерывно неслышными шагами бегали с плохо луженными и нечищенными самоварами в облаках пара, с угаром, в номера и обратно… В неслышной, благодаря требованию хозяина, мягкой обуви, в их своеобразной лакейской ловкости движений еще чувствовался пережиток типичных, растленных нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещичьей дворни.
В меблированных комнатах
И действительно, в 1881 году еще оставались эти типы, вывезенные из тамбовских усадеб крепостные. В те года население меблирашек являлось не чем иным, как умирающей в городской обстановке помещичьей степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли – сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица тамбовская Языкова, умершая в этих номерах в глубокой старости, окруженная любимыми собачками и двумя верными барыне дворовыми «девками» – тоже старухами… Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру.
Некоторым жильцам, тоже старикам, тамбовским помещикам, прожившимся догола, помогал сам Мосолов.
Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами, и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель С. Н. Филиппов и доктор Добров, жили актеры-москвичи, словом, спокойные, небогатые люди, любившие уют и тишину.
Казаков жил у своего друга, тамбовского помещика Ознобишина, двоюродного брата Ильи Ознобишина, драматического писателя и прекрасного актера-любителя, останавливавшегося в этом номере во время своих приездов в Москву на зимний сезон.
Номер состоял из трех высоких комнат с большими окнами, выходящими на площадь. На полу лежал огромный мягкий ковер персидского рисунка, какие в те времена ткали крепостные искусницы. Вся мебель – красного дерева с бронзой, такие же трюмо в стиле рококо; стол красного дерева, с двумя башнями по сторонам, с разными ящиками и ящичками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке между окнами – драгоценные, инкрустированные «були» и огромные английские часы с басовым боем… На стенах – наверху портреты предков, а под ними акварели из охотничьей жизни, фотографии, и все – в рамках красного дерева… На камине дорогие бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы – смесь фарфора и бронзы.
В спальне – огромная, тоже красного дерева кровать и над ней ковер с охотничьим рогом, арапниками, кинжалами и портретами борзых собак. Напротив – турецкий диван; над ним масляный портрет какой-то очень красивой амазонки и опять фотографии и гравюры. Рядом с портретом Александра II в серой визитке, с собакой у ног – фотография Герцена и Огарева, а по другую сторону – принцесса Дагмара с собачкой на руках и Гарибальди в круглой шапочке.
Гостиница «Билло» на Большой Лубянке
Это все, что осталось от огромного барского имения и что украшало жизнь одинокого старого барина, когда-то прожигателя жизни, приехавшего в Москву доживать в этом номере свои последние годы.
Приходят в гости к Казакову актеры Киреев и Далматов и один из литераторов. Скучает в одиночестве старик. А потом вдруг:
– Знаете что? Видали ли вы когда-нибудь лакейский театр?
– Не понимаем.
– Ну, так увидите!
Позвонил. Вошел слуга, довольно обтрепанный, но чрезвычайно важный, с седыми баками и совершенно лысой головой.
– Самоварчик прикажете, Александр Дмитриевич?
– Да, пожалуй. Скучно очень…
– Время такое-с, все разъехамшись… Во всем коридоре одна только Языкова барыня… Кто в парк пошел, кто на бульваре сидит… Ко сну прибудут, а теперь еще солнце не село.
Стоит старик, положив руку на спинку кресла, и, видимо, рад поговорить.
– Никанор Маркелыч! А я к вам с просьбой… Вот это мои друзья – актеры… Представьте нам старого барина. Григорий-то здесь?
– У себя в каморке, восьмому нумеру папиросы набивает.
– Позовите его да представьте… мы по рублику вам соберем.
И ели «чумазые» руками с саксонских сервизов все: и выписанных из Франции руанских уток, из Швейцарии красных куропаток и рыбу-соль из Средиземного моря…
Яблоки кальвиль, каждое с гербом, по пять рублей штука при покупке… И прятали замоскворецкие гости по задним карманам долгополых сюртуков дюшесы и кальвиль, чтобы отвезти их в Таганку, в свои старомодные дома, где пахло деревянным маслом и кислой капустой…
Особенно часто снимали белый зал для банкетов московские иностранцы, чествовавшие своих знатных приезжих земляков…
Здесь же иностранцы встречали Новый год и правили немецкую масленицу; на всех торжествах в этом зале играл лучший московский оркестр Рябова.
Празднование столетнего юбилея Пушкина в 1899 году было не первым и единственным мероприятием подобного рода в ресторане «Эрмитаж». Здесь часто устраивали чествования и юбилеи знаменитых и выдающихся личностей. Например, еще в 1879 году в ресторане прошел торжественный ужин, посвященный И. Тургеневу Герой праздника произнес тогда такую речь:
«Г<оспо>да! Начну с просьбы: позвольте мне не говорить о моей благодарности. Это выражение слишком слабо и недостаточно. Такие дни, какие я прожил в Москве, такой прием останутся навсегда в моей памяти, и, как я уже имел честь сказать третьего дня гг. студентам, составляют лучшую награду писателя пред концом его поприща. Я предпочитаю осветить значение и смысл приема, которым вы меня удостоили, особенно вы, гг. молодежь. Нет никакого сомнения, что сочувствие ваше относится ко мне не столько как к писателю, успевшему заслужить ваше одобрение, сколько к человеку, принадлежащему эпохе 40?х годов, – оно относится к человеку, не изменившему до конца ни своим художественно-литературным убеждениям, ни так называемому либеральному направлению. Это слово „либерал“ в последнее время несколько опошлилось, и не без причины. Теперь, когда всё указывает на то, что мы стоим накануне хотя близкого и законно правильного, но значительного перестроя общественной жизни, это слово является чем-то неопределенным и шатким. Кто им, подумаешь, не прикрывается! Но в наше, в мое молодое время, когда еще помину не было о политической жизни, слово „либерал“ означало протест против всего темного и притеснительного, означало уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и художеству и наконец – пуще всего – означало любовь к народу, который, находясь еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в деятельной помощи своих счастливых сынов. Мне сдается, что нынешнее молодое поколение поступает согласно с высказанным мною воззрением: оно поняло, в чем тут вопрос, протянуло руку старым либералам и старым художникам в моем лице, оно связует нить преданий, оно продолжает начатое дело; и если, как слышно, это сближение произошло вследствие недавнего поворота, то душевно радуюсь, что дожил до него. В сравнении с нами молодое поколение сделало много шагов вперед; оно до некоторой степени подготовило себя к той будущности, на которую я указывал, но только до некоторой степени. Надо докончить начатое, и докончить прямо, честно, по открытому пути. Задача его, правда, труднее и сложнее нашей: тогда вся сознательная жизнь общества текла, если можно так выразиться, по одному руслу, теперь она разветвилась или готовится разветвиться, как оно и следует в более зрелом возрасте государства. Сочувствую всем стремлениям молодежи, но полагаю, что она хорошо делает, сближаясь с нами: есть чему поучиться и у нас, стариков. Во всяком случае от души желаю, чтобы она так же честно и серьезно, так же избегая напрасных увлечений вдаль и по сторонам, но и не отступая также ни шагу назад, относилась к своим задачам, как то делали иные из моих сверстников, имена которых проложили славный след в истории русского просвещения. Стоит только вспомнить хоть тех из них, которые составляли некогда украшение и гордость Московского университета. Да возникнут же между вами новые Грановские и новые Белинские! – прибавлю я. Я уже не говорю о новых Пушкиных и Гоголях, – таких явлений надо ожидать с смирением и как дара… И так как я уже упомянул об университете, то позвольте мне окончить мою речь тостом за его процветание, неразлучное с правильным, всесторонним и мощным развитием нашего молодого поколения – нашей надежды и нашей будущности!»
В 1917 году «Эрмитаж» закрылся. Собирались в кабинетах какие-то кружки, но и кабинеты опустели…
«Эрмитаж» был мрачен, кругом ни души: мимо ходить боятся.
Опять толпы около «Эрмитажа»… Огромные очереди у входов. Десятки ручных тележек ожидают заказчиков, счастливцев, получивших пакет от «АРА», занявшего все залы, кабинеты и службы «Эрмитажа».
Наполз нэп. Опять засверкал «Эрмитаж» ночными огнями. Затолпились вокруг оборванные извозчики вперемежку с оборванными лихачами, но все еще на дутых шинах. Начали подъезжать и отъезжать пьяные автомобили. Бывший распорядитель «Эрмитажа» ухитрился мишурно повторить прошлое модного ресторана. Опять появились на карточках названия: котлеты Помпадур, Мари Луиз, Валларуа, салат Оливье… Но неугрызимые котлеты – на касторовом масле, и салат Оливье был из огрызков… Впрочем, вполне к лицу посетителям-нэпманам.
В швейцарской – котиковое манто, бобровые воротники, собольи шубы…
В большом зале – те же люстры, белые скатерти, блестит посуда…
На стене, против буфета, еще уцелела надпись М. П. Садовского. Здесь он завтракал, высмеивая прожигателей жизни, и наблюдал типы. Вместо белорубашечных половых подавали кушанья служащие в засаленных пиджаках и прибегали на зов, сверкая оборками брюк, как кружевом. Публика косо поглядывала на посетителей, на которых кожаные куртки.
Вот за шампанским кончает обед шумная компания… Вскакивает, жестикулирует, убеждает кого-то франт в смокинге, с брюшком. Набеленная, с накрашенными губами дама курит папиросу и пускает дым в лицо и п одливает вино в стакан человеку во френче. Ему, видимо, неловко в этой компании, но он в центре внимания. К нему относятся убеждающие жесты жирного франта. С другой стороны около него трется юркий человек и показывает какие-то бумаги. Обхаживаемый отводит рукой и не глядит, а тот все лезет, лезет…
Прямо-таки сцена из пьесы «Воздушный пирог», что с успехом шла в Театре революции. Все – как живые!.. Так же жестикулирует Семен Рак, так же нахальничает подкрашенная танцовщица Рита Керн… Около чувствующего себя неловко директора банка Ильи Коромыслова трется Мирон Зонт, просящий субсидию для своего журнала… А дальше секретари, секретарши, директора, коммерсанты Обрыдловы и все те же Семены Раки, самодовольные, начинающие жиреть…
И на других столах то же.
Через год в зданиях «Эрмитажа» был торжественно открыт Моссоветом Дом крестьянина.
Лубянка
Вдевяностых годах прошлого столетия разбогатевшие страховые общества, у которых кассы ломились от денег, нашли выгодным обратить свои огромные капиталы в недвижимые собственности и стали скупать земли в Москве и строить на них доходные дома. И вот на Лубянской площади, между Большой и Малой Лубянкой, вырос огромный дом. Это дом страхового общества «Россия», выстроенный на владении Н. С. Мосолова.
В восьмидесятых годах Н. С. Мосолов, богатый помещик, академик, известный гравер и собиратель редких гравюр, занимал здесь отдельный корпус, в нижнем этаже которого помещалось варшавское страховое общество; в другом крыле этого корпуса, примыкавшего к квартире Мосолова, помещалась фотография Мебиуса. Мосолов жил в своей огромной квартире один, имел прислугу из своих бывших крепостных. Полгода он обыкновенно проводил за границей, а другие полгода – в Москве, почти никого не принимая у себя. Изредка он выезжал из дому по делам в дорогой старинной карете, на паре прекрасных лошадей, со своим бывшим крепостным кучером, имени которого никто не знал, а звали его все «Лапша».
Против дома Мосолова на Лубянской площади была биржа наемных карет. Когда Мосолов продал свой дом страховому обществу «Россия», то карету и лошадей подарил своему кучеру, и «Лапша» встал на бирже. Прекрасная запряжка давала ему возможность хорошо зарабатывать: ездить с «Лапшой» считалось шиком.
Мосолов умер в 1914 году. Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и офортов, как своей работы, так и иностранных художников. Его тургеневскую фигуру помнят старые москвичи, но редко кто удостаивался бывать у него. Целые дни он проводил в своем доме за работой, а иногда отдыхал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке у окна, выходившего во двор, где помещался в восьмидесятых годах гастрономический магазин Генералова.
При магазине была колбасная; чтобы иметь товар подешевле, хозяин заблаговременно большими партиями закупал кишки, и они гнили в бочках, распространяя ужасную вонь. По двору носилась злющая собака, овчарка Енотка, которая не выносила полицейских. Чуть увидит полицейского – бросается. И всякую собаку, забежавшую на двор, рвала в клочья.
В соседнем флигеле дома Мосолова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах – меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около двадцати, а в верхнем – немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году, у актера А. Д. Казакова.
– Тут все наши, тамбовские! – сказал он.
Мосолов, сам тамбовский помещик, сдал дом под номера какому-то земляку-предпринимателю, который умер в конце восьмидесятых годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого.
Номера все были месячные, занятые постоянными жильцами. Среди них, пока не вымерли, жили тамбовские помещики (Мосолов сам был из их числа), еще в семидесятых годах приехавшие в Москву доживать свой век на остатки выкупных, полученных за «освобожденных» крестьян.
Оригинальные меблирашки! Узенькие, вроде тоннеля, коридорчики, со специфическим «нумерным» запахом. Коридорные беспрерывно неслышными шагами бегали с плохо луженными и нечищенными самоварами в облаках пара, с угаром, в номера и обратно… В неслышной, благодаря требованию хозяина, мягкой обуви, в их своеобразной лакейской ловкости движений еще чувствовался пережиток типичных, растленных нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещичьей дворни.
В меблированных комнатах
И действительно, в 1881 году еще оставались эти типы, вывезенные из тамбовских усадеб крепостные. В те года население меблирашек являлось не чем иным, как умирающей в городской обстановке помещичьей степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли – сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица тамбовская Языкова, умершая в этих номерах в глубокой старости, окруженная любимыми собачками и двумя верными барыне дворовыми «девками» – тоже старухами… Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру.
Некоторым жильцам, тоже старикам, тамбовским помещикам, прожившимся догола, помогал сам Мосолов.
Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами, и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель С. Н. Филиппов и доктор Добров, жили актеры-москвичи, словом, спокойные, небогатые люди, любившие уют и тишину.
Казаков жил у своего друга, тамбовского помещика Ознобишина, двоюродного брата Ильи Ознобишина, драматического писателя и прекрасного актера-любителя, останавливавшегося в этом номере во время своих приездов в Москву на зимний сезон.
Номер состоял из трех высоких комнат с большими окнами, выходящими на площадь. На полу лежал огромный мягкий ковер персидского рисунка, какие в те времена ткали крепостные искусницы. Вся мебель – красного дерева с бронзой, такие же трюмо в стиле рококо; стол красного дерева, с двумя башнями по сторонам, с разными ящиками и ящичками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке между окнами – драгоценные, инкрустированные «були» и огромные английские часы с басовым боем… На стенах – наверху портреты предков, а под ними акварели из охотничьей жизни, фотографии, и все – в рамках красного дерева… На камине дорогие бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы – смесь фарфора и бронзы.
В спальне – огромная, тоже красного дерева кровать и над ней ковер с охотничьим рогом, арапниками, кинжалами и портретами борзых собак. Напротив – турецкий диван; над ним масляный портрет какой-то очень красивой амазонки и опять фотографии и гравюры. Рядом с портретом Александра II в серой визитке, с собакой у ног – фотография Герцена и Огарева, а по другую сторону – принцесса Дагмара с собачкой на руках и Гарибальди в круглой шапочке.
Гостиница «Билло» на Большой Лубянке
Это все, что осталось от огромного барского имения и что украшало жизнь одинокого старого барина, когда-то прожигателя жизни, приехавшего в Москву доживать в этом номере свои последние годы.
Приходят в гости к Казакову актеры Киреев и Далматов и один из литераторов. Скучает в одиночестве старик. А потом вдруг:
– Знаете что? Видали ли вы когда-нибудь лакейский театр?
– Не понимаем.
– Ну, так увидите!
Позвонил. Вошел слуга, довольно обтрепанный, но чрезвычайно важный, с седыми баками и совершенно лысой головой.
– Самоварчик прикажете, Александр Дмитриевич?
– Да, пожалуй. Скучно очень…
– Время такое-с, все разъехамшись… Во всем коридоре одна только Языкова барыня… Кто в парк пошел, кто на бульваре сидит… Ко сну прибудут, а теперь еще солнце не село.
Стоит старик, положив руку на спинку кресла, и, видимо, рад поговорить.
– Никанор Маркелыч! А я к вам с просьбой… Вот это мои друзья – актеры… Представьте нам старого барина. Григорий-то здесь?
– У себя в каморке, восьмому нумеру папиросы набивает.
– Позовите его да представьте… мы по рублику вам соберем.