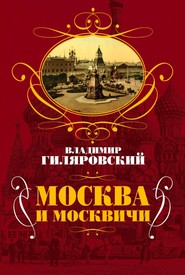По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Москва и москвичи
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Двери магазина были еще заперты, хотя внутри стали заранее собираться приглашенные, проходя со двора.
Привезенные для молебна иконы стояли посреди магазина, среди экзотических растений.
Наконец, к полудню зашевелилась полиция, оттесняя народ на противоположную сторону улицы. Прискакал взвод жандармов и своими конями разделил улицу для проезда важных гостей.
Ровно в полдень, в назначенный час открытия, двери магазина отворились, и у входа появился громадный швейцар. Начали съезжаться гости, сверкая орденами и лентами, военное начальство, штатские генералы в белых штанах и плюмажных треуголках, духовенство в дорогих лиловых рясах. Все явились сюда с какого-то официального богослужения в Успенском соборе. Некоторые, впрочем, заезжали домой и успели переодеться. Елисеев ловко воспользовался торжественным днем.
В зале встречал гостей стройный блондин – Григорий Григорьевич Елисеев в безукоризненном фраке, с «Владимиром» на шее и французским орденом «Почетного легиона» в петлице. Он получил этот важный орден за какое-то очень крупное пожертвование на благотворительность, а «Почетный легион» – за выставку в Париже выдержанных им французских вин.
Архиерея Парфения встретил синодальный хор в своих красных, с откидными рукавами камзолах, выстроившийся около икон и церковнослужителей с ризами для духовенства.
Нечто фантастическое представляла собой внутренность двусветного магазина. Для него Елисеев слил нижний этаж с бельэтажем, совершенно уничтожив зал и гостиные бывшего салона Волконской, и сломал историческую беломраморную лестницу, чтобы очистить место елисеевским винам. Золото и лепные украшения стен и потолка производили впечатление чего-то странного. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, вроде какой-то таинственной ложи, а рядом с ней были редкостные английские часы, огромный золоченый маятник которых казался неподвижным, часы шли бесшумно.
Зал гудел, как муравейник. Готовились к молебну. Духовенство надевало златотканые ризы. Тишина. Тихо входят мундирные и фрачные гости. За ними – долгополые сюртуки именитых таганских купцов, опоздавших к началу.
В половине молебна в дверях появилась громадная, могучая фигура, с первого взгляда напоминающая Тургенева, только еще выше и с огромной седеющей львиной гривой – прямо-таки былинный богатырь.
Странным показался серый пиджак среди мундиров, но большинство знатных гостей обернулось к нему и приветливо кланялось.
А тот по своей близорукости, которой не помогало даже пенсне, ничего и никого не видел. Около него суетились Елисеев и благообразный, в черном сюртуке, управляющий новым магазином.
Это был самый дорогой гость, первый знаток вин, создавший огромное виноделие Удельного ведомства и свои образцовые виноградники «Новый Свет» в Крыму и на Кавказе, – Лев Голицын.
Во второй половине зала был сервирован завтрак.
Серебро и хрусталь сверкали на белоснежных скатертях, повторяя в своих гранях мириады электрических отблесков, как застывшие капли водопада, переливались всеми цветами радуги. А посредине между хрустальными графинами, наполненными винами разных цветов, вкуса и возраста, стояли бутылки всевозможных форм – от простых светлых золотистого шато-икема с выпуклыми стеклянными клеймами до шампанок с бургонским, кубышек мадеры и неуклюжих, примитивных бутылок венгерского. На бутылках старого токая перламутр времени сливался с туманным фоном стекла цвета болотной тины.
На столах все было выставлено сразу, вместе с холодными закусками. Причудливых форм заливные, желе и галантины вздрагивали, огромные красные омары и лангусты прятались в застывших соусах, как в облаках, и багрянили при ярком освещении, а доминировали надо всем своей громадой окорока.
Окорока вареные, с откинутой плащом кожей, румянели розоватым салом. Окорока вестфальские провесные, тоже с откинутым плащом, спорили нежной белизной со скатертью. Они с математической точностью нарезаны были тонкими, как лист, пластами во весь поперечник окорока, и опять пласты были сложены на свои места так, что окорок казался целым.
Жирные остендские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, покрывавшего блюда, казалось, дышали.
Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья. Ароматная паюсная, мартовская, с Сальянских промыслов, пухла на серебряных блюдах; далее сухая мешочная – тонким ножом пополам каждая икринка режется – высилась, сохраняя форму мешков, а лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом, ачуевская – кучугур, стояла огромными глыбами на блюдах…
Ряды столов представляли собой геометрическую фигуру.
Кончился молебен. Начался завтрак. Архиерей в черной рясе и клобуке занял самое почетное место, лицом к часам и завешенной ложе.
Все остальные гости были рассажены строго по чинам и положению в обществе. Под ложей, на эстраде, расположился оркестр музыки.
Из духовенства завтракать остались только архиерей, местный старик священник и протодьякон – бас необычайный. Ему предстояло закончить завтрак провозглашением многолетия. Остальное духовенство, получив «сухими» и корзины лакомств для семей, разъехалось, довольное подарками.
Архиерея угощали самыми дорогими винами, но он только их «пригубливал», давая, впрочем, отзывы, сделавшие бы честь и самому лучшему гурману.
Усердно угощавшему Елисееву архиерей отвечал:
– И не просите, не буду. Когда-нибудь, там, после… А теперь сами видите, владыке не подобает.
Зато протодьякон старался вовсю, вливая в необъятную утробу стакан за стаканом из стоявших перед ним бутылок. Только покрякивал и хвалил.
Становилось шумнее. Запивая редкостные яства дорогими винами, гости пораспустились. После тостов, сопровождавшихся тушами оркестра, вдруг какой-то подгулявший гость встал и потребовал слова. Елисеев взглянул, сделал нервное движение, нагнулся к архиерею и шепнул что-то на ухо. Архиерей мигнул сидевшему на конце стола протодьякону, не спускавшему глаз со своего владыки.
Не замолк еще стук ножа о тарелку, которым оратор требовал внимания, как по зале раздалось рыканье льва: это откашлялся протодьякон, пробуя голос.
Как гора, поднялся он, и загудела по зале его октава, от которой закачались хрустальные висюльки на канделябрах.
– Многолетие дому сему! Здравие и благоденствие!
А когда дошел до «многая лета», даже страшно стало.
Официальная часть торжества кончилась.
Архиерей встал, поклонился и жестом попросил всех остаться на своих местах. Хозяин проводил его к выходу.
Громовые октавы еще переливались бархатным гулом под потолком, как вдруг занавес ложи открылся и из нее, до солнечного блеска освещенной внутри, грянула разудалая песня:
Гайда, тройка, снег пушистый,
Ночь морозная кругом…
Публика сразу пришла в себя, увидав в ложе хор яровских певиц в белых платьях.
Бешено зааплодировали Анне Захаровне, а она, коротенькая и толстая, в лиловом платье, сверкая бриллиантами, кланялась из своей ложи и разводила руками, посылая воздушные поцелуи.
На другой день и далее, многие годы, до самой революции, магазин был полон покупателей, а тротуары – безденежных, а то и совсем голодных любопытных, заглядывавших в окна.
– И едят же люди. Ну, ну!
В этот магазин не приходили: в него приезжали.
С обеих сторон дома на обеих сторонах улицы и глубоко по Гнездниковскому переулку стояли собственные запряжки: пары, одиночки, кареты, коляски, одна другой лучше. Каретники старались превзойти один другого. Здоровенный, с лицом в полнолуние, швейцар в ливрее со светлыми пуговицами, но без гербов, в сопровождении своих помощников выносил корзины и пакеты за дамами в шиншиллях и соболях с кавалерами в бобрах или в шикарных военных «николаевских» шинелях с капюшонами.
Он громовым голосом вызывал кучеров, ставил в экипаж покупки, правой рукой на отлет снимал картуз с позументом, а в левой зажимал полученный «на чай».
Все эти важные покупатели знали продавцов магазина и особенно почтенных звали по имени и отчеству.
– Иван Федорыч, чем полакомите?
Иван Федорович знал вкусы своих покупателей по своему колбасному или рыбному отделению.
Знал, что кому предложить: кому нежной, как сливочное масло, лососины, кому свежего лангуста или омара, чудищем красневшего на окне, кому икру, памятуя, что один любит белужью, другой стерляжью, третий кучугур, а тот сальян. И всех помнил Иван Федорович и разговаривал с каждым таким покупателем, как равный с равным, соображаясь со вкусом каждого.
– Вот, Николай Семеныч, получена из Сибири копченая нельмушка и маринованные налимьи печенки. Очень хороши. Сам я пробовал. Вчера граф Рибопьер с Карлом Александрычем приезжали. Сегодня за второй порцией прислали… Так прикажете завернуть?
Распорядился и быстро пошел навстречу высокой даме, которой все кланялись.
– Что прикажете, Ольга Осиповна?
– А вот что, ты уж мне, Иван Федорыч, фунтик маслица, там какое-то финляндское есть…
Привезенные для молебна иконы стояли посреди магазина, среди экзотических растений.
Наконец, к полудню зашевелилась полиция, оттесняя народ на противоположную сторону улицы. Прискакал взвод жандармов и своими конями разделил улицу для проезда важных гостей.
Ровно в полдень, в назначенный час открытия, двери магазина отворились, и у входа появился громадный швейцар. Начали съезжаться гости, сверкая орденами и лентами, военное начальство, штатские генералы в белых штанах и плюмажных треуголках, духовенство в дорогих лиловых рясах. Все явились сюда с какого-то официального богослужения в Успенском соборе. Некоторые, впрочем, заезжали домой и успели переодеться. Елисеев ловко воспользовался торжественным днем.
В зале встречал гостей стройный блондин – Григорий Григорьевич Елисеев в безукоризненном фраке, с «Владимиром» на шее и французским орденом «Почетного легиона» в петлице. Он получил этот важный орден за какое-то очень крупное пожертвование на благотворительность, а «Почетный легион» – за выставку в Париже выдержанных им французских вин.
Архиерея Парфения встретил синодальный хор в своих красных, с откидными рукавами камзолах, выстроившийся около икон и церковнослужителей с ризами для духовенства.
Нечто фантастическое представляла собой внутренность двусветного магазина. Для него Елисеев слил нижний этаж с бельэтажем, совершенно уничтожив зал и гостиные бывшего салона Волконской, и сломал историческую беломраморную лестницу, чтобы очистить место елисеевским винам. Золото и лепные украшения стен и потолка производили впечатление чего-то странного. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, вроде какой-то таинственной ложи, а рядом с ней были редкостные английские часы, огромный золоченый маятник которых казался неподвижным, часы шли бесшумно.
Зал гудел, как муравейник. Готовились к молебну. Духовенство надевало златотканые ризы. Тишина. Тихо входят мундирные и фрачные гости. За ними – долгополые сюртуки именитых таганских купцов, опоздавших к началу.
В половине молебна в дверях появилась громадная, могучая фигура, с первого взгляда напоминающая Тургенева, только еще выше и с огромной седеющей львиной гривой – прямо-таки былинный богатырь.
Странным показался серый пиджак среди мундиров, но большинство знатных гостей обернулось к нему и приветливо кланялось.
А тот по своей близорукости, которой не помогало даже пенсне, ничего и никого не видел. Около него суетились Елисеев и благообразный, в черном сюртуке, управляющий новым магазином.
Это был самый дорогой гость, первый знаток вин, создавший огромное виноделие Удельного ведомства и свои образцовые виноградники «Новый Свет» в Крыму и на Кавказе, – Лев Голицын.
Во второй половине зала был сервирован завтрак.
Серебро и хрусталь сверкали на белоснежных скатертях, повторяя в своих гранях мириады электрических отблесков, как застывшие капли водопада, переливались всеми цветами радуги. А посредине между хрустальными графинами, наполненными винами разных цветов, вкуса и возраста, стояли бутылки всевозможных форм – от простых светлых золотистого шато-икема с выпуклыми стеклянными клеймами до шампанок с бургонским, кубышек мадеры и неуклюжих, примитивных бутылок венгерского. На бутылках старого токая перламутр времени сливался с туманным фоном стекла цвета болотной тины.
На столах все было выставлено сразу, вместе с холодными закусками. Причудливых форм заливные, желе и галантины вздрагивали, огромные красные омары и лангусты прятались в застывших соусах, как в облаках, и багрянили при ярком освещении, а доминировали надо всем своей громадой окорока.
Окорока вареные, с откинутой плащом кожей, румянели розоватым салом. Окорока вестфальские провесные, тоже с откинутым плащом, спорили нежной белизной со скатертью. Они с математической точностью нарезаны были тонкими, как лист, пластами во весь поперечник окорока, и опять пласты были сложены на свои места так, что окорок казался целым.
Жирные остендские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, покрывавшего блюда, казалось, дышали.
Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья. Ароматная паюсная, мартовская, с Сальянских промыслов, пухла на серебряных блюдах; далее сухая мешочная – тонким ножом пополам каждая икринка режется – высилась, сохраняя форму мешков, а лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом, ачуевская – кучугур, стояла огромными глыбами на блюдах…
Ряды столов представляли собой геометрическую фигуру.
Кончился молебен. Начался завтрак. Архиерей в черной рясе и клобуке занял самое почетное место, лицом к часам и завешенной ложе.
Все остальные гости были рассажены строго по чинам и положению в обществе. Под ложей, на эстраде, расположился оркестр музыки.
Из духовенства завтракать остались только архиерей, местный старик священник и протодьякон – бас необычайный. Ему предстояло закончить завтрак провозглашением многолетия. Остальное духовенство, получив «сухими» и корзины лакомств для семей, разъехалось, довольное подарками.
Архиерея угощали самыми дорогими винами, но он только их «пригубливал», давая, впрочем, отзывы, сделавшие бы честь и самому лучшему гурману.
Усердно угощавшему Елисееву архиерей отвечал:
– И не просите, не буду. Когда-нибудь, там, после… А теперь сами видите, владыке не подобает.
Зато протодьякон старался вовсю, вливая в необъятную утробу стакан за стаканом из стоявших перед ним бутылок. Только покрякивал и хвалил.
Становилось шумнее. Запивая редкостные яства дорогими винами, гости пораспустились. После тостов, сопровождавшихся тушами оркестра, вдруг какой-то подгулявший гость встал и потребовал слова. Елисеев взглянул, сделал нервное движение, нагнулся к архиерею и шепнул что-то на ухо. Архиерей мигнул сидевшему на конце стола протодьякону, не спускавшему глаз со своего владыки.
Не замолк еще стук ножа о тарелку, которым оратор требовал внимания, как по зале раздалось рыканье льва: это откашлялся протодьякон, пробуя голос.
Как гора, поднялся он, и загудела по зале его октава, от которой закачались хрустальные висюльки на канделябрах.
– Многолетие дому сему! Здравие и благоденствие!
А когда дошел до «многая лета», даже страшно стало.
Официальная часть торжества кончилась.
Архиерей встал, поклонился и жестом попросил всех остаться на своих местах. Хозяин проводил его к выходу.
Громовые октавы еще переливались бархатным гулом под потолком, как вдруг занавес ложи открылся и из нее, до солнечного блеска освещенной внутри, грянула разудалая песня:
Гайда, тройка, снег пушистый,
Ночь морозная кругом…
Публика сразу пришла в себя, увидав в ложе хор яровских певиц в белых платьях.
Бешено зааплодировали Анне Захаровне, а она, коротенькая и толстая, в лиловом платье, сверкая бриллиантами, кланялась из своей ложи и разводила руками, посылая воздушные поцелуи.
На другой день и далее, многие годы, до самой революции, магазин был полон покупателей, а тротуары – безденежных, а то и совсем голодных любопытных, заглядывавших в окна.
– И едят же люди. Ну, ну!
В этот магазин не приходили: в него приезжали.
С обеих сторон дома на обеих сторонах улицы и глубоко по Гнездниковскому переулку стояли собственные запряжки: пары, одиночки, кареты, коляски, одна другой лучше. Каретники старались превзойти один другого. Здоровенный, с лицом в полнолуние, швейцар в ливрее со светлыми пуговицами, но без гербов, в сопровождении своих помощников выносил корзины и пакеты за дамами в шиншиллях и соболях с кавалерами в бобрах или в шикарных военных «николаевских» шинелях с капюшонами.
Он громовым голосом вызывал кучеров, ставил в экипаж покупки, правой рукой на отлет снимал картуз с позументом, а в левой зажимал полученный «на чай».
Все эти важные покупатели знали продавцов магазина и особенно почтенных звали по имени и отчеству.
– Иван Федорыч, чем полакомите?
Иван Федорович знал вкусы своих покупателей по своему колбасному или рыбному отделению.
Знал, что кому предложить: кому нежной, как сливочное масло, лососины, кому свежего лангуста или омара, чудищем красневшего на окне, кому икру, памятуя, что один любит белужью, другой стерляжью, третий кучугур, а тот сальян. И всех помнил Иван Федорович и разговаривал с каждым таким покупателем, как равный с равным, соображаясь со вкусом каждого.
– Вот, Николай Семеныч, получена из Сибири копченая нельмушка и маринованные налимьи печенки. Очень хороши. Сам я пробовал. Вчера граф Рибопьер с Карлом Александрычем приезжали. Сегодня за второй порцией прислали… Так прикажете завернуть?
Распорядился и быстро пошел навстречу высокой даме, которой все кланялись.
– Что прикажете, Ольга Осиповна?
– А вот что, ты уж мне, Иван Федорыч, фунтик маслица, там какое-то финляндское есть…