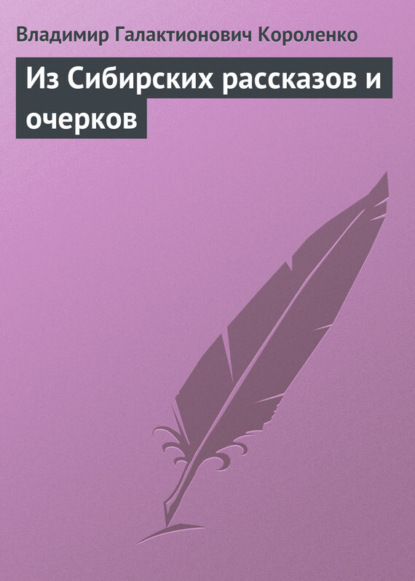По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из Сибирских рассказов и очерков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Подошли мы к нему, видим: сидит старик под кедрой, рукой грудь зажимает, на глазах слезы. Поманил меня к себе. «Вели, говорит, ребятам могилу мне вырыть. Все одно вам сейчас плыть нельзя, надо ночи дождаться, а то как бы с остальными солдатами в проливе не встретиться. Так уж похороните вы меня, ради Христа».
«Что ты, что ты, дядя Буран! – говорю ему. – Нешто живому человеку могилу роют? Мы тебя на амурскую сторону свезем, там на руках понесем… Бог с тобой». – «Нет уж, братец, – отвечает старик, – против своей судьбы не пойдешь, а уж мне судьба лежать на этом острову, видно. Так пусть уж… чуяло сердце… Вот всю-то жизнь, почитай, все из Сибири в Расею рвался, а теперь хоть бы на сибирской земле помереть, а не на этом острову проклятом…»
Подивился я тут на Бурана – совсем не тот старик стал: говорит как следует, в полной памяти, глаза у него ясные, только голос слабый. Собрал нас всех вокруг себя и стал наставлять.
«Слушайте, говорит, ребята, что я стану рассказывать да запоминайте хорошенько. Придется теперь вам без меня по Сибири идти, а мне здесь оставаться. Дело ваше теперь очень опасно – пуще всего, что Салтанова убили. Слух теперь пройдет об этом деле далеко: не то что в Иркутске, в Расее об этом деле узнают. Станут вас в Николаевском сторожить. Смотри, ребята, идите опасно; голод, холод терпите, а уж в деревни-то заходите поменьше, города обходите подальше. Гиляка и гольда не бойтесь – эти вас не тронут. Ну, теперь замечайте хорошенько, стану вам про дорогу по амурской стороне рассказывать. Будет тут перед Николаевским городом заимка, в той заимке наш благодетель живет, приказчик купца Тарханова. Торговал он раньше на Соколином острову с гиляками, заехал с товарами в горы, да и сбился с дороги, заблудился. А с гиляками у него нелады были, ссора. Увидели они, что забрался он в глухое место, и застукали его в овраге; совсем было убили, да как раз на ту пору шли мы самым тем оврагом, соколинские бродяжки… В первый раз еще тогда я с Соколина уходил. Вот заслышали мы, что русский человек в тайге голосом голосит, кинулись в овраг и приказчика от гиляков избавили; с тех самых пор он нашу добродетель помнит. «Должон я, говорит, по гроб моей жизни соколинских ребят наблюдать…» И действительно, с тех пор нашим от него всякое довольствие идет. Разыщите его – счастливы будете и всякую помощь получите».
Вот рассказал нам старик все дороги, наставления дал, а потом говорит:
«Теперь, говорит, ребята, вам времени-то терять незачем. Прикажи-ка, Василий, на этом месте домовину мне вырыть, потому что место хорошее. Пусть хоть ветер с амурской стороны долетает, да море оттуда плещет. Не мешкайте, полно, ребята! Принимайтесь за работу живее!»
Послушались мы.
Тут старик под кедрой сидит, а тут мы ему могилу роем; вырыли могилу ножами, помолились богу, старик уж у нас молчит, только головой качает, слезно плачет. Село солнце, старик у нас помер. Стемнело, мы уж и яму сровняли.
Как выплыли мы на середину пролива, луна на небо взошла, посветлело. Оглянулись все, сняли шапки… За нами, сзади, Соколиный остров горами высится, на утесике-то Буранова кедра стоит…
VII
Переехали мы на амурскую сторону, а уж там гиляки говорят: «Салтанова голова… вода». Бедовые эти инородцы, сороки им на хвосте вести носят. Что ни случись, все в ту же минуту узнают. Повстречали мы их несколько человек у моря, рыбу они ловили. Мотают головами, смеются; видно, что рады сами. А мы думаем: хорошо, мол, вам, чертям, смеяться, а нам-то каково! Из-за этой головы нам, может, всем теперь своих голов не сносить. Ну, дали они нам рыбы, расспросили мы их про все дороги, какие тут были, и пошли себе по своей. Идем по земле, словно по камню горячему, каждого шороху пугаемся, каждую заимку обходим, от русского человека тотчас в тайгу хоронимся, следы заметаем. Страшно ведь…
Днем больше в тайге отдыхали, по ночам шли напролет. К Тархановой заимке подошли на рассвете. Стоит в лесу заимка новая, кругом огорожена, вороты заперты накрепко. По приметам выходит та самая, про какую Буран рассказывал. Вот подошли мы, вежливенько постучались, смотрим, вздувают в заимке огонь. «Кто, мол, тут, что за люди?»
– Бродяжки, – говорим, – от Бурана Стахею Митричу поклон принесли.
А на ту пору Стахей Митрич, главный-то приказчик тархановский, в отлучке находился, а на заимке подручного оставил, и был от него подручному наказ: в случае придут соколинские ребята, давать им по пяти рублей на брата, да сапоги, да полушубок, белья и провизии – сколько потребуется. «Сколько бы их ни было, говорит, всех удовлетвори, собери работников, да при них выдачу и засвидетельствуй. Тут и отчет весь!»
А уж на заимке тоже про Салтанова узнали. Приказчик-то увидел нас и испужался.
«Ах, братцы, – говорит, – не вы ли же этого Салтанова прикончили? Беда ведь!»
«Ну, мол, мы аль не мы, об этом разговаривать нечего. А не будет ли от вашей милости какой помощи? От Бурана мы к Стахею Митричу с поклоном».
«А сам-то Буран что же? Али опять на остров попал?»
«Попал, говорим, да приказал долго жить».
«Ну, царство ему небесное… Хороший бродяга был, честных правил, хотя и незадачливый. Стахей Митрич и по сю пору его вспоминает. Теперь, чай, в поминанье запишет, только вот имя-то ему как? Не знаете ли, ребята?»
– «Не знаем мы. Буран да Буран, так и звали. Чай, покойник и сам-от свое имя забыл, потому что бродяге не к чему».
– «То-то вот. Эх, братцы, жизнь-то, жизнь ваша!.. Захочет поп об вас богу сказать, и то не знает, как назвать… тоже, чай, у старика в своей стороне родня была: братья и сестры, а может, и родные детки».
«Как, чай, не быть. Бродяга-то хоть имя свое крещеное бросил, а тоже ведь и его баба родила, как и людей…»
«Горькая ваша жизнь, ох, горькая!»
«Чего горше: едим прошеное, носим брошеное, помрем – и то в землю не пойдем. Верно! Не всякому ведь бродяге и могила-то достанется. Помрешь в пустыне – зверь сожрет, птица расклюет… Кости – и те серые волки врозь растащут. Как же не горькая жизнь?»
Пригорюнились мы… Хоть жалостные-то слова мы для приказчика говорим, – потому сибиряку чем жалостнее скажешь, то он больше тебя наградит, – ну, а все же видим и сами, что правда, так оно и по-настоящему точка в точку выходит. Вот, думаем, он сейчас зевнет, да перекрестится, да и завалится спать… в тепле, да в сытости, да никого-то он не боится, а мы пойдем по дикой тайге путаться глухою ночью да точно нечисть болотная с петухами от крещеных людей хорониться.
«Ну, однако, ребята, – говорит приказчик, – пора мне и на боковую. Жертвую вам от себя по двугривенному на брата да по положению, что следует, получите и ступайте себе с богом. Рабочих всех будить не стану, – трое есть у меня понадежнее, так они и засвидетельствуют для отчету. А то как бог с вами беды не нажить… Смотрите, в Николаевский город лучше не заглядывайте. Намеднись я оттуда приехал: исправник ноне живет бойкой; приказал всех прохожих имать, где какой ни объявится. «Сороке, говорит, пролететь не дам, заяц мимо не проскачет, зверь не прорыщет, а уж этих я молодцов-соколинцев изымаю». Счастливы будете, ежели удастся вам мимо пройти, а уж в город-то ни за коим делом не заходите».
Выдал он нам по положению, рыбы еще дал несколько, да от себя по двугривенному накинул. Потом перекрестился на небо, ушел к себе на заимку и дверь запер. Погасили сибиряки огни, легли спать – до свету-то еще не близко. А мы пошли себе своею дорогой, и очень нам всем в ту ночь тоскливо было.
Ох, и люта же тоска на бродягу живет! Ночка-то темная, тайга-то глухая… дождем тебя моет, ветром тебя сушит и на всем-то, на всем белом свете нет тебе родного угла, ни приюту… Все вот на родину тянешься, а приди на родину, там тебя всякая собака за бродягу знает. А начальства-то много, да начальство-то строго… Долго ли на родине погуляешь – опять тюрьма!
Да еще и тюрьма-то иной раз раем вспоминается, право… Вот и в ту ночь, идем-идем, вдруг Володька и говорит:
«А что, братцы, что-то теперь наши поделывают?»
«Это ты про кого, мол?»
«Да наши, на Соколином острову, в седьмой казарме. Чай, спят себе теперь, и горюшка мало!.. А мы вот тут… Эх, не надо бы и ходить-то…»
Прикрикнул я на него. «Полно, мол, тебе бабиться! И не ходил бы, коли дух в тебе короткий – на других тоску нытьем нагоняешь».
А сам, признаться, тоже задумался. Притомились мы, идем – дремлем; бродяге это в привычку на ходу спать. И чуть маленько забудусь, сейчас казарма и приснится. Месяц будто светит и стенка на свету поблескивает, а за решетчатыми окнами – нары, а на нарах арестантики спят рядами. А потом приснится, и сам будто лежу, потягиваюсь… Потянусь – и сна не бывало…
Ну, нет того сна лютее, как отец с матерью приснятся. Ничего будто со мною не бывало – ни тюрьмы, ни Соколиного острова, ни этого кордону. Лежу будто в горенке родительской, и мать мне волосы чешет и гладит. А на столе свечка стоит, и за столом сидит отец, очки у него надеты, и старинную книгу читает. Начетчик был. А мать будто песню поет.
Проснулся я от этого сна – кажись, нож бы в сердце, так в ту же пору. Вместо горенки родительской – глухая тропа таежная. Впереди-то Макаров идет, а мы за ним гусем. Ветер подымется, пошелестит ветвями и стихнет. А вдали, сквозь дерев, море виднеется, и над морем край неба просвечивает – значит, скоро заря, и нам куда-нибудь в овраге хорониться. И никогда-то – может, и сами слышали, – никогда оно не молчит, море-то. Все будто говорит что-то, песню поет али так бормочет… Оттого мне во сне все песня и снилась. Пуще всего нашему брату от моря тоска, потому что мы к нему не привычны.
Стали ближе к Николаевскому подаваться; заимки пошли чаще, и нам еще опаснее. Как-никак подвигаемся помаленьку вперед, да тихо; ночью идем, а с утра забиваемся в глушь, где уж не то что человек – зверь не прорыщет, птица не пролетит.
Николаевск город надо бы подальше обойти, да уж мы притомились по пустым местам, да и припасы кончились. Вот подходим к реке под вечер, видим: на берегу люди какие-то. Пригляделись, ан это вольная команда[8 - Вольную команду составляют каторжники, отбывшие положенный срок испытания. Они живут не в тюрьме, а на вольных квартирах, хотя все же и они лично, и их труд подвергаются известному контролю и обусловлены известными правилами. (Примеч. В. Г. Короленко.)] с сетями рыбу ловит. Ну, и мы без страху подходим:
«Здорово, мол, господа, вольная команда!»
«Здравствуйте, – отвечают. – Издалеча ли бог несет?»
Слово за слово, разговорились. Потом староста ихний посмотрел на нас пристально, отозвал меня к сторонке и спрашивает:
«Вы, господа проходящие, не с Соколиного ли острову? Не вы ли это Салтанова «накрыли»?»
Постеснялся я, признаться, сказать ему откровенно всю правду. Он хошь и свой брат, да в этаком деле и своему-то не сразу доверишься. Да и то сказать: вольная команда все же не то, что арестантская артель: захочет он, например, перед начальством выслужиться, придет и доложит тайком – он ведь «вольный». В тюрьмах у нас все фискалы наперечет – чуть что, сейчас уж знаем, на кого думать. А на воле-то как узнаешь?
Вот видит он, что я позамялся, и говорит опять:
«Вы меня не опасайтесь: я своего брата выдавать никогда не согласен, да и дела мне нет. Не вы, так и не вы! А только, как было слышно в городе, что на Соколине сделано качество, и вижу я теперь, что вас одиннадцать человек, то я и догадался. Ох, ребята, беда ведь это, право, беда! Главное дело: качество-то большое, да и исправник у нас ноне дошлый. Ну, это дело ваше… Пройдете мимо – счастливы будете, а покамест вот осталось у нас артельного припасу достаточно, и как нонче нам домой возвращаться, то получайте себе наш хлеб, да еще рыбы вам отпустим. Не нужно ли котла?»
«Пожалуй, говорю, лишний не помешает».
«Берите артельный… Да еще из городу ночью я вам кое-чего привезу. Надо ведь своему брату помощь делать».
Легче тут нам стало. Снял я шапку, поклонился доброму человеку; товарищи тоже ему кланяются… Плачем… И то дорого, что припасами наделил, а еще пуще того дорого, что доброе слово услыхали. До сих пор шли, от людей прятались, потому знаем: смерть нам от людей предстоит, больше ничего. А тут пожалели нас.
Ну, на радостях-то чуть было беды себе не наделали.