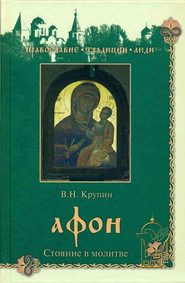По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Прошли времена, остались сроки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Загудела она, а мне что бабы, что шмели гудят – одно и то же, у баб слов нет, одно гудение, да еще урчание с голоду...
– Да еще рычание, – не утерпел Геня, но тут же закрыл себе рот большой ладошкой.
– В общем, чтоб ее не слушать, мы перешли из барака под навес.
– Вид протеста, – прокомментировал Геня.
– Перешли под навес, – совершенно Гени не замечая, рассказывал Арсеня, – перешли, добавили: он – фронтовую, я – лагерную, и запели, мы пели обычно "Во саду при долине".
– "Громко-о пе-ел со-оло-овей", – затянул Геня и оборвал.
Арсеня пододвинул ему бутылку.
– Запели, пели негромко, не орали...
Тут Геня сунулся еще раз, но для начала честно предупредил, что суется последний раз, он не утерпел, сказал частушку на тему голоса:
– "Что ты, батяне поешь, да разве голос нехорош? У нас такие голоса – поднимают волоса".
– Волос нет, подымать нечего, я пою, впелся, гляжу – он откинулся, готов!
– Как это плохо, – горько сказал Николай Иванович, – как это плохо, знали бы вы, что он выпивши умер. Прости, Господи, рабу грешному, в ведении или в неведении грех свершившему.
– Это на мне грех, – сказал Арсеня.
– И на тебе, Арсюша.
– Он же не самоубийца, – возразил Геня, – это самоубийц осуждают, он же от старости. День туда, день сюда – несущественно.
– Минута существенна, едрена мать, согрешишь с тобой! – Арсеня в сердцах хватанул порцию побольше предыдущих.
В избе становилось не просто жарко, а душно. Вышли на крыльцо, оно было в тени, под крыльцом возилась и вздыхала, но не показывалась, собака.
– Лет пять мне было, я навоз возил, – вспомнил Арсений. – Тебе, Коль, что объяснять, ты сам все это прошел.
– Я еще даже немного захватил. – Это Геня.
– Навоз возил. Пять лет. Отец нагрузит телегу в ограде, посадит, даст вожжи, я поехал, мать в поле встречает. А в войну, тебя уж долго не было, думали, пропал...
– Я был без права переписки.
– Тебя ж никто не осуждает, тебя все жалели, и Лешка жалел. Ну, бывало, матюгает, это когда отца и Гришку вспомнит, а так чего осуждать. Тебе голову закрутили... Мы с сестренкой сильно заголодали, ей – шесть, мне – двенадцатый. Мать на заработках. Чего оставила – приели, экономить дети не умеют. Сосед-кладовщик подучил воровать. Залезли в склад сквозь крышу, взяли гороховой муки кошелек, а списали на нас семьдесят килограмм. Судили, на суде говорят: да как это ребенок утащит через потолок, до потолка три метра, такую тяжесть протащить. Дали два года. Сидел, там и болеть начал. Но там все-таки кормили, дома многие помирали. В тюрьме ходил в угол и молился, крестился, прощения просил за воровство. Я во всю жизнь окурка докуренного неспрошенного не украл. И вышел я без наколок и больше не воровал. А наколки там делали, только иголки щелкали. Меня там называли ишаком, говорили: дураков работа любит, а я не мог не работать, и каши дадут тарелку, а то и хлеба срезок с маслом, это мне за диво казалось. Я работу любил. Война кончилась, выпустили, сказали: мы тебе нигде не запишем, что сидел, и ты никому не говори. Будто в деревне утаишь. Работал за трудодни, доходило на них по двести грамм. Уже и Райка работала. Взяли в армию, я ж по документам чистый. В армии заболел экземой, ноги от подколенок и выше. В санчасть попал, работал и там, меня полковник полюбил, придешь на прием, штаны спустишь, он: "Чудинов, неохота тебя лечить, ты мне в санчасти нужен, я тебя из роты спишу, иди к нам". Вылечил, только потом, бывало, когда напьюсь до психозы, то опять краснота выступала и чесалось.
Вернулся, с первой женой не пожилось. Она старше на десять лет, но тут не город, не под ручку ходить. Из-за Райки распазгались. Мать тогда уже тоже на кладбище отнесли, я хотел Райку в люди вывести. Жена в штыки: ей не в школу ходить, а работать пора. Райка рослая была, крепкая. Председатель тоже навалился, поставили в борозду. А мне жалко сестру. И пошла у нас с женой раскостерка. Женился на этой, тут болезнь. А болезнь от нервов. В лесу выпиливали дупла для пчел, да подвалили лося, это на пятерых. Все молчком. А был Кибардин от райфо, является – в клеть. Тогда, парень, ордеров не предъявляли ни на арест, ни на обыск. У меня ноги задрожали – увидит ногу, нет, увидел стружки – Анюта с матерью, с тещей моей, делали цветы, мы скрывались от налогов. И на этого Кибардина грешу, потому что налог не выписал, а штраф дали небольшой, так что сам смекай, чем ему Анютка вмастила. Штраф надо было деньгами платить, а работали мы за трудодни, за те же цветы выручили. Пятерых родила, все не в меня. Почто я, почто тогда-то не приглядывался? Называли меня дураком, а я и есть дурак. Башка темная была, работал да пил. Соседи подъедали, я ничего не понимал, меня вроде не касалось. Когда заподозрил, поднял на нее руку, опять виноват, на меня подала, меня судить. Про первую, детскую судимость открыла. Но у людей совесть иногда есть, судили общественным судом, люди сказали: живите врозь. Все деньги перевели на нее. Заходил на почту узнавать, сколько переводят, я тогда за деньги пастушил, говорят: скажем только через прокуратуру. Это что ж за закон – мужа обворовали, и не узнай, на сколько обворовали. Разбежались, она осталась в Святополье, я здесь. Избу года четыре строил, в ней и умру. Дети прибегали, они ни при чем, я детей люблю. – Арсеня покосился на Геню, но тот спал сидя, завесившись упавшими волосами. – Чужих и вырастил. Своего одного нет.
– Может, Арсюш, ты ошибаешься?
– Хо! Я фотографии по тыще раз перебрал, я, конечно, с придурью, но не дурак же окончательный, могу сравнивать. Началось у нее с коммуниста Приемова. Работать не хотел, проверял кожуха, пожарник. Мы спали врозь. Я так урабатывался, мне интерес был сделать работу, я об ночи не думал, а она свое отобрала. Это дело пахучее, парень, учуяла и пошла. Ребенка родит, уж соседи знали от кого. Че тебе объяснять, сам мужик.
– Я же не был женат.
– Совсем?
– Совсем.
– А с какой-то Верой живешь?
– Так это сестра во Христе. Сошлись без греха, мне уже за семьдесят было, ей – семьдесят. Она и настояла. Нет, тут, брат, все без греха. И женат ни разу не был, и вообще ни разу не грешил.
– С бабами не спал? – вытаращился Арсеня.
– Ни разу, – твердо произнес Николай Иванович. – Ни разу. – И добавил, глядя на недоверчиво встряхивающего головой Арсеню: – Мне это легко досталось. Читаешь труды монахов, особенно "Добротолюбие", там много уделено борьбе с плотью. А мне жизнь помогла: в тюрьме плоть моя была немощна, а это почти тридцать лет, вышел стариком. Был однажды соблазн, но подумал, подумал, думаю: весь в грехах и так, еще и...
Они долго молчали. Только без устали носились над ними серые стрижи. О них вначале и заговорил Арсеня:
– А знаешь ли, что стриж на земле гибнет? Если на землю сядет, ему не взлететь, так, в воздухе, и живут. Да-а. Да знаешь – деревенский, чать... Да-а, Николай Иванович, да-а. Вот да так да. Ни разу, ни с кем? Нет, я, парень, был ходок еще тот. Значит, еще и это я за тебя свершил.
– Ходок был, а дети, говоришь, не твои.
– Не мои. Тут уж я никакого "Яблочка" не плясывал, не матрос был, не матрос. Да-а. Вот так-так, Иван Тимофеевич, родил ты четырех сыновей, а они вчетвером ни одного не родили. Григорий погиб, у Алексея был один, Женька, Женька утонул, у него, правда, был смастерен наследник, но припадочный, уж считать это или нет, это, парень, только в количество, только в название. У тебя, значит, ничем никого, и у меня никого. Как детдомовцев воспитывал. Фамилию дал, а кровь не взяли. Да, Иван Тимофеевич, миленький, уж не посетуй, жизнь в обратно не прожить, только переживать.
Геня проснулся. Сбегал за угол, потом сбегал к колодцу, выкачал ведро, чем-то оно ему не понравилось, он выплеснул его, еще выкачал, долго пил, потом облился из ведра и мокрешенький, оставляя на крыльце мокрый след, ушел в избу. Но ненадолго. Вернулся и вступил в разговор:
– Дядь Коль, и ты, батя, слушай, ты не будь пассивным, мы от пассивности гибнем, вот чего я рассуждаю, подтвердите. Говорить?
– Мели!
– Значит, семнадцать миллионов тунеядцев. Но из них нужны, скажем, три миллиона, их прокормим. Но даже если мы доведем до трех миллионов, они опять разрастутся. Почему? От недоверия и проверок. Раньше верили. Написал человек отчет, зачем его проверять? А у нас один написал – пятеро проверяют, пятеро перепроверяют, пятеро едут с комиссией.
– Арсюш, – улыбнулся Николай Иванович, – гордись, кого воспитал. Разве неправильно рассуждает?
– У нас рассуждателей в каждой дыре по три затычки сидит. Чего мне-то не принес? Сигареты захвати.
Солнце стало подбираться к ним, вначале к ногам. Арсеня выпростал ступни из тапочек и подставил теплу.
– Я, Коля, молчу годами, молчу и молчу. Ты думаешь, раз Генька болтун, так в меня? Нет, я молчу.
– Я тоже лаконичный, – сказал Геня. – У меня словам тесно, мыслям просторно. В прошлую осень грязища была, она всегда здесь, но тогда особенно. Я приехал сюда и застрял. Пошел на почту и дал телеграмму такого содержания: "Идут дожди дорог нет трактора тонут прощай". Во текст!
– Я служил в армии, мне приснился сон... – начал Арсеня, но Геня вновь стал перебивать.
– У вас еще армия такая была, что сны успевали видеть. У нас какой сон, у нас не успеешь по подъему – в тебя табуреткой.
– Не налью больше, – пригрозил Арсеня, и Геня испуганно смолк. – Приснился сон. Старичок, седой весь, голова белая, весь оброс, подошел и говорит: "Ты проживешь долго, но будешь мучиться". А еще был сон. На небе круг, в него вошли с саблями, стали биться. Потом из круга вышли и сели за стол, стол распилили пополам. А это была война и перемирие в Корее. А уж вот последний был сон: будто у меня зубы валятся и валятся изо рта, и все крупные, жемчужные. А утром по радио говорят: наши войска пошли в Афганистан.
Опять помолчали.
– Ты мать помнишь? – спросил Арсеня.