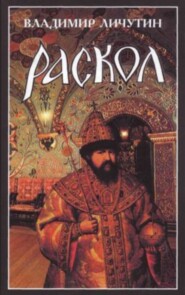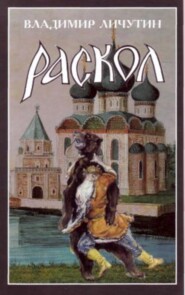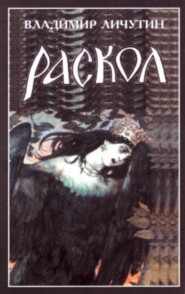По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Миледи Ротман
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эх, несчастный, и почто ты теребишь мне душу? Иль я не потерялся на росстани дорог, случайно занесенный в этот мир, и не знаю, куда двинуть, чтобы найти успокоения? Вот и меня-то не пнет разве ленивый. Предлагаешь кому купить работу за десятку лишь, а словно бы протягиваешь руку за милостыней, и таким холодным взглядом окатят тебя, что, кажется, прожгут до самых печенок. Ну и что? зажму в груди гордыню и лечу домой по Слободе, чтобы никого не видеть и не знать. Закроюсь на крюк, да и мечусь по берлоге, бормочу что-то, говорю сам с собою, словно сошедший с ума, и столько горечи выльется из груди, что весь мир можно затопить ею до макушки. А то и падешь на кровать, да после и всплачешь, никем не понятый, никому не нужный, и такая жалость по себе обоймет, что впору веревку на шею вздеть. Ино и взвыл бы по-волчьи, да стыд мешает; и день, и другой жжешь этот дресвяный камень, калишь в груди, пока не рассыплется в прах и не источится вон с дурнотою пережитых чувств… Эх, псишко дорогой, братья мы с тобою по ярму; и пригрел бы, приголубил, да вот сам питаюсь из чужой горсти, не зная, что день грядущий мне поднесет. Ступай, милый, прочь, не позывай меня на жалость, не трави душу; пошарь-ко лучше по дворам и заулкам, вдруг и выдернешь ненароком кость из чужой миски, только берегись, как бы не намяли тебе шею да не выгрызли боки…
Так размышлял Братилов, набрасывая на картонке сиреневое облако задымившегося ивняка, и соломенные хохлы болотной осоты, и черную собачью морду с белой отметиной, с гармошкой морщин на высоком лбу, и два карих крохотных, глубоко посаженных глаза, на дне которых остоялись недоумение и обида на все человечество.
* * *
…Брюхо добра не помнит, ему все есть подавай.
Из кипы почеркушек выдернул пару картонок, подумал и из-за дивана, как из скрытни, добыл еще одну; изба, заваленная снегами, написана в подробностях. Ничем не примечательный домишко в одно жило, с косыми наличниками, с ярко-голубой дверью и с геранью в окне. Митя Вараксин просил написать его житье, да все никак не выкупит работу, де, нет денег. Может, и так? Но на бутылек всегда у него сыщутся рублики, на рюмку горькой всегда приготовлен троячок. А ведь два дня писал, весь измерзся, чуть «гриба» не схватил и только баней спасся.
Завернул этюды в газету, сунул в зеленую клеенчатую сумку, так знакомую в Слободе каждой собаке.
Еще потемок нет, но уже засумерничало и кротким покоем обложило окраины городка, и сам воздух, дотоль запашистый, ненадышливый, сладимый, как-то сразу выстудился, будто из сырого погреба, открытого на просушку, потянула гнилая струя. Попадает Братилов с промыслом по Розе Люксембург, размышляя, куда бы сразу верно направить стопы, чтобы поймать удачу; ежли вскочишь в крайний вагон, не промахнешься, то и везде после выпадет удача. Такой закон жизни. Лишь бы бабу с пустым ведром не встретить, мужика с метлою и девку с помоями. Обдаст из таза – не утрешься. Откуда тогда ждать доходов?..
Издали увидал тетю Анфису, хотел нырнуть от нее, да не успел. Идет по мосткам строевым шагом, в плюшевой вечной жакетке, сохранившейся еще от войны, востроносая, глаза темные, цепкие, недоверчивые. Заметила угол картона в знакомой зеленой сумке и сразу все поняла, усмехнулась:
– Опять рыщешь, кому бы продать?
– Ну, ищу…
– Ох, парень, шел бы ты на работу. Чего не устраиваешься, скажи? Хватит шары в кармане катать. Себя старишь и детей малишь. Ты пошто, злодей, работу не ищешь? Здоровый парень, видом продать, и без семьи. И-эх! Тьфу на тебя!
– А я что, не работаю, по-твоему, да? Ты откуда взяла, что не работаю? Тетя Анфиса, ты зря со мной так разговариваешь, – с полуслова завелся Алексей, вскипел и, не слыша себя, закричал на всю улицу: – Только вы работаете, а я груши околачиваю, да? Постояла бы на морозе весь день, сопли на кулак помотала бы, иль под дождем!..
– Успокойся. Чего такого сказала, – поджала тонкие губы. – Работал бы, дак на хлеб всегда имел.
– Я спокоен, как покойник на похоронах.
– Ну и ладно… Зашел бы когда. Камбалы насыплю. Оголодал ведь.
– Ладно, – буркнул Братилов, пряча глаза. Удаляясь, подумал: «И чего заершился? Добрая тетя, хорошая, всегда поможет, не даст ноги протянуть».
Мерзлым высоким крыльцом поднялся в продлавку. За прилавком щекастая Тоська, на лице будто розы цветут, грудь – как буфет, вернее – две подушки: на одну голову уложил, другою сверху прикрылся – и спи-почивай. Бывалоче, за одной партой сидели, и была у Тоськи желтая рахитичная шейка, волосы туго сплетены в два мышиных хвостика, и щеки серой пылью присыпаны. Подмешали в тесто доброй муки, дали выстояться в тепле, и вот на дрожжах разнесло бабу. Вылитый кустодиевский тип с картины «Чаепитие купчихи». Сразу в который раз оценил Братилов Тоську, состроил умильную котовью гримасу, и серые пушистые глаза его залоснились, и слюнка под усами натекла. Облизнулся, сделал коварный выпад рукою, словно бы собрался цапнуть бабу за пудовую титьку. Тоська погрозила пальцем, подобрала пунцовые губы в постный бантик:
– Кушать хочется?
– Очень хочется… Купи. – И без проволочки достал из сумки картонку. – Искусство, смотри, какая красота, севером пахнет. Живешь, как мышь в крупе, среди мешков и кадей. Дома ляжешь на диван, сбоку мужа положишь и гляди себе на лес. Все тридцать три удовольствия. И любовь, и грезы…
– Ой, Алешенька, да твоей стряпни уж и весить-то некуда. Все стены завешаны.
– Ничего, собирай пока, это капитал на будущее. Великим стану, будешь продавать. Пять тысяч баксов за штуку. А то и пятьдесят. Поедешь на Канары, там пухлых любят, мужа пинком под зад, заведешь себе француза… Бери, даром отдаю. Ну, за двадцатник всего.
Тоська приценивалась к картине, как к эмалированной кастрюле: прищурившись высматривала, нет ли изъяна, скоркала ногтем краски. Братилов чувствовал, как голову заливает дурная муть, боялся взрыва, сердечной смуты, негодования и сплошного крика, который долго будет стоять в ушах. Крепился из последней силы, ухмылялся, цедил длинный сивый ус, мотал на палец и подергивал вместе с губою вниз. От боли очухивался.
– Десятка устроит?
– За пятерку возьму, пожалуй, – деловито добила сговор Тоська, кинула на прилавок смятую бумажонку, словно от сердца оторвала.
Отступать Братилову было некуда. Плюнешь против ветра, лишь себя накажешь. А как бы хорошо порвать ее на клочки, эту треклятую пятерку, развеять по магазину, а еще лучше – кинуть Тоське в лицо: де, вот вам ваша милостыня, подавитесь ею. Два дня торчал на морозе, как волк, трясся за этюдником, дыханием своим нагревал застывшее масло, костер палил, ознобил руки и ноги. И вот платою за искусство бутылка водки.
…Несчастный, провинциальный художник, угодивший в расцветающий демократический сад, по которому текут молочные реки с кисельными берегами. Да вот не подступись к ним, ототрут плечом да еще и лещей наподдадут под микитки. Как все унизить тебя хотят, стоптать под ноги, будто старую ветошь; опустили глаза в корыто и ну чавкать да подхрюкивать; забыли, лихостники, что живут посреди неумирающей красоты; Гос-по-ди, дай вразумления и силы!
Братилов бросил на Тоську уничтожающий взгляд и, схватив пятерку, выскочил на улицу. Тоська недоуменно пожала плечами и принялась за торговлю.
«Зря взъелся-то», – пожурил себя Братилов, с высокого крыльца озирая потускневшую Слободу в оба конца; снежная пыль сыпалась с пожухлых небес, как бы закатывая городишко в легкий марлевый куколь; домишки огрузли и виделись как бы сквозь прозрачную кисею. Кое-где уже свет забрезжил, работный люд садился за ужну, голубовато маревил, отражаясь на стеклах, мировой дьявол-соглядатай и развратитель.
Самые тяжелые, муторные часы для Братилова: работать уже темно и спать рано, надо как-то коротать время, бороться с приступающей тоскою.
Деревянные мостки хрустят под валенками, воздух прокалился, слегка задымел от топящихся печей, но в нем чувствуется уже неиссякаемый хмель весны; снега, что за день разжижли, развязились, к вечеру прихватило, и от них сочился возбуждающий сердце особенный холодок, молодящий грудь и подбивающий пятки. «Эх, гуляй, рванина, от рубля и выше! Какие наши годы. Еще на душе не скисло и добрецо не свисло. Мужик с мошною – что рак с клешнею».
Гулко, размашисто топоча по мосткам, пронеслась ватажка девчат, обдала запахом молодого невестящегося тела, табачины и иноземных притирок. Оттеснили Братилова ко краю половиц, чуть не свергли в сугроб молодые кобылки, и в наведенных тушью глазах поймал художник уже разбуженную похотцу. Братилов проводил их усталым взглядом и вдруг понял, как безнадежно уже стар он. И умудренно подумал о себе, как о тягловой лошади, окончательно заезженной большой семьею: «Малые детки – малые бедки; большие детки – большие бедки. Вот и смотри ныне, как бы не стала дочи шлюхою, а сын бандитом. Веселые на дворе времена…». Тут распахнулась дверь бара, и на улицу вместе с клубами чада вырвалась шалманная песенка:
Нашел тебя я босую, нагую, безволосую
И целый год в порядок приводил.
А ты мне изменила, другого полюбила,
Зачем же ты мне шарики крутила в голове?..
Братилов нерешительно потоптался, будто собирался кинуться следом за шалавами. Опутало его легкое наваждение, блазнь вскружила голову; весною всякая козявка бредит любовью, а каково ядреному стоялому мужику, что не горбатится в лесу иль на пашне, держать в смирении тугую плоть, что без суровых трудов постоянно ворошится и напоминает о себе. «Эх-ма! – пристукнул Братилов ногою по скрипучей половице, словно собрался испроломить ее. – Были прежде денечки золотые, а нынче оловянные. В глазах плесень, на языке срам. Как бы так дожить останние годочки, чтобы вовсе не свалиться в скверну?» – «Дурак, молитву позабыл, а об рае хлопочешь», – ответил Небесный Голос.
Через дорогу призывно светились все три оконца в музыкальной избушке часовщика. Малиновый свет от абажура завораживал, невольно притягивал взгляд. Каждый прохожий, наверное, думал: де, вот где счастие земное заселилось…
Братилов околотил у порога валенки, забрел в темные просторные сени, постучал в дверь. «Ктой там?» – строго спросил Митя Вараксин. «Это я пришел», – ответил Братилов, уже прикрывая за собою дверь. «Алешенька, дорогой, проходи, – ласково позвал Вараксин, – гостем будешь».
Братилов привычно оглядел знакомое житье: на всех стенах, на комоде, на подоконниках, на припечном бревне над умывальником и даже на воронце под полатями висели и стояли всякой моды часы и считали время, неумолчно всхлипывали, куковали, звенели, били бои, ковали и токовали, вплетали свой особенный тонявый, глухой иль баритональный голос в неумолкающий оркестр, дирижером которого был сам Творец. Тенькали дверцы гиревых часов, наружу выпархивала птичка и, крутя головою, насмешливо куковала, нагадывала земные сроки. Но скоро захлебывалась, непутевая, и тут же пряталась в своем деревянном ларце, прикрывала гнездышко, в полной темени отсчитывая по памяти следующий упряг. Высокие напольные часы чаще всех напоминали о себе дребезжащим старческим басом, последний бой обрывая стеклянным голоском.
Вараксин в одиночестве сидел за столом, не испытывая никакой печали. Жена Тоська еще не вернулась из продлавки, и часовщик продлевал блаженные минуты рюмкою, закусывая, как говорится в народе, рукавом. У ноги стояла полупустая бутылка, у локтя полная банка чинариков; синий чад непродышливой пеленою слоился над головой мастера, лениво, закуделиваясь в кольца, уплывал в приоткрытую трубу. Баба придет с работы, конечно, лаяться будет, рвать из руки бутылек, грозить разводом, – но схватка житейская станет впереди, а пока в приятстве с художником можно будет скрасить время. Вараксин тянул папиросы одну за другою, и дух этот был особенно тяжким, смоляным, как наждаком, протирал горло Братилова; от умирающего окурка он прижигал следующую «беломорину», пускал сиреневые кольца к алому абажуру, и эту дымную вязь сосредоточенно рассматривал на свет. Часовщик был при параде, в темном отглаженном костюме, в белом свитерке со стоячим воротом: художник пригляделся к хозяину и вдруг нашел его необычно красивым. Сухощекое лицо, благородный пережимистый нос, темные усики над верхней губою, лазоревые, необычного цвета распахнутые глаза и густая челка с седой метиной над присобранным в гармошку лбом.
– Слушай, Митя, ты же красавчик. Я тебя буду рисовать. Ты согласен? – с волнением воскликнул Братилов и, вытянув пред собою указательный палец, прищурился, приценился и как бы решительно вставил обличье часовщика в невидимую раму. – Ну, ты даешь. Я тобой восхищаюсь. Пьешь каждый день по бутыльку, выжигаешь по две пачки этой дряни, откуда в тебе железное здоровье? Ведь лошадь от одной только папиросы отбрасывает копыта. А если сравнить, она вон какая пред тобою, целая гора мяса.
Вараксин внимательно слушал гостя, слюнявил бумажный мундштук и вдруг сказал:
– Я не художник, но и без тебя знаю, что я красавчик. Я это и не скрываю. Бывало, по мне девки сохли. Да вот баба досталась – кошка драная. Разведусь с нею, больно храпит, три холеры – две чумы.
– По габаритам-то не кошка, а целая корова холмогорской породы. Ее в кровати и за сутки не объехать. И как ты справляешься? Железное здоровье надо иметь.
– Справляюсь, соседа не зову. Ты о моем здоровье, Алеша, шибко не волнуйся. Всякому овощу свой срок даден, свое время. Как ни оттягивай гробину, сколько бы фору ни дали тебе родители, а срок-то наступит по небесным часам, а не земным. Я со смыслом живу. Я управляю временем. Я у Господа управляющий, я у времени в сторожах. Я с особым смыслом живу на земле. Не дергаюсь. Не тороплюсь. Как бы вечно мне жить. Понял? Вот Бог и прибавляет мне здоровья с каждой рюмкой. Мне и закуски не надо. Господи, прости! – вот и вся моя закуска. – Вараксин глубоко затянулся папироской. – А ты, Братило, все боялся опоздать. Вот и пил без меры, торопился норму вылакать. Слишком рано выхлебал свою бочку вина, а теперь и дуй на воду. Слюнки-то текут? Текут слюни-то, как вожжи.
Митя ехидно хихикнул, чвакнул вставными челюстями с присосками, поелозил языком, полез пальцем в рот, чтобы достать зубы, но раздумал. Рюмки разогрели часовщика, и мысли, преодолев стопор, закрутились все живее. У трезвого слова зря не вытянуть, молчит, как рыба, а рюмку пригнул на лоб – и откуда у сердешного что берется вдруг: и осанка, и сияние в очах, и слов кишенье.
– Художники тоже у времени при вратах. Не одни вы, – возразил Братилов. – Ты зря нас не пинай. Чтобы творить землю, Бог поначалу измыслил шесть цветов радуги. Бог был первый художник. А вы, ребята боевые, мастера лишь в шестеренках ковыряться да колесики крутить, как малы дети. А мы, художники, время останавливаем. Иль не слыхал? Каждая картинка, даже самая никудышная – это неповторимый отпечаток времени. Нельзя в одну реку вступить дважды. А мы можем, и тут, надо сказать, мы как Боги.
– Какой отпечаток времени, чего ты мелешь, Братило? – нетерпеливо оборвал Вараксин. От волнения верхняя челюсть неожиданно вылетела изо рта, шмякнулась на пол, закатилась под стол. Кряхтя, Митя с трудом достал зубы, сунул в стопку с водкою; через граненое стекло они выглядели ужасно. У Братилова в животе даже заскворчало от брезгливости. – Разве нынче кто живет по времени? Приведите его ко мне! Знаешь, как у Есенина? Я хочу видеть этого человека… Это раньше жили по времени, а теперь по охоте и желудку. Раньше на солнце мужик взглянет и скажет: пришло время полдничать, иль пора вечерять, иль ступайте баиньки, нечего колобродить. А теперь говорят: что-то есть охота, желудок просит, позывает на еду. И на солнце не глянут, и на часы не посмотрят… Раньше солнце было за время, потом часы за солнце, теперь ни солнца, ни часов не признают. Говорят, де, спать охота, и сразу бултых в кроватку – и за сиськи. Охота, де. Охотою и живут, как скоты. Вот скажи мне: у тебя часы есть?
– Нет…
– И у меня нет. И у многих нет. Брюхом живут. И потому я безработный. Часы теперь в магазине дешевле водки. Вот так. Ни времени, ни часов, как скоты…
Братилов почувствовал, что хозяин вот-вот скатится в самую свинцовую дурь. Взглянул на часы; все они указывали разное время, словно бы догоняли друг дружку и не могли поспеть; но дребезжали, тетенькали в урочную минуту, куковали, били бои, вздыхали и урчали, и пукали, и мяукали, водя кошачьими глазками. По темени в окне Братилов представил, что скоро пышная Тоська вернется с работы, и при ней куплю-продажу уже не сладить. Алексей заторопился, добыл из клеенчатой сумки картину.