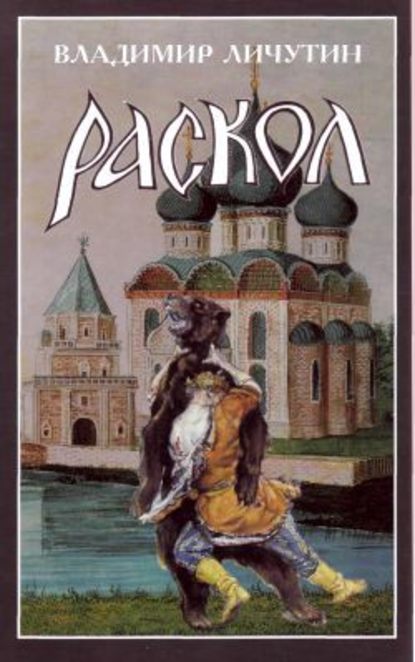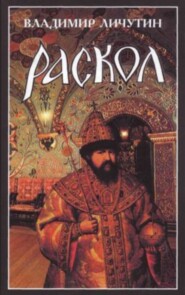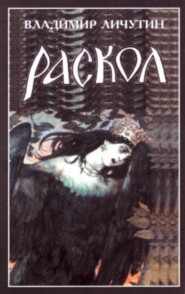По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А не ты ли, милосердный, увещевал своих подпятников во дни невзгод, де, покаянию, молитве, милостыни, страннолюбию не может никакой неприятель супротив стати: ни агарян, ни сам адский князь, все окрест бегают и трепещут. И своею же десницею переменил наиглавнейшую молитву Ефрема Сирина, кою сызмала впитывал в душу всяк русский отрок и ею руководился до скончания жизни. Это как бы из-под родимого дома ты вынул стулцы вековечные и подпер житье свое изопрелыми гнилушками, выдавая их за лиственничные колоды, запамятовав в сей миг: что переменено волею одного, то истлеет еще при жизни его. Веруй же: без молитвы нет милости, без милостыни нет страннолюбия. Вот и исполнилось Христово пророчество: «Многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят».
…И ты, Никон, понапрасну таешь сердцем, улыскаешься всем старообразным, морщиноватым лицом, туго обтянутым вязанным из шерсти клобуком, радуешься, как дитя медовой жамке, не ведая, что близится то время, когда вот эти пришлецы-прелестники, что чествуют тебя, и величают великим государем, и ставят вровень с папою, а может, и выше его, с легкостью предадут, вдруг войдут папертью, попирая посохами черные железные плиты пола, как неколебимые праведники, карающие ангелы, посланники Божии. Ох-ох, потаковники, рано запрягаете лошадей и напрасно торопите, как бы вместо свадьбы не угодить на поминки. Значит, правду уж кой год молвят на Москве, де, патриарх Никон отступник, коли не затыкает рот пришельцам; значит, он воистину хочет искоренить из сердца самого Христа.
А ведь и дня не ускочит, Никон, как по твоей милости кровь прольется. В ближней подмосковной селитбе мужик перекрестит жену свою беременную и троих детей, которых в ту же ночь и убьет в убеждении, что новокрещеных мучеников удобнее отправить в рай. Поутру он сам явится в губную избу и объявит голове: «Я мучитель был своим, а вы будете мне; и так они от меня, а я от вас пострадаю; и будем вкупе за старую веру в Царстве Небесном мученики…»
Воистину тут ума лишишься и злодейцем станешь, коли сам первый святитель, отец отцев, заблудился меж трех сосен и сошел с тропы, кою самолично торил да проминал, почитай, полвека.
Широко громоздятся на амвоне три патриарха (два чуженина, а один – свой) в золотных ризах, будто копны просохлого сена под июльским полуденным солнцем, такой истекает от них свет, и зной, и благовония: три воплощенных образа Христовых, да меж них царь-государь в темно-синей однорядке, с наперсным крестом на груди и в парчовой шапке с собольим околом, словно бы гордоватый, но огрузнувший в неволе кречет, обвитый сизыми клубами ладанного дыма. Кади пуще, архидьякон, наводи пахучего туману, чтобы затмить дух смердящий, ибо трупищем окаянным запахло в церкви. И в этом чаде Алексей Михайлович походил не столько на Пилата, сколько на воина в железной шапке, что вместо воды поднял на копье к губам Спасителя губку с уксусом.
Иноземные патриархи в белых шелковых камилавках, лоснящихся от верхнего света, глаза как спелые маслины; Никон на голову выше их, словно ворон, иссера-смуглый, принахохленный, присогбенный, чтобы не выпячиваться средь иерархов, крутые скулы обтянуты черным шерстяным клобуком, скуфейка вязаная, как мисюрка, туго надвинута на самые брови, отчего у патриарха лицо воина Христова и монаха-аскета; взгляд строг, неулыбчив, нижняя губа презрительно выпячена. А в душе-то смятение. Ему страсть как хочется уравняться с гречанами, в ризнице уже давно припасен белый клобук с камилавкой.
Не чудилось ли ревнивцу, когда примерял камилавку в опочивальне перед зеркалом, приминая ладонью верхнее донце, что в новом уборе он не только не мужик, но уже и не русич-монах, а воистину великий грек, глава вселенской церкви, – такой царственный свет величия накатывал от длинных плавных белоснежных воскрылий. И вдруг позабылось стародавнее, сокровенное, о чем возгоржался и не раз ратовал в беседах со Ртищевым; де, истинная вера православная стоит на сугубой крестьянской правде; де, может монах приплыть на камне из Афона; де, у настоящего верующего никогда не бывает сомнений в том, ибо и через окиян-море, если захочет того Господь, может переплыть на камне праведник. А ежли колебнулся кто, на грош один засомневался – и поехал человек в тартарары на вечные времена…
И вот самому Никону нынче до жара утробного возжелалось и внешне перемениться: русские одежды нестерпимо стеснять стали. Он вдруг почувствовал себя обделенным, почти униженным, это он оказался чуженином средь патриархов и был не в золотых ризах, но в залатанной сермяге. И улучив миг, когда пришло время для сокровенной беседы в конце литургии, когда вынесли стулку с книгою поучений, Никон особо, как сговорились, кивнул Макарию: сириец ненадолго отлучился в алтарь и принес клобук на греческий манер. Одно искушение всегда тянет другое: поддался, потрафил гордыне, позабыл душу, а там, глядишь, и оседлает нечистый.
Макарий нес клобук на обеих вытянутых руках, как пасхальный кулич, и вышитый золотом и жемчугом херувим готов был слететь с шелковой камилавки. Макарий приблизился к царю и сказал: «Государь, нас четыре патриарха в мире, и одеяние у всех нас одинаковое. Если угодно твоему царскому величеству, я желал бы надеть на него эту камилавку и клобук, которые сделал для него вновь, чтобы он носил, подобно нам». Царь ответил с благожелательной улыбкою: «Батюшка, добро».
Он не удивился, но вдруг вызвался сам обрядить собинного друга и старательно вздел камилавку на его крупную, кочаном, голову, приподнявшись на цыпочки, а после по-хозяйски, как бы невесту обряжал, расправил воскрылья по плечам и вдоль впалых морщиноватых щек и трижды расцеловал патриарха, как ровню себе, накалываясь губами на жесткую кудель бороды. Собор ахнул, дивясь столь скорой перемене на Руси. Как только земля не поколебалась под Никоном? – вздивияли соборяне. – Все вроде бы по-московски одевался, а когда, в какой час вдруг сделался греком? И царь-батюшка отчего-то мирволит такой измене и щедро одаряет святителя ласкою.
И возроптали иереи, и настоятели монастырей, и священницы, и миряне. Но что для государских ушей трус и волнения подпятных холопишек, что ежедень толкутся у спального крыльца, дожидаясь крох с хозяйского стола. И тут всякий богомольник вдруг расчувствовал непонятным образом для себя, как что-то сокровенное потухло не только в православной вере, но и во всей русской мирской жизни, когда все, как бы ни чинились друг перед дружкой, как бы ни кичились службою и родом, но все одно оставались братьями во Христе. Ибо церковь покрывала их одними пеленами, и Господней щедрости хватало на всех.
…А тут случилось, что царь с Никоном, обнявшись, не только церкву присвоили себе, но и самого Христа заключили в особую золотую клетку и закрыли дорогими запонами.
Как потомки Измаила, сына Авраама от Агари, стали непримиримыми врагами Израиля, так и православие уже несрастаемо во веки вечные с папизмом, ибо не для русской крылатой души латинская уряженная темничка…
…Кто надоумил, кому пришло в голову выстроить на Руси Новый Иерусалим? Может, как священнику Захарию, явился ангел с уведомлением о сыне, так и государю приключилась небесная весть? Была Москва издавна, как подпал Восток под агарян, крепостью православия, третьим Римом, сладким гремучим студенцом, и этого благодатного пития, этого сикера хватало русскому насельщику, чтобы терпеливо сносить всякое нестроение и кручину. Если в других землях живут люди поганые, не верующие в истинного Бога, погубляющие душу еще при сей жизни, то как радостно скончать свой век в родном кугу, на родовом жальнике, ибо от ворот только русского погоста душа отправляется прямо в рай.
Но много развелось на миру бегунов, потаковников, смутителей, шептунов и развратителей, кто не суть Божию ищут, но лишь себя: иные из них, не стыдясь и не рядясь, со своим бесстыдным норовом перебежали в русские земли и давай сеять плевелы; и знать, надули в уши государю много льстивых обманчивых слов, ежли вскружилась голова у Алексея Михайловича и пришло ему на ум построить в Московии Новый Иерусалим, посадить священный благоухающий народ на северной земле, словно бы с Руси изошло христианство, разрослось богатым мировым деревом. И в патриархе Никоне сыскал он подпятника чаяниям своим и радетеля, коему мало того небесного Иерусалима, к которому всякий верующий приступил еще в этой жизни и остановился у его врат, и лишь перевоз через реку смерти отделяет от обетованного рая. И мало было устроителям горнего храма того чувства, что приидет на землю то время, когда всякая нужда в храме земном отпадет, ибо сойдет с небес сам Бог с Агнцем своим и будет и храмом, и царством.
…Никон скоро сыскал под Москвою на высоком берегу Истры то заповеданное место, что удивительно походит на священную Палестину, словно бы сам Господь задумал и повторил каждую впадину и холмушку в затаенном уголке северной страны, отстоящей от родины Христа за многие тыщи поприщ. Наверное, Спаситель в тонком сне привел Никона за руку и указал: строй здесь! Старец Арсений Суханов из южных земель привез чертежи иерусалимского храма, и патриарх взялся за дело с тем рвением, кое всегда овладевало Никоном, когда он брался за предприятие провиденческое. С праздника Богоявления, угнетенный неожиданной ссорою с царем, он уехал на Истру-реку и поселился в деревянной временной келеице в бору, срубленной для патриарха и окруженной для уединения тыном.
Триста приписных мужиков возили кирпич, гасили в ямах известь, рубили избы, рыли подвалы, и средь горячей стройки, у лабазов и засыпух, у варниц, и костров, где кипела смола, у речных бронниц, куда спешили насады с кирпичом и лесом, где звенели топоры, вязали срубы, гатили дороги, у ближних тоней, где рыбари тянули невода с лещом и судаком и щукою для трапезы, – везде Никон был свойским, хлопотливо-деятельным, то ершистым и гневливым и скорым на расправу, то насмешливым и печальным, и мало что напоминало в этом долговязом, супистом мужике патриарха всея Руси. Он был в долгой рясе, подбитой хлопчатой бумагой, откуда выглядывали огромные, на медвежью лапу, рыжие переда телячьих сапог, и в овчинном треухе, опоясан кожаным твердым фартуком и с кожаными оплечьями для деревянной козы, на которой Никон таскал кирпич. Он был весь запорошен коричнево-смуглой пылью, и даже густая борода, и подусья, и подскулья, где скопилась глиняная тля, отсвечивали охрою, да и сам-то взгляд, обычно стемна, изнутра, стал вдруг красноватым, сполошистым, будто в глазах зажглися становые костры.
В ста пятидесяти саженях от монастырской стены, на самой круче Никон заложил себе отходную Пустынь в четыре яруса, в виде башни с витой внутренней лестницей и малыми келеицами, и двумя церковками; и вот, благодаря Божьему промыслу, с тремя оброчными каменщиками нынче перешли на последний ярус. Со ступеньки на ступеньку, как по лествице к Богу, Никон подымался вверх с пятипудовым грузом, не давая себе поблажки, несмотря на годы, унимая гулко бухавшее сердце. Порою он опирался плечом о шероховатую от застывшей известки стену, передыхал на подмостях, когда-то безотказные ноги подгибались, становились ватными, жидкими. Вот и нынче вечером, после послушания, придется ублажать остамевшие, припухшие ступни в горячей воде, выгонять из утробы через плюсны холодные соки; узловатые жилы на голенях, посиневшие жгутами, уже худо проталкивали кровь. Полвека дал Бог жизни, экое счастие! Укатали сивку крутые горки. А давно ли был, несмотря на посты, и радения, и долгие изнурительные бдения, на непрестанные службы, здоров, как лиственничный выскеть, не ведал хворей, разве лишь глаза к утру натекали кровью. Скольких сам поднял на ноги, выправляя черева, изгоняя грудную жабу, и беса, и червей. И все молитвой, и святой водою, да Божьим изволом. Э-э-э… Всякому дубу свой век.
Никон поднялся на верхний ярус, опустил ношу, выгрузил из крошна кирпичи, разогнулся и, как-то безотчетливо забывшись, застыл, приотодвинув треух на затылок. «Отдохни, батюшко, замучился с нами», – сердечно присоветовал мирянин-каменщик и ловко так, с прихлестом, накинул известковую нашлепку на кирпичный ряд. Никон промолчал, полный неожиданной счастливой грусти.
Да, подумал, по всему видать, запарило, повернуло на весну с Благовещения, разве что под Вербное отдаст засиверкой: в распадках лишь кое-где просвечивали белые заячьи шкурки снега, а по буграм, сквозь серую ветошь прошлогодней травы, испроточенной мышами, уже топорщатся радостные мелкие зеленя… Зима подобна мачехе злой и нестройной, и не жалостливой, ярой и не милостивой; ежели иногда и милует, но и тогда казнит, когда добра, но и тогда знобит, подобно трясавице, и гладом морит, и мучит, грех ради наших. Такова уж зима, чего с нее возьмешь. Но весна наречется, яко дева страшенная простотою и добротою, сияющая, чудна и прелестна, любима и сладка всем…
Никон из-под ладони обвел пристальным любовным взглядом русские просторы, овеянные сиреневым туманцем; далеко за рекою, на увалах, протыкиваясь сквозь дубравы и елинники, возносили островерхие главы церкви монастырей, они были как вешки, путеводные знаки на неторной тропе к Господу, и пока-то добредешь до ворот рая, весь измозгнешь телесно, но душа-то обрядится в золотые аксамиты; под берегом Истра кипела, напирала на креж, вымывала глиняные клочи, гнула ивняки, затопленные по пояс; зря, раненько хлопочут рыбари, заводят невод, желая удоволить святителя, придется из сушняка варить ушное. На поскотинах, заваленных хламом от убылой вешницы, стекленели под мутным солнцем разлегшиеся, как коровы перед дойкой, голубоватые на изломе льды. Глаза патриарха защипало, в них зажглась слеза, видимо, теплый ветер-обедник выбил соленую влагу.
Никону показалось, что он озирает мир не с вершины Сиона, но со дна глубокого колодца сквозь паутинчатую слюду; знать, оттого и небо, слегка желтоватое, походило на потрескавшуюся слоистую слюду, в трещинах отсвечивающую голубым. Господи, как все знакомо и желанно, вроде бы сам и побывал в Палестинах, а не наслушался со слов паломников. Вот Сион-гора, а под нею Иордан, а невдали Елеон-гора, а за теми селитбами призатенились Вифлеем и Назарет. А где Голгофа, там пока сосновый борок, еще не выбитый рукою дровосека… Придет время, и всяк христианин потечет сюда с поклоном, как ныне спешат помолиться ко гробу Господню. И в славе будет не только сия святая обитель, но и вся Русь, и народы, населяющие ее. Глядишь, и строителя помянут незлым словом. Спасибо Господу, что надоумил возжечь в диком засторонке великую свешу, и от золотого ее сияния всяк поклонник изумится и ослепнет поначалу, а после и радостно восплачет, как плачу нынче я.
Никон провел ладонью по лицу, размазал слезы, смешал их с кирпичной пылью. Только бы успеть содеять наказанное, пока не помер. Только бы успеть, пока не спихнули с патриаршей стулки. Короеды точат…
Он не успел додумать. Ударили в деревянное било. Строитель иеромонах Иринарх звал к трапезе. Уже солнце садилось. Тишина сошла в мир. Вода в реке неожиданно потемнела, остекленела, как бы остановила бег. Каменщики доскребли раствор, вытерли руки о фартук, перекрестились на восток, подошли к благословению. Весь день ни слова, а тут сам покой понудил к неожиданному разговору. Мужики были из приписанных к монастырю деревень из бывшей Коломенской епархии епископа Павла, неведомо где пропавшего. Один молодой белобрысый увалень, стесняясь патриарха, пугаясь его, не смел поднять раскосых удивленных глаз; другой – в летах, нос утушкой, с простодушной негасимой улыбкой на круглом лице. Ладони, как загребистые ковши, тяжело обвисли, крестьянин не знал, куда девать руки.
– Благослови, батюшко, – попросил старшой. – Вон, к трапезе кличут…
– Власти монастырские не забижают? Могорцем иль ествою? Я в оброке вам польготить велел. Наслышан о вашей беде. С вами плачу. – Никон с отеческой заботою вгляделся в рыжеватое простецкое лицо трудника, в его незамирающую улыбку и отчего-то вдруг позавидовал мужику, его несуетной жизни. Горький ком встал в горле и запрудил дыхание. И снова запозывало заплакать. «Слава Тебе, Господи, – подумалось туманно, – отворил Ты мне слез родник». Патриарх не снимал взгляда с трудника: за мягкою солнечной улыбкой мужика он улавливал тугу и неутешную заботу. Помнил Никон, что в прошлое лето хлеба затопли от дождей, деревни и погосты по Истре подняло водою, недород и хлебная скудость крепко прижали монастырских. Кой-как перебились зиму на житных колобах да капусте, а нынче едва тянут животишко до новин… – Я приказал тыщу рублей польготить. Слыхали-нет? А то власти утаят, нынче Бога и в монастырях не шибко чтут.
– Спаси тебя Господь, святитель. Наша надея, защитничек ты наш, святой угодник. Век за тебя молить станем. Видеть тебя и то за счастие. Вон как убиваешься в трудах, себя не щадишь. Уж не молоденек, чай, – простодушно посетовал работник и земно поклонился.
– Ну, будет тебе… А еще велел я подводы ваши и работу поденную зачесть в оброк. Ладно ли?
– Да как не ладно, отец. Прижало: хошь волком вой. Обложили налогою – не вздохнешь. Да где наша не пропадала! Бог-то не выдаст, а? – Старшой утвердительно ударил шапкою о колено, выбив облачко рыжей пыли, напялил колпак на свалявшийся колтун волос – Нам бы день пережить, а ночью и свинья спит.
– Голодный-то, кажись, откусил бы и камня. Верно? По-дите, христовенькие, Бог вас не оставит. – Никон перекрестил трудников, провожая жалостливым взглядом.
…Упирайся, святитель, строй себе скудельницу, не ведая, что и эта затея будет вписана тебе в вину. Ибо бес твоего тщеславия вызвал на тебя бесов прельщения и зависти людей.
…Однако с тяжелым сердцем вернулся Никон в брусяную келейку. Была она срублена в засторонке, да еще обороненная чесноком со стрелецкою вахтой на воротах, так что шум табора не достигал сюда. Смирно было в келейке, неприхотливо; в углу образ Пречистыя Богородицы Взыграние Младенца в серебряном окладе; да у печи широкая лавка для опочивания с ларцом-подголовником устюжской работы с чеканкою по жести, тощий туфак с одеялом и сголовьицем свернут в трубу. Напротив на стене лубочная картина с изображением монаха, распятого на кресте, ноги чернца прикованы к камени с надписью «нищета». Служка Иоанн помог разоболокчись до исподнего, протер тело святителя губкою под кожаными оплечьями и под верижным крестом; шерсть на груди курчавая, совсем поседатела, кожа в подреберьях пообвисла старчески, поиздрябла и посеклась морщинами. Но на просторных плечах можно еще молотить. Келейник молча принес дубовую шайку с горячей водою, вехотек и медный кувшин, встал на колени, перекинув утиральник через плечо, приготовился обихаживать патриаршьи ноги.
«Ступай, сынок. Не замай света», – велел Никон тусклым голосом. Туго прикрылась дверь, качнулась лампадка, слюдяное оконце в четверть листа окрасилось багрово, по нему вдруг пробежал трепетный голубой луч; знать, отразился от елейницы. Никон замер, прислушался к себе, еще не понимая причины сердечной тягости. Во все дни ломил на монастырской стройке, как вол, а нынче что-то надломилось в нем. Ему не то чтобы стало тоскливо иль грустно, нет, он вдруг почувствовал себя везде лишним. Он, как воск на свече, оплыл на стоянец, потерявши державу. Отчего он здесь? Вся церква русская колыбнулась, как на крутой волне, течь дало суденко, напоровшись на каменистую коргу, а он, отец отцев, прозябает в ухоронке, как белка в гайне. Ох-ох, грехи наши тяжкие. И не странно ли? С такой радостью заехал на Истру, бежал из Москвы от царя, окунулся в заботы, как в кипящий котел, сам весь телесно поизустал, измозгнул каждой жилкою, таскаючи кирпичи, весь в нитку вытянулся, иссох на соленых огурцах да тяпаных рыжичках. И то сказать, великое предприятие стронули, Новый Иерусалим распечатали от заколдованного сна. Как драгой блистающий камень-адамант, Господь спосылал горнюю церковь в суровый русский засторонок, в медвежий угол, и свет от сокровища отныне потечет по всем языкам. Да, какому кораблю дадим плавание, и возле него русское суденышко, пустившее течь, сыщет укрепу и покой…
Все ладно, все так счастливо укладывается для Никона: ведь редкому человеку, может, одному из всех за долгий век приключится явить народу такое событие, кое не обмозговать, быть может, и в далеком будущем времени. И вот угар от затеи на время схлынул, и Никон почувствовал с недоверием, будто вручили ему эту стройку для забавы, отпихнули из Москвы за ненадобностью.
Глупцы, воистину глупцы, куриные мозги… Одни дикари лютуют, что я царя подпятил, у них кусок изо рта выдрал; другие – будто церкву рассек и душу вынул. А я славы для всех хочу, я дом Христов сострою, чтоб было где Ему царить. И пред тем не постою, все богатство мира пожертвую. Христос изошел из Израиля, но к нам приидет и будет государить тыщу лет, а после всю Русь с собою вознесет; де, паситесь в раю, православные, верные мои челядинники, гостюйте во честном вечном пиру. Эх, куриные мозги, встряски вам мало. В головах-то мозгов что в задницах.