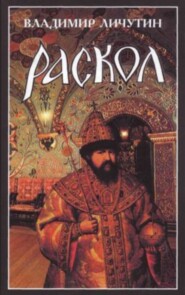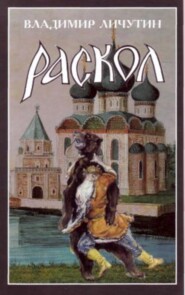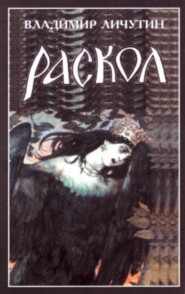По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Последний колдун
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Люба, Любушка, ты гли, какого мужика отхватила. Артист.
Степушка краем уха слышал эту похвальбу, она словно бы проносилась мимо, не касалась сознанья, но тайно сладко покоила душу, и потому парень будто бы вырастал из самого себя, строчил и строчил переборы, дробил на самом высоком азарте, казалось, обгоняя сердце, и слышал только гостевой гуд, прихлопы и веянье потного горячего воздуха. И тут, оскользнувшись, Степушка качнулся и понял, что устал. Нейлоновая рубаха взмокла и походила на рыбью кожу. На ватных ногах он прошел поветью на взвоз, обвалился на перила, унимая надсаженную грудь.
Дверь поветная хлопнула щеколдой, показалось, что изнутри кто-то хохотнул, а рядом притулился братан Василист, коротконогий кряж, щекастый, с ручищами по колени. Обнял Степушку и, воняя сивухой, стал целовать, тискать, приподнимая и встряхивая в воздухе, будто куль с мукой.
– Люблю тебя, чертушко...
Степа обмяк, еще не в силах совладать с собой, покорно обвисал в клешнятых братневых руках, трезво соображая, что с пьяным Василистом лучше не вязаться. А тот не унимался, засунул Степушку в угол взвоза, где стояли водовозные санки: они копыльями больно впивались в спину, и хотя парень был на голову выше братана, однако терпел и лишь вымученно улыбался.
– Ну пойдем, слышь, Василист. Пусти... Скажут, что жених сбежал.
А в это время Степушкин друг Володька, часто морщась и подтыкая к переносице очечки, что-то украдчиво шептал председателю Радюшину и подсмеивался. Радюшин сидел невозмутимый, словно бы разговор не касался его, только настойчиво ковырялся в тарелке, стараясь подцепить на вилку кусок отпотевшего студня. Потом так же мрачно подошел к забытой невесте и что-то шепнул: Люба искоса взглянула в смоляные глаза председателя, поначалу отказно качнула головой, но тут же послушно встала и вышла из горницы. Мало ли что девушке надо, пошла из-за стола и пошла: проводили невесту взглядом и забыли о ней. И только Люба ступила на крыльцо, в густую сентябрьскую темь, зябко передернув плечами, как чьи-то руки легко вознесли ее. Она невольно качнулась вперед, обняла воловью шею, чтобы не упасть, испуганно вскрикнула:
– Николай Степанович, спустите...
– Молчи, положено так, – хрипло шепнул Радюшин, и голос его дрогнул. Мужик легко пробежал дорогу, спустился в подугорье к Параскевиной баньке и, не отпуская Любу, отпнул ногой приставной кол, распахнул дверь. В баньке было темно, пахло печной гарью и палым березовым листом. Каменицу вытопили накануне, и влажный жар еще не угас. Радюшин посветил спичками, нашарил керосинку без стекла и запалил ее. Робкое дымное пламя выхватило из мрака необычно бледное лицо председателя, и глаза его почудились девушке дикими.
– Николай Степанович, пустите. Это на плохое выйдет...
– Что ты, глупенькая, – придушенно всхлипнул Радюшин, чувствуя, как захлестывает его пьяное желанье, и страшась его. Тут послышались на подмороженной тропинке частые шаги, в распахнутые сенцы влетел Володька и, радостно захлебываясь, зашептал:
– Ищут... слышь, Николай Степанович, ищут. Отчудили, а? Веком положено, а тут забыли обычай. Жральня да пьянь одна.
Любе от этих слов, частых, взбудораженных, стало спокойно, она оправила свадебное платье и ловчее села на лавку, и председатель уже не казался диким.
– Параскева-то Осиповна вопит... Невесту украли, невесту уволокли.
...Параскевины крики просочились и на поветь, и, уже думая о самом плохом, Степушка отпихнулся от братана и кинулся в избу.
– Украли невесту-то, из-под носа увели. Где молодая-то, где? – Параскева Осиповна обиделась, что обошлись без нее, обвели старую вокруг носа в ее же доме, а она и сама бы не прочь вспомнить дедовский обычай. – Прос... бабу-то, плясун.
Брат Саня хихикал, и оплывшие щеки потряхивались над гармонью.
– Жмет кто ли, поди. Так и не узнаешь от кого...
– Замолчи ты. – Степушка круто замахнулся побелевшим кулаком, потом обратно метнулся на поветь, в чуланы, в заброшенный хлев: где еще искать? Потолок был низко посажен, и парень с размаху приложился к матичному бревну. Он коротко и ранено вскрикнул, сгоряча ощущая, как набухает лоб, и обложил нахолодевшую темь матюком. Старых обычаев Степушка не знал, и ему мнилось сейчас, что кто-то больно и зло подсмеялся и в затайке небось уже зажимает невесту, тискает ее с пьяного ума и жадно слюнявит (долго ли тут до греха), и кто ведает, может, и сама Любка не прочь закрутить прощально в свадебную ночь.
– Курвы, курвы, – кричал Степушка, врываясь обратно в горницу.
– Выкуп, Степушка, выкуп давай, – насмешливо пристала тетка Матрена, сияя набором железных зубов.
– Поди ты... Где Люба?
– Ищи, братец. Найдешь – твоя, – пьяно зудил кто-то. – А не найдешь, уж не осуди. Кто украл, того и будет. – Шутки шутили, ясное дело, но каждое слово ударяло в раненое сердце: гостям забава, а Степушке – боль. Он сполна налил граненый стакан, а на пустой живот пришлась водка, и потому хмель дико кинулся в голову.
– Где она, ведите сюда... Или вон, все вон!
Кричал и не слышал себя.
– Господь с тобой, сынок, уймись. Чего мелешь, – уговаривала Параскева, пытаясь усмирить сына. Еще не видала в таком гневе и потому чувствовала невольный страх. Робко присела подле, пыталась приобнять.
– Да иди ты, – зло дернулся плечом.
Свадебщики примолкли, уже растерянно переглядывались, кто-то кинулся искать невесту, тут в сенях послышался бряк, на пороге показался Радюшин, а за спиной его таилась Люба, с головой накрытая старой тюлевой занавеской. Параскева, пытаясь не уронить обычай (ведь и саму когда-то крали со свадьбы), быстренько сковырнула с бутылки светленькую кепочку, подала в стакане «выкуп». Радюшин, не чинясь, выпил, но по расстроенным лицам гостей поймал грустную заминку и потому виновато подсел к Степушке.
– Ну, прости, крестник... Экий же ты, прости господи. Выпей и утешься.
Степушка снова ополовинил граненый стакан, но не оттаял, каменно глядел в столетию, а невеста стояла подле и не знала, как поступить вернее.
– Ой, крутоват крестник. Ты слышь?.. Вот те и Степушка, вот те и тихоня.
– Да замолчи ты, – одернула Радюшина жена Нюра, – чего нервы людям вьешь. – В косо посаженных голубиных глазах просочилась слезинка и повисла на рыжеватой ресничке. Нюра коротко смахнула ее мизинцем и шепотом добавила: – Меня-то за што казнишь.
Гости, кто в состоянье еще был, пьяно потянулись из застолья, засобирались по домам. Параня кидалась каждому навстречу, тыкалась в грудь седой головой, упрашивала, ведь деревенская родня, что зубная болесть: ее унять надо, уважить надо.
– Простите, ежели што не по уму. Завтра на блины милости просим. Уж не пообидьте.
...А осенняя ночь досыпала свое, по-за рекой снятым молоком выступил в закрайке неба утренний свет, и словно вдогон ему Паранин петух отбил зорю. Темь сдвигалась, и видно стало, как на оловянной реке круто завивались водяные струи. Еще за окнами свадебной избы мельтешили тени, но звуки уже умерли, и особенная утренняя тишина полонила деревню: вот постоишь на безлюдной улице минуту-другую, и покажется, что все вымерло вокруг, и станет тогда жутко.
Радюшин, покачиваясь и мыча что-то под нос, докурил папиросу, стрельнул ею в подугорье, и клюквенный огонек робко высветил короткую дугу. Жена стояла подле, молчала, подлаживаясь под мужа, боялась перечить. Но утренний холод, да после избяного тепла, взял свое; Нюра передернула плечами, подхватила Радюшина под локоть.
– Поздно уж, Коля... Пойдем домой.
Радюшин вырвал руку и шально кинулся под гору, пьяно подхватывая ногами тропинку: его вынесло на самый урез реки, и он едва удержался на осклизлом камешнике. Сверху просительно и звонко звала жена:
– Коля, ты куда... Коля-ня-а...
Радюшин в мутном безразличии и с каким-то тайным злорадством (пусть-пусть поорет) завалился в лодку и, замутив мотором воду, круто вывернул посудину вниз по теченью.
2
Река поднесла лодку к родной деревне еще в утренней сумеречности. Нынче народ залеживался, привык поспать, и редкий раностав, ежели и был в Погорельцах, коротал темные часы в своем житье. Вязкий сырой воздух слоился над водой, и было непонятно, то ли дым печной прогибается над рекой, то ли мелкий дождь бусит, похожий на дым. Затяжной угор бурел, слегка маслянился, и там, на самой лысинке его, едва виднелись коньки крыш.
Зачем середки ночи кинулся к матери – Радюшин не сказал бы сейчас. Как вор, словно тать лесной, он овражком прокрался к отцовой избе, близорукой, поклонившейся земле, и вздохнул с облегчением лишь на задах своего дома, когда миновал зоркий чужой догляд. Родная деревня умирала неторопливо, но обреченно, знать повинуясь какой-то чужой настойчивой воле (вот и свет ныне отключили, оголили столбы), и сейчас в утреннем стеколке едва брезжила керосиновая лампешка.
Молодым бы только и понежиться, а то в старости какой сон, так – мученье одно: едва прикорнул на одно ухо, а тут уж словно подтыкает кто, велит вставать, вот и полуношничает, отбывает ночь нажившийся человек. И не поймет того, что, быть может, мать-природа напоминает ему: после належишься, а сейчас не дремли, мил человек, не трать времени попусту, иссякает твой родничок, и потому лови, имай губами последние студеные капли; послушай, пока возможно, как дышит земля, трепещет осенняя птица на ветке рябины, звонко дробит в кадцу небесная влага. Послушай, человече, приглядись зорчее и внутрь себя, и в мир за окном, ведь от твоего века осталась одна краюшка, крохотный неровный ломотек: а после уж все. И хоть устал от жизни, измаялся, быть может, самой последней кровиночкой, но через мученье скоротай в бессоннице закатные дни, проживи их.
Может, потому и не спалось матери, и, как всегда, с первыми петухами поднялась Домна, разламывая поясницу, запалила керосинничек, а сейчас сучит овечью нитку, чтобы к зиме спроворить сыну теплые вареги. О нем хлопочет, о сыне единственном, хотя сама у края могилы.
Лишь за окном мать: кажется, протяни руку – и достанешь ее поредевшую склоненную голову, а чудится уже иной, странно недостижимой и оттого особенно родной. И Радюшин, глядя на согбенное ее тело, даже всхлипнул неожиданно от любви и жалости к старенькой. Потом робко, словно боясь напугать матушку, колотнул казанками пальцев в хлипкий переплет, а Домнушка сразу встрепенулась, слепо прислонилась к оконнице, и с улицы хорошо было видно, как напряглось ее лицо.
– Ктой там?
– И не признаешь? – хрипло отозвался Радюшин. На крылечко он поднялся трудно, едва протаскивая налитые свинцом ноги. Сказалось гулеванье – выпило силу, и словно не было в теле недавней радости, а лишь скопилась под горлом хмельная тошнота, да где-то в извилинке мозга настойчиво ковал крохотный молоточек: спать-спать.
– Стряслось что, Колюшка?
– Тебе бы все только стряслось. А если просто так, соскучился, может, – неожиданно закипая, буркнул Радюшин, походя приобнял мать и не задержался возле, не обласкал ее усохшие, совсем девчоночьи плечи, а поскорее в избу – до кровати бы только дотянуться. (Ведь как зарекался – больше ни капли в рот, ни-ни, разве когда по большому случаю, по великому празднику. И возраст-то уж не молодецкий, пора завязывать с винцом.) Не раздеваясь, тупо кляня себя, только на одну минутку присел на материну кровать, пахнущую валерианой, вознамерился снять сапоги, наклонился с натугой, да так и кинула его неисповедимая сила на бок, утопила голову в подушке, еще хранящей материно тепло, – и словно умер мужик. Пока мать дверь запирала да в сенцах впотемни шарилась – сын уж первую фистулу вывел, а после давай зубами скрипеть и вздрагивать громоздким телом.
Степушка краем уха слышал эту похвальбу, она словно бы проносилась мимо, не касалась сознанья, но тайно сладко покоила душу, и потому парень будто бы вырастал из самого себя, строчил и строчил переборы, дробил на самом высоком азарте, казалось, обгоняя сердце, и слышал только гостевой гуд, прихлопы и веянье потного горячего воздуха. И тут, оскользнувшись, Степушка качнулся и понял, что устал. Нейлоновая рубаха взмокла и походила на рыбью кожу. На ватных ногах он прошел поветью на взвоз, обвалился на перила, унимая надсаженную грудь.
Дверь поветная хлопнула щеколдой, показалось, что изнутри кто-то хохотнул, а рядом притулился братан Василист, коротконогий кряж, щекастый, с ручищами по колени. Обнял Степушку и, воняя сивухой, стал целовать, тискать, приподнимая и встряхивая в воздухе, будто куль с мукой.
– Люблю тебя, чертушко...
Степа обмяк, еще не в силах совладать с собой, покорно обвисал в клешнятых братневых руках, трезво соображая, что с пьяным Василистом лучше не вязаться. А тот не унимался, засунул Степушку в угол взвоза, где стояли водовозные санки: они копыльями больно впивались в спину, и хотя парень был на голову выше братана, однако терпел и лишь вымученно улыбался.
– Ну пойдем, слышь, Василист. Пусти... Скажут, что жених сбежал.
А в это время Степушкин друг Володька, часто морщась и подтыкая к переносице очечки, что-то украдчиво шептал председателю Радюшину и подсмеивался. Радюшин сидел невозмутимый, словно бы разговор не касался его, только настойчиво ковырялся в тарелке, стараясь подцепить на вилку кусок отпотевшего студня. Потом так же мрачно подошел к забытой невесте и что-то шепнул: Люба искоса взглянула в смоляные глаза председателя, поначалу отказно качнула головой, но тут же послушно встала и вышла из горницы. Мало ли что девушке надо, пошла из-за стола и пошла: проводили невесту взглядом и забыли о ней. И только Люба ступила на крыльцо, в густую сентябрьскую темь, зябко передернув плечами, как чьи-то руки легко вознесли ее. Она невольно качнулась вперед, обняла воловью шею, чтобы не упасть, испуганно вскрикнула:
– Николай Степанович, спустите...
– Молчи, положено так, – хрипло шепнул Радюшин, и голос его дрогнул. Мужик легко пробежал дорогу, спустился в подугорье к Параскевиной баньке и, не отпуская Любу, отпнул ногой приставной кол, распахнул дверь. В баньке было темно, пахло печной гарью и палым березовым листом. Каменицу вытопили накануне, и влажный жар еще не угас. Радюшин посветил спичками, нашарил керосинку без стекла и запалил ее. Робкое дымное пламя выхватило из мрака необычно бледное лицо председателя, и глаза его почудились девушке дикими.
– Николай Степанович, пустите. Это на плохое выйдет...
– Что ты, глупенькая, – придушенно всхлипнул Радюшин, чувствуя, как захлестывает его пьяное желанье, и страшась его. Тут послышались на подмороженной тропинке частые шаги, в распахнутые сенцы влетел Володька и, радостно захлебываясь, зашептал:
– Ищут... слышь, Николай Степанович, ищут. Отчудили, а? Веком положено, а тут забыли обычай. Жральня да пьянь одна.
Любе от этих слов, частых, взбудораженных, стало спокойно, она оправила свадебное платье и ловчее села на лавку, и председатель уже не казался диким.
– Параскева-то Осиповна вопит... Невесту украли, невесту уволокли.
...Параскевины крики просочились и на поветь, и, уже думая о самом плохом, Степушка отпихнулся от братана и кинулся в избу.
– Украли невесту-то, из-под носа увели. Где молодая-то, где? – Параскева Осиповна обиделась, что обошлись без нее, обвели старую вокруг носа в ее же доме, а она и сама бы не прочь вспомнить дедовский обычай. – Прос... бабу-то, плясун.
Брат Саня хихикал, и оплывшие щеки потряхивались над гармонью.
– Жмет кто ли, поди. Так и не узнаешь от кого...
– Замолчи ты. – Степушка круто замахнулся побелевшим кулаком, потом обратно метнулся на поветь, в чуланы, в заброшенный хлев: где еще искать? Потолок был низко посажен, и парень с размаху приложился к матичному бревну. Он коротко и ранено вскрикнул, сгоряча ощущая, как набухает лоб, и обложил нахолодевшую темь матюком. Старых обычаев Степушка не знал, и ему мнилось сейчас, что кто-то больно и зло подсмеялся и в затайке небось уже зажимает невесту, тискает ее с пьяного ума и жадно слюнявит (долго ли тут до греха), и кто ведает, может, и сама Любка не прочь закрутить прощально в свадебную ночь.
– Курвы, курвы, – кричал Степушка, врываясь обратно в горницу.
– Выкуп, Степушка, выкуп давай, – насмешливо пристала тетка Матрена, сияя набором железных зубов.
– Поди ты... Где Люба?
– Ищи, братец. Найдешь – твоя, – пьяно зудил кто-то. – А не найдешь, уж не осуди. Кто украл, того и будет. – Шутки шутили, ясное дело, но каждое слово ударяло в раненое сердце: гостям забава, а Степушке – боль. Он сполна налил граненый стакан, а на пустой живот пришлась водка, и потому хмель дико кинулся в голову.
– Где она, ведите сюда... Или вон, все вон!
Кричал и не слышал себя.
– Господь с тобой, сынок, уймись. Чего мелешь, – уговаривала Параскева, пытаясь усмирить сына. Еще не видала в таком гневе и потому чувствовала невольный страх. Робко присела подле, пыталась приобнять.
– Да иди ты, – зло дернулся плечом.
Свадебщики примолкли, уже растерянно переглядывались, кто-то кинулся искать невесту, тут в сенях послышался бряк, на пороге показался Радюшин, а за спиной его таилась Люба, с головой накрытая старой тюлевой занавеской. Параскева, пытаясь не уронить обычай (ведь и саму когда-то крали со свадьбы), быстренько сковырнула с бутылки светленькую кепочку, подала в стакане «выкуп». Радюшин, не чинясь, выпил, но по расстроенным лицам гостей поймал грустную заминку и потому виновато подсел к Степушке.
– Ну, прости, крестник... Экий же ты, прости господи. Выпей и утешься.
Степушка снова ополовинил граненый стакан, но не оттаял, каменно глядел в столетию, а невеста стояла подле и не знала, как поступить вернее.
– Ой, крутоват крестник. Ты слышь?.. Вот те и Степушка, вот те и тихоня.
– Да замолчи ты, – одернула Радюшина жена Нюра, – чего нервы людям вьешь. – В косо посаженных голубиных глазах просочилась слезинка и повисла на рыжеватой ресничке. Нюра коротко смахнула ее мизинцем и шепотом добавила: – Меня-то за што казнишь.
Гости, кто в состоянье еще был, пьяно потянулись из застолья, засобирались по домам. Параня кидалась каждому навстречу, тыкалась в грудь седой головой, упрашивала, ведь деревенская родня, что зубная болесть: ее унять надо, уважить надо.
– Простите, ежели што не по уму. Завтра на блины милости просим. Уж не пообидьте.
...А осенняя ночь досыпала свое, по-за рекой снятым молоком выступил в закрайке неба утренний свет, и словно вдогон ему Паранин петух отбил зорю. Темь сдвигалась, и видно стало, как на оловянной реке круто завивались водяные струи. Еще за окнами свадебной избы мельтешили тени, но звуки уже умерли, и особенная утренняя тишина полонила деревню: вот постоишь на безлюдной улице минуту-другую, и покажется, что все вымерло вокруг, и станет тогда жутко.
Радюшин, покачиваясь и мыча что-то под нос, докурил папиросу, стрельнул ею в подугорье, и клюквенный огонек робко высветил короткую дугу. Жена стояла подле, молчала, подлаживаясь под мужа, боялась перечить. Но утренний холод, да после избяного тепла, взял свое; Нюра передернула плечами, подхватила Радюшина под локоть.
– Поздно уж, Коля... Пойдем домой.
Радюшин вырвал руку и шально кинулся под гору, пьяно подхватывая ногами тропинку: его вынесло на самый урез реки, и он едва удержался на осклизлом камешнике. Сверху просительно и звонко звала жена:
– Коля, ты куда... Коля-ня-а...
Радюшин в мутном безразличии и с каким-то тайным злорадством (пусть-пусть поорет) завалился в лодку и, замутив мотором воду, круто вывернул посудину вниз по теченью.
2
Река поднесла лодку к родной деревне еще в утренней сумеречности. Нынче народ залеживался, привык поспать, и редкий раностав, ежели и был в Погорельцах, коротал темные часы в своем житье. Вязкий сырой воздух слоился над водой, и было непонятно, то ли дым печной прогибается над рекой, то ли мелкий дождь бусит, похожий на дым. Затяжной угор бурел, слегка маслянился, и там, на самой лысинке его, едва виднелись коньки крыш.
Зачем середки ночи кинулся к матери – Радюшин не сказал бы сейчас. Как вор, словно тать лесной, он овражком прокрался к отцовой избе, близорукой, поклонившейся земле, и вздохнул с облегчением лишь на задах своего дома, когда миновал зоркий чужой догляд. Родная деревня умирала неторопливо, но обреченно, знать повинуясь какой-то чужой настойчивой воле (вот и свет ныне отключили, оголили столбы), и сейчас в утреннем стеколке едва брезжила керосиновая лампешка.
Молодым бы только и понежиться, а то в старости какой сон, так – мученье одно: едва прикорнул на одно ухо, а тут уж словно подтыкает кто, велит вставать, вот и полуношничает, отбывает ночь нажившийся человек. И не поймет того, что, быть может, мать-природа напоминает ему: после належишься, а сейчас не дремли, мил человек, не трать времени попусту, иссякает твой родничок, и потому лови, имай губами последние студеные капли; послушай, пока возможно, как дышит земля, трепещет осенняя птица на ветке рябины, звонко дробит в кадцу небесная влага. Послушай, человече, приглядись зорчее и внутрь себя, и в мир за окном, ведь от твоего века осталась одна краюшка, крохотный неровный ломотек: а после уж все. И хоть устал от жизни, измаялся, быть может, самой последней кровиночкой, но через мученье скоротай в бессоннице закатные дни, проживи их.
Может, потому и не спалось матери, и, как всегда, с первыми петухами поднялась Домна, разламывая поясницу, запалила керосинничек, а сейчас сучит овечью нитку, чтобы к зиме спроворить сыну теплые вареги. О нем хлопочет, о сыне единственном, хотя сама у края могилы.
Лишь за окном мать: кажется, протяни руку – и достанешь ее поредевшую склоненную голову, а чудится уже иной, странно недостижимой и оттого особенно родной. И Радюшин, глядя на согбенное ее тело, даже всхлипнул неожиданно от любви и жалости к старенькой. Потом робко, словно боясь напугать матушку, колотнул казанками пальцев в хлипкий переплет, а Домнушка сразу встрепенулась, слепо прислонилась к оконнице, и с улицы хорошо было видно, как напряглось ее лицо.
– Ктой там?
– И не признаешь? – хрипло отозвался Радюшин. На крылечко он поднялся трудно, едва протаскивая налитые свинцом ноги. Сказалось гулеванье – выпило силу, и словно не было в теле недавней радости, а лишь скопилась под горлом хмельная тошнота, да где-то в извилинке мозга настойчиво ковал крохотный молоточек: спать-спать.
– Стряслось что, Колюшка?
– Тебе бы все только стряслось. А если просто так, соскучился, может, – неожиданно закипая, буркнул Радюшин, походя приобнял мать и не задержался возле, не обласкал ее усохшие, совсем девчоночьи плечи, а поскорее в избу – до кровати бы только дотянуться. (Ведь как зарекался – больше ни капли в рот, ни-ни, разве когда по большому случаю, по великому празднику. И возраст-то уж не молодецкий, пора завязывать с винцом.) Не раздеваясь, тупо кляня себя, только на одну минутку присел на материну кровать, пахнущую валерианой, вознамерился снять сапоги, наклонился с натугой, да так и кинула его неисповедимая сила на бок, утопила голову в подушке, еще хранящей материно тепло, – и словно умер мужик. Пока мать дверь запирала да в сенцах впотемни шарилась – сын уж первую фистулу вывел, а после давай зубами скрипеть и вздрагивать громоздким телом.