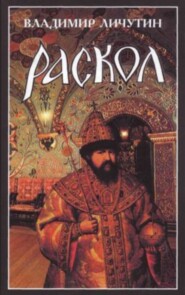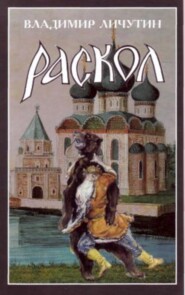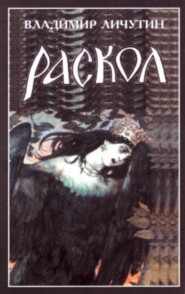По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сон золотой (книга переживаний)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
...Поклон мой Радигостю и Пирогоще. Еще послевоенный голод незабытен, еще белого хлеба не наелись, но гости в доме безвыводно, самовар со стола не слезает, что есть в печи – на стол мечи. Скудно угощение, но от всего сердца. Уже появились в продаже баранки, сваренные в местной пекарне, толстые, зажарные, будто покрытые блестящим коричневым лаком, их и выставляли кушаньем на стол, если не было печива иль магазинских глазурованных пряников. Баранки нанизывали на дратву и эту снизку колачей, будто ожерелье, надевали на шею. У сушек был не только плотяной смысл, ествяный, но и тайный, эротический, плодильный, о котором я догадался куда позднее. Почему-то мужикам нравилось в баранку просунуть палец, крутнуть колечко и особенным образом так взглянуть на бабу, что она невольно вспыхивала жаром и опускала глаза. И мы подражали взрослым, но ничего внутри не возникало.
Этот калач, разломив, хорошо положить в чашку с чаем и, он, скоро размокнув, разопрев, распухнув, раздобрев и разомлев, выпив в фаянсовой посудинке всю водичку, вдруг азартно, торопливо укатывался в твою заячиную утробушку, чтобы тепло и уютно улечься там; а самовар посипывает, завивая кольцами задышливый парок, как домашний толстый кот, пускает в потолок свою гнусавую песенку, и в медном зеркале его начищенных пузатых боков отражается и твоя мальчишечья замурзанная рожица, и худое мглистое лицо бабушки Нины с завернутым вовнутрь, высохшим в строчку глазом, и курносое скуластое обличье моей матери, странно скособоченное, кривое, отчего ты невольно прыскаешь в кулак и торопливо двигаешь чашку под краник, а сам поглядываешь на тарелку, где лежат твердые лакированные сушки, похожие на уснувших рыжих щенят. Эх, невольно думается с завистью, – сколько бы я мог умять этих жилистых заварных калачей, а вместе с ними в мое безразмерное ненажористое мальчишечье пузцо влезло бы с десяток чашек чаю, и вся голубоватая на сколе искристая сахарная головенка, от которой мама откусила щипчиками по кусманчику сахарку и наделила рукодано. Бабушка пьет долго, деловито, колупая от своего кусманчика единственным желтым зубом, прижаливая сахарок, сострагивая лишь сладимую тончайшую пленку и сглатывая ее, и так же деловито смоктает зажарную баранку, а после шестой чашки укладывает обсосочек сахарку на край блюдца, переворачивает чашку вверх дном, вытирает сопревший лоб от легкой росы, и в который уж раз елозит гребнем в толстых, как проволока, волосах, высоко подрубленных сзади над оголенной морщинистой шеей. Бабушка смотрит на портрет сына Володи, растягивающего мехи гармоники, вздыхает, и на зрячий, пока единственный глаз накатывается скоро просыхающая слезка... Среди родных живет мнение, что бабушка Нина иссушила глаз по погибшему сыну. (Ей плакать никак нельзя, ибо может потерять и второй глаз.) И мама Тоня тоже вскидывает взгляд на мужа Володю, но уже ничего не говорит, потому что все давно высказано и добавить нечего. Мой, оставшийся на войне отец, и по смерти близит двух женщин и невольно делает их родными. У каждой горе свое, и утрата бесконечно, неутомимо точит, иссушает сердце, и навостряет взгляд ревностью. И невольно щемит обида; а почему так жестоко Господь наказал именно их, не помилостивил, не помирволил. (Так я полагаю нынешним умом, а тогда, девятилетний щеня, я лишь хитро стрелял глазами по столу и по распахнутой двери, на которой парусила от летнего сквозняка занавеска, размышляя, как бы мне ловчее стянуть из тарелки баранку и улизнуть на улицу.)
Когда уж вовсе нечего было поставить на стол, мама нарезала черный хлеб ломтями, намазывала толченой картошкой, сдабривала постным маслом и, уложив стряпню на противень, совала в жаркую печь. Конечно, это не «картовные» шаньги, любимая еда поморянина, но поданные на стол прямо с пылу, они сметались в миг. Это было нечто промежуточное между настоящим печивом и непривередливой крестьянской стряпнёю, соображенной хозяйкою на скорую руку. Ведь гостье простой ломотек не подашь к чаю, душевное неудобство не позволит; как бы нарушаешь тем самым неведомо кем и когда установленный порядок и чин. Сами-то мы пробавлялись до пятьдесят седьмого года тем, что Бог пошлет, но Всемилостивый посылал к столу так скудно, что мать по незатихающей гордости своей перед обедом запирала двери, чтобы соседи случайно не узнали, чем пробавляется вдовица. А часто бывала лишь запеченная на листе картошка, и смуглую кожуринку с золотистыми пятонышками усмиренного огня мать умудрялась каждый раз присолить слезами. Я отворачивался, только чтобы не видеть воспаленные до красноты веки, лазоревые глаза и распухшую от желез шею.
Ведь попросить – не украсть, но вот у матери, как раз язык-то и не поворачивался для просьбы, словно бы в него внедрялось вдруг раскаленное жало и вставало поперек горла. Одалживать в людях мама посылала меня, обычно за неделю до получки, и не по родне я бегал за помощью, задрав голову, но отчего-то стучался к учителям, кто начинали службу вместе с отцом и бережно хранили память о нем. Завидя мою скукоженную от мороза мордашенцию, багровые руки в пипках, как бы вареные в кипятке, заледеневшие варежки, чудом держащиеся на кончиках пальцев, и вставшую колом пальтюшонку, они уже без слов знали, зачем я заявился ввечеру при ранней луне, когда от облитых таинственным светом высоких снегов встают в раскаленное небо голубые сполохи, похожие на призраки, а под угором, где начинается поскотина, уже пугающе дегтярный мрак, по дну которого прибрели к городку медведи и волки, уставя на меня вспыхивающие изумрудами глаза. Вот вспоминаю, и самого холодом обдает, так все близко, оказывается, неизгладимо, совсем рядом, – и причудливая под луною громоздкая тень от избы, занимающая половину улицы, и этот хрусткий скрип ступенек крыльца, и протяжливый взвизг уличных ворот, потемки коридора, когда вместо ручки торопливо нашариваешь кошму двери, чтобы ловчее потянуть на себя, и ослепляющий свет керосиновой лампешки из кухни. После морозного запаха снега и воли керосиновый дух резко шибает в нос; но это дух тепла, размеренной избяной жизни.
«Мама взаймы просила, – говорю я вздрагивающим от стужи голосишком, едва ворочая языком. – Ну хотя бы три рубля до получки.»
Хозяйка без слов уходила в горенку, не долго копалась в шкапчике и выносила денежку. Мать в должниках никогда не оставалась и деньги отдавала сразу, с получки, хотя по трешке, по пятерке набиралось порядочно. Но проходило дней десять, – и все повторялось.
Но зачем же только угрюмое, скорбное и печальное наискивать в голове; если лишь подобное носить в памяти, то загнешься от одних воспоминаний, как уловленная в Иордани наважка в крещенскую пору. Ведь было же, братцы мои, было и иное, осиянное, когда праздничный дух Пирогощи царевал в нашей боковушке.
Еще свежо в памяти: на воле темным-темно, выколи глаз, стеклина в толстом снежном куржаке, как во мху, а по убогому нашему житьишку волнами плывет хлебенный сытный хмельной дух, – это квашня живет, дышит на самом верху печи-голландки в потемках, умудряется пускать на волю пузыри, хотя и плотно закутана в портище, чтобы не остыла. Как-то мать умудряется поднять кастрюлю на самую верхотуру, под потолок, ибо тут ей и самое место, только здесь и сохраняются жалкие остатки тепла. В этом закуте мать пробовала прятать от меня сахар, выданный по карточкам, но я, пролаза, ростом с валенок, скоро вынюхал схоронку и нанес провианту большой урон, а маме печаль и досаду.
Нет, братцы мои, это не нынешнее скорое городское печиво; наведет хозяйка в кастрюле скороиграющих дрожец, и уже через два часа можно стряпать. Пироги пышные родятся, – пока горячие, – но так же скоро и упадают в теле, хиреют. Помню, мать-то за ночь не один раз вскочит, чтобы тесто посмотреть, подмешать мучицы, иль придавить его крышкою, чтобы не ушло вон. Проворонишь, да коли выплеснется через край квашонки и поплывет по печи, тогда хоть ладонями черпай, хоть ложкой заскребай.
А мороз, как из пушки палит, кряхтит изобка, оседая на пяты, но с третьими петухами вскочит мать с кровати, (сердце-то сторожит, как бы тесто не упустить) и, осторожно переступая через наши тела, разметавшиеся на полу, начинает тестяной ком нянькать, перекидывать с ладони на ладонь, да приколачивать, – вот так же только что выскочившее на белый свет дитя шлепают по заднюшке, чтобы очнулось оно и заорало «лихоматом». Вот и печка заскворчала, загудела, розовые лисы игриво выскочили из дверки на пол и давай поплясывать на студеном полу да сметываться алым заревом на оконницы. Батюшки мои, какой тут сон, когда от хлебенного духа в носу свербит; вроде бы и дремлешь на одном глазу, но невольно ловишь дуновение запашистых сквознячков, и поставив уши топориком, с закрытыми глазами разбираешь, – ага, кочергой мать заворочала, разбивая головешки, выравнивая уголье по поду, потом загремела деревянной лопатой и противнем, заталкивая его в жар, и в это мгновение, кажется, весь мир замер, насторожился чутьисто. Не хлопают двери туда-сюда, впуская морозные хвосты, не бродит хозяйка по своим делам, но вот присела на табуретку, и вроде бы безучастно глядя на керосиновую пиликалку, сложив усталые руки в подол юбки, сама замерла и ждет, подгадывает, когда придет пора доставать из печи листы... И вот ни с чем несравнимый пирожный дух поплыл по комнатенке, съехало с противня на стол румяное печиво, макая в жир (какой привелся) куропачьим крылом, смазывает мать стряпне огняные бока, накрывает полотенцем, чтобы приобмякла она. Вот в эту-то минуту и появляется на пороге Пирогоща, и давай тормошить нас, «засонь», дескать, протирайте детки глаза и садитесь за праздничный стол.
Если день субботний, то стряпает мать «кажноденное»: шаньги крупяные и заливные, или шаньги «картовные» и ягодники, шаньги творожные да колобки житние воложные, да пироги «капуственные», да колачи, да кулебяки с той рыбкою, какую Бог послал, только чтобы в тесте держалась, не уплыла. Это всё стряпня неуросливая, не требует от пекарихи особенного умения, к чему любая поморская женоченка пристала с молодых ногтей. Но меня удивляет нынче, как это мама умудрялась стряпать в печи-столбушке (голландке), куда противешок влезает маленький, а пирогов на семью затеяно много.
Мезень – городишко хоть и старинный, исторический, но беззатейный, не фасонистый, но тоже со своей похвальбой; прозвище у мещан – кофейники, из веку пили кофе из самовара. Каждая хозяйка на Мезени могла печь многое: жилое – к чаю, сдобное – к кофию, одних тортов – двадцать сортов. Где-то на Руси были кожемяки и кузнецы, коневалы и ткачи, косторезы, кружевницы, пимокаты, древоделы, литейщики, сапожники, портные, плотники, а в Мезени до сей поры, – когда я пишу эти строки, – здравствуют пекарихи. «Стол-то как картинку сделают, умеют наряжать». И хвалилась хозяйка перед гостями не закусками и стоялыми винами, а печеным. «Мода была такая принята.» Но и в этом затейном рукоделии особый талан нужен; ведь одна мучка, да разные ручки. Потому на свадьбы и именины стол готовили званые пекарихи. Бабушка Нина все умела стряпать, а мама моя пекла только «кажноденное», но, конечно, пироги да шаньги из ее рук были самыми вкусными на свете. Об этих теплых пирожках часто вспоминал в письмах мой отец.
7
Помню, ехал я из Архангельска в Мезень на пароходе «Воронеж» по журналистской командировке; на нем когда-то я покидал родину, чтобы увидеть белый свет. Та же надраенная палуба, чуть скошенная назад огромная черная труба с красной «генеральской» лампасой, скамейки, принайтованные намертво, щедрое весеннее солнце плавится в воде, своим отражением залепляя глаза, море лосое, как зеркальце, ничто не колыхнет, не отзовется в нем на жаркие воздуха, лишь сонно покачиваются чайки-моевки, похожие на сетные поплавки; и вроде бабы те же, осадистые, щекастые, грудастые поморянки с ведрами и холщевыми сумками, забитыми городским продуктом, и прежние сухопарые голубоглазые мужики, слегка захмеленные, праздные, с тоскующим от вынужденного безделья взглядом. Может они и были, лишь на десять лет подзаветряли, присъежились, потускнели. Ведь, «старые старятся, а молодые молодятся».
Подле женщин на соседней скамье сидел одноногий бровастый старик в суконной кепке-восьмиклинке и все время подбивал деревяшкой по сапогу, выставив березовую култышку в мою сторону.
«Молодой человек, можно вас на минутку, если не посчитаете за оскорбление, – вдруг позвал он меня и спопутчицы с интересом уставились в мою сторону. Я подошел, отчего-то краснея.
«Вы сядьте, ноги не казенные, – старик пододвинулся, освобождая место. – Если для вас нетрудно и не почтите за назойливость, то ответьте, пожалуйста, на один интересный вопрос. Ваш отец, случаем, не деревенским учителем служил?»
Я кивнул.
«Дальше продолжу в том же роде. Может его звали Владимир Петрович Личутин, и служил он в Азаполье?»
Я снова кивнул.
«Ой, как вы схожи обличье-то! Смотрим, он или не он, боле некому. Вы уж не пообидьтесь, что потревожили вас.» Добрые женщины, они перебивали друг друга и каждой хотелось вставить словечко, глаза наливались быстрой слезой от воспоминаний.
«Ну будя вам, курицы. Налетели на мужика», – пробовал урезонить косоногий старик. Но куда там.
«Мы ведь учились у вашего татушки».
Я невольно прикинул их возраст и поразился, как быстро течет время; значит отцу было бы нынче за шестьдесят.
«Он некрасовитый был, но большой умница. Мамушку-то вашу, бывало, завсе на руках носил. Мы после школы провожали Владимира Петровича, он к себе домой и пригласит, а у вас полы в избы накрашены, печеных пирогов полон стол. Мамушка-то ваша рукодельница была. Уж завсе чай пить посадят. Сам-то учитель чай напусто пил, сахар прятал в железную коробку, копил, а после детям и раздаривал. Вот чаю-то с шаньгами напьемся, а после с горы на санках с нами. В сугроб-от закатимся, да падем, с головой зароемся в снег, смеху-то ой! После нас отряхает. Добрый был. Аня про него и стих сложила. Ты, Аня, не стесняйся, помнишь, как допирали до нас учителя, кто да кто сложил?»
Аня, худая и смуглая, как черкешенка, женщина, обтерла губы уголком платка и прочитала нараспев:
«В Азапольской средней школе учит пять учителей;
Митрофанов, Епифанов, но Личутин всех добрей.
Митрофанов на кровати, Епифашка на печи.
Как грызут-то кирпичи, загибают калачи».
«Ну и ловка ты, Анка, – засмеялся старик. – У нас из веку мода на деревне к сочинительству. – И уже обращаясь ко мне. – А папаша твой умник большой был, ой умник! Сейчас бы ему министром культуры быть иль выше куда. Помню, как роман „Война и мир“ на публику читал, дак не с месяц ли до ума доносил. Народу набьется, в избу-читальню не влезали. Такого свойства был человек, умел вовлекать и к нему все тянулись...»
* * *
Собственно с сапог все и началось тогда. Выдали обувку учителю по разнарядке. Зашла однажды Тося к тетке своей по нужде какой-то. Осень была, дождь с ночи не переставал, грязь непролазная. Глядит учитель, а у девочки сапоги развалились, каши просят. Что толкнуло парня в самое сердце, но только поспешил к себе в боковушку, а у сундука еще новехонькие, ни разу не надеваные сапоги хромовые стоят, только что наробраз выдал к учебному году. Глядятся, как любушки, голенище к голенищу, и через ушки серая бечевка пропущена. Схватил, в сенцы кинулся, а Тося уже за щеколду ухватилась, собралась уходить. Пихнул сапоги в руки: «На, бери». – «Не-не, Владимир Петрович», – испуганно отпрянула. «А ну бери, кому говорят», – прикрикнул сурово, перекинул ей через плечо, словно бы собрал девку в дальнюю дорогу, но чтобы зря не марать обувку в грязи, приказал покамест босиком идти.
«Бери, бери, не вводи меня в строгость», – и вытолкнул за дверь.
Вроде бы вдвоем перепирались в темных сенях, да и на улице пустынно было в осеннюю непогодь. Однако через неделю в районной газете «Маяк» появилась заметка: «Советский учитель-ударник В. П. Личутин из Жердской школы подарил на прошлой неделе сапоги лишенке Житовой А. С, чем опозорил великое звание народного воспитателя. Явно от тов. Личутина В. П. попахивает душком морального разложения. Надо покопаться поглубже в его происхождении и посмотреть, чей он человек и на чью мельницу льет воду. „Неподкупный“.»
Учитель прочитал навет, изорвал газетенку в клочья и от напраслины возведенной на него, стало ему дурно, из носа пошла кровь. (Мама рассказывала, что подобное с ним случалось часто. Видимо, отец был человек неврастенического склада, с туго заведенной сердечной пружиной.)
Быстро засветил коптилку, и крохотный светильничек робко пробил темь. Вгляделся в зеркало: измученное темное лицо, черное пятно крови на рубахе, похожее на неровную прореху. Рухнул на кровать, стал считать до ста, наковаленки в висках приутихли, угомонились. И тут в дверь внезапно, едва слышно, постучали, едва коснувшись кулачком о войлочную обшивку.
«Да кто там? Входите! Не закрыто! – крикнул с раздражением, едва приподняв голову с подушки и тут же захлебываясь кровью. Подумал: так можно когда-нибудь истечь, истаять, и никто не услышит, не спохватится. Дверь приоткрылась робко и раздался стеснительный голосишко:
«Простите, Владимир Петрович, это я.»
Голос прошелестел столь же бесплотно, как недавний стук в дверь. Но учитель уже узнал и его, и пристертое сумерками лицо с напряженно распахнутыми глазами. Он нервно вскочил с койки, не зная, что предпринять.
«Боже мой, что с вами? – изумленно спросила Тося и по-матерински, без тени неловкости, прохладной ладошкой прикоснулась к потному лбу. – У вас жар и кровь, Боже мой, вам плохо?»
«Нет-нет, что вы! Здоров и счастлив. Гули да гули, лапти обули. Даже шутить в состоянии, – рассмеялся учитель, и тут снова ударили в висках неутомимые кузнецы. Зажимая в себе стон, привалился к бревенчатой стене. – Вы пришли ко мне, как странно. Сновидение то или мираж? Сейчас я очнусь, и сиротливое одиночество больно обидит меня. Нет-нет, только не уходите. Я слышу даже, как сладко пахнет от вас ночными фиалками... Значит, вы услышали мой голос, мой зов донесся к вам?» – горячечно, выспренно вышептывал учитель.
«Это все из-за меня. Мне братан донес. Как-то все нехорошо получилось», – заикаясь от волнения и часто озираясь на дверь, повторяла девушка, боясь, что вдруг их застигнут врасплох.
«Я только что думал о вас, честное слово».
«Не говорите так. Вы смеетесь надо мной. Сейчас кликну тетушку. Она мигом поставит вас на ноги».
«Никого не надо, только не покидайте. Они хотели оклеветать нас, глупцы. А мы пойдем рука об руку. Я так ждал вас, я одинокий человек, меня никто не любит. Мне так тяжело, поверьте».
Учитель было словно в горечечном бреду и плохо понимал, что говорит; бестолковые слова прорвали плотину, и сейчас он задыхался в них, не в силах найти самое нужное. Учитель боялся, что гостья так же неожиданно уйдет, как и появилась, потому торопился внушить девушке, что любит ее.
«Я не думал, честное слово. Я не знал, что так хорошо бывает. Я одинок был, поверьте».
«Как вы красиво говорите. Вы все придумываете, – Тося подала учителю влажное полотенце, и он вдруг стремительно прижался к ладони сухими шершавыми губами и стал часто целовать, опаляя дыханием руку и больно, цепко сдавливая ее. – Отпустите, прошу вас. Как стыдно-то, – бормотала она, вся дрожа. – Мы ведь не ровня. Вы всё делаете, чтобы подсмеяться над бедной деревенской девушкой».
Тут в сенцах гулко хлопнула дверь, видно с хозяйской половины кто-то вышел, Тося очнулась от наваждения и выбежала вон.
В газету «Маяк» жердский учитель Личутин послал обьяснение: «Вашу заметку касательно выдачи сапог считаю необоснованной ни на чем. Во-первых в прошлом году Жердская школа, а также школы всего сельского совета не занимались распределением сапог. Одна партия сапог (4 пары) с разрешения сельпо и сельского совета были выданы учителям и сторожу, в числе которых одна пара попала и мне, как учителю. И ношу я их сам, или кто другой, никому до этого дела нет, так как я вторых сапогов не получал... Интересно бы узнать, кто написал эту заметку про меня.»
* * *
Этот калач, разломив, хорошо положить в чашку с чаем и, он, скоро размокнув, разопрев, распухнув, раздобрев и разомлев, выпив в фаянсовой посудинке всю водичку, вдруг азартно, торопливо укатывался в твою заячиную утробушку, чтобы тепло и уютно улечься там; а самовар посипывает, завивая кольцами задышливый парок, как домашний толстый кот, пускает в потолок свою гнусавую песенку, и в медном зеркале его начищенных пузатых боков отражается и твоя мальчишечья замурзанная рожица, и худое мглистое лицо бабушки Нины с завернутым вовнутрь, высохшим в строчку глазом, и курносое скуластое обличье моей матери, странно скособоченное, кривое, отчего ты невольно прыскаешь в кулак и торопливо двигаешь чашку под краник, а сам поглядываешь на тарелку, где лежат твердые лакированные сушки, похожие на уснувших рыжих щенят. Эх, невольно думается с завистью, – сколько бы я мог умять этих жилистых заварных калачей, а вместе с ними в мое безразмерное ненажористое мальчишечье пузцо влезло бы с десяток чашек чаю, и вся голубоватая на сколе искристая сахарная головенка, от которой мама откусила щипчиками по кусманчику сахарку и наделила рукодано. Бабушка пьет долго, деловито, колупая от своего кусманчика единственным желтым зубом, прижаливая сахарок, сострагивая лишь сладимую тончайшую пленку и сглатывая ее, и так же деловито смоктает зажарную баранку, а после шестой чашки укладывает обсосочек сахарку на край блюдца, переворачивает чашку вверх дном, вытирает сопревший лоб от легкой росы, и в который уж раз елозит гребнем в толстых, как проволока, волосах, высоко подрубленных сзади над оголенной морщинистой шеей. Бабушка смотрит на портрет сына Володи, растягивающего мехи гармоники, вздыхает, и на зрячий, пока единственный глаз накатывается скоро просыхающая слезка... Среди родных живет мнение, что бабушка Нина иссушила глаз по погибшему сыну. (Ей плакать никак нельзя, ибо может потерять и второй глаз.) И мама Тоня тоже вскидывает взгляд на мужа Володю, но уже ничего не говорит, потому что все давно высказано и добавить нечего. Мой, оставшийся на войне отец, и по смерти близит двух женщин и невольно делает их родными. У каждой горе свое, и утрата бесконечно, неутомимо точит, иссушает сердце, и навостряет взгляд ревностью. И невольно щемит обида; а почему так жестоко Господь наказал именно их, не помилостивил, не помирволил. (Так я полагаю нынешним умом, а тогда, девятилетний щеня, я лишь хитро стрелял глазами по столу и по распахнутой двери, на которой парусила от летнего сквозняка занавеска, размышляя, как бы мне ловчее стянуть из тарелки баранку и улизнуть на улицу.)
Когда уж вовсе нечего было поставить на стол, мама нарезала черный хлеб ломтями, намазывала толченой картошкой, сдабривала постным маслом и, уложив стряпню на противень, совала в жаркую печь. Конечно, это не «картовные» шаньги, любимая еда поморянина, но поданные на стол прямо с пылу, они сметались в миг. Это было нечто промежуточное между настоящим печивом и непривередливой крестьянской стряпнёю, соображенной хозяйкою на скорую руку. Ведь гостье простой ломотек не подашь к чаю, душевное неудобство не позволит; как бы нарушаешь тем самым неведомо кем и когда установленный порядок и чин. Сами-то мы пробавлялись до пятьдесят седьмого года тем, что Бог пошлет, но Всемилостивый посылал к столу так скудно, что мать по незатихающей гордости своей перед обедом запирала двери, чтобы соседи случайно не узнали, чем пробавляется вдовица. А часто бывала лишь запеченная на листе картошка, и смуглую кожуринку с золотистыми пятонышками усмиренного огня мать умудрялась каждый раз присолить слезами. Я отворачивался, только чтобы не видеть воспаленные до красноты веки, лазоревые глаза и распухшую от желез шею.
Ведь попросить – не украсть, но вот у матери, как раз язык-то и не поворачивался для просьбы, словно бы в него внедрялось вдруг раскаленное жало и вставало поперек горла. Одалживать в людях мама посылала меня, обычно за неделю до получки, и не по родне я бегал за помощью, задрав голову, но отчего-то стучался к учителям, кто начинали службу вместе с отцом и бережно хранили память о нем. Завидя мою скукоженную от мороза мордашенцию, багровые руки в пипках, как бы вареные в кипятке, заледеневшие варежки, чудом держащиеся на кончиках пальцев, и вставшую колом пальтюшонку, они уже без слов знали, зачем я заявился ввечеру при ранней луне, когда от облитых таинственным светом высоких снегов встают в раскаленное небо голубые сполохи, похожие на призраки, а под угором, где начинается поскотина, уже пугающе дегтярный мрак, по дну которого прибрели к городку медведи и волки, уставя на меня вспыхивающие изумрудами глаза. Вот вспоминаю, и самого холодом обдает, так все близко, оказывается, неизгладимо, совсем рядом, – и причудливая под луною громоздкая тень от избы, занимающая половину улицы, и этот хрусткий скрип ступенек крыльца, и протяжливый взвизг уличных ворот, потемки коридора, когда вместо ручки торопливо нашариваешь кошму двери, чтобы ловчее потянуть на себя, и ослепляющий свет керосиновой лампешки из кухни. После морозного запаха снега и воли керосиновый дух резко шибает в нос; но это дух тепла, размеренной избяной жизни.
«Мама взаймы просила, – говорю я вздрагивающим от стужи голосишком, едва ворочая языком. – Ну хотя бы три рубля до получки.»
Хозяйка без слов уходила в горенку, не долго копалась в шкапчике и выносила денежку. Мать в должниках никогда не оставалась и деньги отдавала сразу, с получки, хотя по трешке, по пятерке набиралось порядочно. Но проходило дней десять, – и все повторялось.
Но зачем же только угрюмое, скорбное и печальное наискивать в голове; если лишь подобное носить в памяти, то загнешься от одних воспоминаний, как уловленная в Иордани наважка в крещенскую пору. Ведь было же, братцы мои, было и иное, осиянное, когда праздничный дух Пирогощи царевал в нашей боковушке.
Еще свежо в памяти: на воле темным-темно, выколи глаз, стеклина в толстом снежном куржаке, как во мху, а по убогому нашему житьишку волнами плывет хлебенный сытный хмельной дух, – это квашня живет, дышит на самом верху печи-голландки в потемках, умудряется пускать на волю пузыри, хотя и плотно закутана в портище, чтобы не остыла. Как-то мать умудряется поднять кастрюлю на самую верхотуру, под потолок, ибо тут ей и самое место, только здесь и сохраняются жалкие остатки тепла. В этом закуте мать пробовала прятать от меня сахар, выданный по карточкам, но я, пролаза, ростом с валенок, скоро вынюхал схоронку и нанес провианту большой урон, а маме печаль и досаду.
Нет, братцы мои, это не нынешнее скорое городское печиво; наведет хозяйка в кастрюле скороиграющих дрожец, и уже через два часа можно стряпать. Пироги пышные родятся, – пока горячие, – но так же скоро и упадают в теле, хиреют. Помню, мать-то за ночь не один раз вскочит, чтобы тесто посмотреть, подмешать мучицы, иль придавить его крышкою, чтобы не ушло вон. Проворонишь, да коли выплеснется через край квашонки и поплывет по печи, тогда хоть ладонями черпай, хоть ложкой заскребай.
А мороз, как из пушки палит, кряхтит изобка, оседая на пяты, но с третьими петухами вскочит мать с кровати, (сердце-то сторожит, как бы тесто не упустить) и, осторожно переступая через наши тела, разметавшиеся на полу, начинает тестяной ком нянькать, перекидывать с ладони на ладонь, да приколачивать, – вот так же только что выскочившее на белый свет дитя шлепают по заднюшке, чтобы очнулось оно и заорало «лихоматом». Вот и печка заскворчала, загудела, розовые лисы игриво выскочили из дверки на пол и давай поплясывать на студеном полу да сметываться алым заревом на оконницы. Батюшки мои, какой тут сон, когда от хлебенного духа в носу свербит; вроде бы и дремлешь на одном глазу, но невольно ловишь дуновение запашистых сквознячков, и поставив уши топориком, с закрытыми глазами разбираешь, – ага, кочергой мать заворочала, разбивая головешки, выравнивая уголье по поду, потом загремела деревянной лопатой и противнем, заталкивая его в жар, и в это мгновение, кажется, весь мир замер, насторожился чутьисто. Не хлопают двери туда-сюда, впуская морозные хвосты, не бродит хозяйка по своим делам, но вот присела на табуретку, и вроде бы безучастно глядя на керосиновую пиликалку, сложив усталые руки в подол юбки, сама замерла и ждет, подгадывает, когда придет пора доставать из печи листы... И вот ни с чем несравнимый пирожный дух поплыл по комнатенке, съехало с противня на стол румяное печиво, макая в жир (какой привелся) куропачьим крылом, смазывает мать стряпне огняные бока, накрывает полотенцем, чтобы приобмякла она. Вот в эту-то минуту и появляется на пороге Пирогоща, и давай тормошить нас, «засонь», дескать, протирайте детки глаза и садитесь за праздничный стол.
Если день субботний, то стряпает мать «кажноденное»: шаньги крупяные и заливные, или шаньги «картовные» и ягодники, шаньги творожные да колобки житние воложные, да пироги «капуственные», да колачи, да кулебяки с той рыбкою, какую Бог послал, только чтобы в тесте держалась, не уплыла. Это всё стряпня неуросливая, не требует от пекарихи особенного умения, к чему любая поморская женоченка пристала с молодых ногтей. Но меня удивляет нынче, как это мама умудрялась стряпать в печи-столбушке (голландке), куда противешок влезает маленький, а пирогов на семью затеяно много.
Мезень – городишко хоть и старинный, исторический, но беззатейный, не фасонистый, но тоже со своей похвальбой; прозвище у мещан – кофейники, из веку пили кофе из самовара. Каждая хозяйка на Мезени могла печь многое: жилое – к чаю, сдобное – к кофию, одних тортов – двадцать сортов. Где-то на Руси были кожемяки и кузнецы, коневалы и ткачи, косторезы, кружевницы, пимокаты, древоделы, литейщики, сапожники, портные, плотники, а в Мезени до сей поры, – когда я пишу эти строки, – здравствуют пекарихи. «Стол-то как картинку сделают, умеют наряжать». И хвалилась хозяйка перед гостями не закусками и стоялыми винами, а печеным. «Мода была такая принята.» Но и в этом затейном рукоделии особый талан нужен; ведь одна мучка, да разные ручки. Потому на свадьбы и именины стол готовили званые пекарихи. Бабушка Нина все умела стряпать, а мама моя пекла только «кажноденное», но, конечно, пироги да шаньги из ее рук были самыми вкусными на свете. Об этих теплых пирожках часто вспоминал в письмах мой отец.
7
Помню, ехал я из Архангельска в Мезень на пароходе «Воронеж» по журналистской командировке; на нем когда-то я покидал родину, чтобы увидеть белый свет. Та же надраенная палуба, чуть скошенная назад огромная черная труба с красной «генеральской» лампасой, скамейки, принайтованные намертво, щедрое весеннее солнце плавится в воде, своим отражением залепляя глаза, море лосое, как зеркальце, ничто не колыхнет, не отзовется в нем на жаркие воздуха, лишь сонно покачиваются чайки-моевки, похожие на сетные поплавки; и вроде бабы те же, осадистые, щекастые, грудастые поморянки с ведрами и холщевыми сумками, забитыми городским продуктом, и прежние сухопарые голубоглазые мужики, слегка захмеленные, праздные, с тоскующим от вынужденного безделья взглядом. Может они и были, лишь на десять лет подзаветряли, присъежились, потускнели. Ведь, «старые старятся, а молодые молодятся».
Подле женщин на соседней скамье сидел одноногий бровастый старик в суконной кепке-восьмиклинке и все время подбивал деревяшкой по сапогу, выставив березовую култышку в мою сторону.
«Молодой человек, можно вас на минутку, если не посчитаете за оскорбление, – вдруг позвал он меня и спопутчицы с интересом уставились в мою сторону. Я подошел, отчего-то краснея.
«Вы сядьте, ноги не казенные, – старик пододвинулся, освобождая место. – Если для вас нетрудно и не почтите за назойливость, то ответьте, пожалуйста, на один интересный вопрос. Ваш отец, случаем, не деревенским учителем служил?»
Я кивнул.
«Дальше продолжу в том же роде. Может его звали Владимир Петрович Личутин, и служил он в Азаполье?»
Я снова кивнул.
«Ой, как вы схожи обличье-то! Смотрим, он или не он, боле некому. Вы уж не пообидьтесь, что потревожили вас.» Добрые женщины, они перебивали друг друга и каждой хотелось вставить словечко, глаза наливались быстрой слезой от воспоминаний.
«Ну будя вам, курицы. Налетели на мужика», – пробовал урезонить косоногий старик. Но куда там.
«Мы ведь учились у вашего татушки».
Я невольно прикинул их возраст и поразился, как быстро течет время; значит отцу было бы нынче за шестьдесят.
«Он некрасовитый был, но большой умница. Мамушку-то вашу, бывало, завсе на руках носил. Мы после школы провожали Владимира Петровича, он к себе домой и пригласит, а у вас полы в избы накрашены, печеных пирогов полон стол. Мамушка-то ваша рукодельница была. Уж завсе чай пить посадят. Сам-то учитель чай напусто пил, сахар прятал в железную коробку, копил, а после детям и раздаривал. Вот чаю-то с шаньгами напьемся, а после с горы на санках с нами. В сугроб-от закатимся, да падем, с головой зароемся в снег, смеху-то ой! После нас отряхает. Добрый был. Аня про него и стих сложила. Ты, Аня, не стесняйся, помнишь, как допирали до нас учителя, кто да кто сложил?»
Аня, худая и смуглая, как черкешенка, женщина, обтерла губы уголком платка и прочитала нараспев:
«В Азапольской средней школе учит пять учителей;
Митрофанов, Епифанов, но Личутин всех добрей.
Митрофанов на кровати, Епифашка на печи.
Как грызут-то кирпичи, загибают калачи».
«Ну и ловка ты, Анка, – засмеялся старик. – У нас из веку мода на деревне к сочинительству. – И уже обращаясь ко мне. – А папаша твой умник большой был, ой умник! Сейчас бы ему министром культуры быть иль выше куда. Помню, как роман „Война и мир“ на публику читал, дак не с месяц ли до ума доносил. Народу набьется, в избу-читальню не влезали. Такого свойства был человек, умел вовлекать и к нему все тянулись...»
* * *
Собственно с сапог все и началось тогда. Выдали обувку учителю по разнарядке. Зашла однажды Тося к тетке своей по нужде какой-то. Осень была, дождь с ночи не переставал, грязь непролазная. Глядит учитель, а у девочки сапоги развалились, каши просят. Что толкнуло парня в самое сердце, но только поспешил к себе в боковушку, а у сундука еще новехонькие, ни разу не надеваные сапоги хромовые стоят, только что наробраз выдал к учебному году. Глядятся, как любушки, голенище к голенищу, и через ушки серая бечевка пропущена. Схватил, в сенцы кинулся, а Тося уже за щеколду ухватилась, собралась уходить. Пихнул сапоги в руки: «На, бери». – «Не-не, Владимир Петрович», – испуганно отпрянула. «А ну бери, кому говорят», – прикрикнул сурово, перекинул ей через плечо, словно бы собрал девку в дальнюю дорогу, но чтобы зря не марать обувку в грязи, приказал покамест босиком идти.
«Бери, бери, не вводи меня в строгость», – и вытолкнул за дверь.
Вроде бы вдвоем перепирались в темных сенях, да и на улице пустынно было в осеннюю непогодь. Однако через неделю в районной газете «Маяк» появилась заметка: «Советский учитель-ударник В. П. Личутин из Жердской школы подарил на прошлой неделе сапоги лишенке Житовой А. С, чем опозорил великое звание народного воспитателя. Явно от тов. Личутина В. П. попахивает душком морального разложения. Надо покопаться поглубже в его происхождении и посмотреть, чей он человек и на чью мельницу льет воду. „Неподкупный“.»
Учитель прочитал навет, изорвал газетенку в клочья и от напраслины возведенной на него, стало ему дурно, из носа пошла кровь. (Мама рассказывала, что подобное с ним случалось часто. Видимо, отец был человек неврастенического склада, с туго заведенной сердечной пружиной.)
Быстро засветил коптилку, и крохотный светильничек робко пробил темь. Вгляделся в зеркало: измученное темное лицо, черное пятно крови на рубахе, похожее на неровную прореху. Рухнул на кровать, стал считать до ста, наковаленки в висках приутихли, угомонились. И тут в дверь внезапно, едва слышно, постучали, едва коснувшись кулачком о войлочную обшивку.
«Да кто там? Входите! Не закрыто! – крикнул с раздражением, едва приподняв голову с подушки и тут же захлебываясь кровью. Подумал: так можно когда-нибудь истечь, истаять, и никто не услышит, не спохватится. Дверь приоткрылась робко и раздался стеснительный голосишко:
«Простите, Владимир Петрович, это я.»
Голос прошелестел столь же бесплотно, как недавний стук в дверь. Но учитель уже узнал и его, и пристертое сумерками лицо с напряженно распахнутыми глазами. Он нервно вскочил с койки, не зная, что предпринять.
«Боже мой, что с вами? – изумленно спросила Тося и по-матерински, без тени неловкости, прохладной ладошкой прикоснулась к потному лбу. – У вас жар и кровь, Боже мой, вам плохо?»
«Нет-нет, что вы! Здоров и счастлив. Гули да гули, лапти обули. Даже шутить в состоянии, – рассмеялся учитель, и тут снова ударили в висках неутомимые кузнецы. Зажимая в себе стон, привалился к бревенчатой стене. – Вы пришли ко мне, как странно. Сновидение то или мираж? Сейчас я очнусь, и сиротливое одиночество больно обидит меня. Нет-нет, только не уходите. Я слышу даже, как сладко пахнет от вас ночными фиалками... Значит, вы услышали мой голос, мой зов донесся к вам?» – горячечно, выспренно вышептывал учитель.
«Это все из-за меня. Мне братан донес. Как-то все нехорошо получилось», – заикаясь от волнения и часто озираясь на дверь, повторяла девушка, боясь, что вдруг их застигнут врасплох.
«Я только что думал о вас, честное слово».
«Не говорите так. Вы смеетесь надо мной. Сейчас кликну тетушку. Она мигом поставит вас на ноги».
«Никого не надо, только не покидайте. Они хотели оклеветать нас, глупцы. А мы пойдем рука об руку. Я так ждал вас, я одинокий человек, меня никто не любит. Мне так тяжело, поверьте».
Учитель было словно в горечечном бреду и плохо понимал, что говорит; бестолковые слова прорвали плотину, и сейчас он задыхался в них, не в силах найти самое нужное. Учитель боялся, что гостья так же неожиданно уйдет, как и появилась, потому торопился внушить девушке, что любит ее.
«Я не думал, честное слово. Я не знал, что так хорошо бывает. Я одинок был, поверьте».
«Как вы красиво говорите. Вы все придумываете, – Тося подала учителю влажное полотенце, и он вдруг стремительно прижался к ладони сухими шершавыми губами и стал часто целовать, опаляя дыханием руку и больно, цепко сдавливая ее. – Отпустите, прошу вас. Как стыдно-то, – бормотала она, вся дрожа. – Мы ведь не ровня. Вы всё делаете, чтобы подсмеяться над бедной деревенской девушкой».
Тут в сенцах гулко хлопнула дверь, видно с хозяйской половины кто-то вышел, Тося очнулась от наваждения и выбежала вон.
В газету «Маяк» жердский учитель Личутин послал обьяснение: «Вашу заметку касательно выдачи сапог считаю необоснованной ни на чем. Во-первых в прошлом году Жердская школа, а также школы всего сельского совета не занимались распределением сапог. Одна партия сапог (4 пары) с разрешения сельпо и сельского совета были выданы учителям и сторожу, в числе которых одна пара попала и мне, как учителю. И ношу я их сам, или кто другой, никому до этого дела нет, так как я вторых сапогов не получал... Интересно бы узнать, кто написал эту заметку про меня.»
* * *