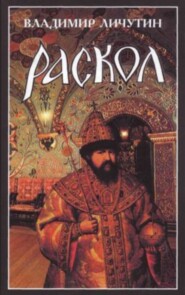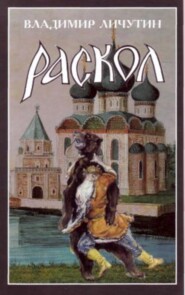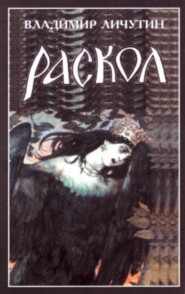По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Скитальцы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зверина ты, у-у, тьфу, нечисть. Ножом угрожал, батюшко. Глазищи-то у него, кого хошь перепугат. А у меня тага на печи да я, девушка. Уж спустите как ли.
– А тобоки отцовы? Захарий Шумов дал? – вдруг спросил исправник у Павлы, но мельком глянул на Степкино лицо и заметил, как дрогнули растерянно глаза.
– Не, в них и пришел. У нево и совик-то новый, с хорошего сукна, небось кого пограбил, да, как я показывала, в холсте зашито платья всякого да платов. А мне-то сказывал, что на свои деньги куплено. Дак спустите, батюшко, – взмолилась снова девка и повалилась на колени. – Куда я тепере, позорна, денусь. Только в пролубь головой...
Павла стала биться на полу и стенать, на том допрос неожиданно кончили и всех отвели в арестантскую, а на Степку Рочева исправник повелел колодки надеть. И еще неделю пришлось сидеть в холодной Калине Богошкову и Павле Шумовой, пока-то разыскивали в тундре самоедского пастуха Матвея Лытуева. Тот посмотрел на Степку и признал на его ногах тобоки своей работы: в прошлом годе шил и продал задешево по старой дружбе покойничку Ханзину.
– У, лопь косоглазая, – вскинулся Степка на низкорослого смуглолицего ненца, но не успел и половицу перешагнуть, как усадили на лавку умелые стражники. И поник головой Степка, понял, что запираться не след более, и много было в тот день работы для подканцеляриста Никифора Митрофанова.
И Степка Рочев показал: «... По осени в пустой промышленной избе жили немалое время, но покраденная ранее мука кончилась. А знал он, Рочев, что невдалеке от этой избы есть дом и живет там Дорогорской волости крестьянин Иван Ханзин с женой и дочерью. И о том сказал сотоварищу своему Алексееву, и тот поутру пошел туда просить хлеба, и того же дня вернулся обратно, и принес два житника прелых, и сказал, что хозяин недавно помер, а в доме живут только жена его и дочь. И Алексеев стал звать Рочева пойти и жену и девку убить, а имение пограбить, на что он, Рочев, сказал, что на убийство не пойдет. Тогда Алексеев без согласия взял с собою нож в ножнах и копье, которое они нашли в этой избе, и пошел один ко вдове Ханзиной. А вернувшись обратно, сказал, что жену и девку убил до смерти, а покраденное имение все притянул на чунке. Но всего имущества Алексеев не показал, а только хвастал бураком берестяным, в котором было денег ассигнациями шестьдесят пять рублей, да серебряных пятнадцать рублей, да медных пятиалтынников сколько, про то он, Рочев, не знает, потому что теми деньгами Алексеев не поделился, а забрал себе.
На товарище был покраденный ранее у березницкой деревни в амбаре суконный совик, а на совике том – кровь. Он ту кровь замыл, сапоги, которые по ветхости при побеге пропали, выбросил и надел тобоки покраденные, а вторые отдал мне. Что случилось в том доме, он, Рочев, знает только по словам Алексеева, который рассказывал так, будто пришел к избе Ханзина на лыжах уже вечером. Копье, дескать, оставил в сенях у дверей, а нож в ножнах взял с собой. Зашел в избу, просил у бабы Ханзиной денег двадцать рублей, хлеба и сказывал, что пойдет явиться. Но оная жонка хлеба и денег давать ему не стала, а бранила его, Алексеева. Тогда он осердился, вынул из ножен нож и тем ножом стращал Парасковью Ханзину и просил хлеба. Замахнулся он на оную жонку ножом, и она руками обороняться стала, попало ей по правой руке, по кисти. Она не убоялась страху, схватила Алексеева сзади за опояску, а девка Варвара убежала на улицу. Потом вытянул жонку из избы, взял в левую руку оставленное у дверей копье и тем копьем бабу Ханзину колол, во что угодить мог.
Мать девку к себе на помощь прикликала с улицы, Варвара прибегла и Алексеева сзади копьем в шею ткнула и проколола на нем суконный совик, а тела не повредила, после того свое копье бросила, а копье в руках Алексеева захватила и хотела его отнять. Тогда он ножом девке по руке чиркнул, и девка убежала в овечник, а мать упала на пол. Алексеев погнался за девкой и дверь в овечнике с внешней стороны завязал веревкой, а когда вернулся, то увидал, что баба Ханзина еще жива, и лежащую ее тыкал копьем два или три раза. А когда она стала мертва, то накрыл сверху оленьей полостью и пошел в клеть.
Искал там денег и найти не мог, пошел в амбар и там денег найти не мог, пошел в гумно и топором рассек две бочки с мукой, но кроме муки там ничего не было. Потом искал в доме денег и нашел во дворе под скотинными яслями прикрытый навозом берестяной бурак с медными деньгами и ассигнациями. Еще взял в сенях винтовку, топор, шубу овчинную небольшой руки, в клети разбил короб и взял из него рубаху мужскую красную александрийской пестряди, полурубашье набойчатое женское, да плат красный александрийской пестряди, обложен нитяным кружевом, да двои тобоки, шитые из оленьих лап; на улице на дворе нашел чунку, погрузил имущество, привез в тайбольскую избу и сказал мне, что жонку Ханзину и девку ее убил. А мне из пограбленного Алексеев отдал рукавицы женские, да две рубахи синие пестрые, двои портки, да холста белого восемь аршин с половиной, двои чулки шерстяные вязаные, да два платка набойчатые.
А что еще покрал Алексеев в доме вдовы Ханзиной, он, Рочев, того не знает, потому что тем же днем, боясь, чтобы не поймали, пошли из той избы на низ реки, где и спрятали ружье, а чунку сожгли. Потом он, Рочев, стал склонять Алексеева, чтобы явиться властям, пока убийство не открылось, дай Бог, посекут да обратно в адмиралтейство отправят, но товарищ не захотел, и они тут разминулись. А где он сейчас, того Рочев не знает...»
Следствие затянулось, и конца его не видать было. Калину Богошкова отослали к городничему под стражу, он совсем разболелся и пал духом. Однажды навестил его свояк, дорогорский староста Петухин, посоветовал отписать прошение властям, чтобы освободили на поруки ввиду крайней болезни. Калину осмотрели и нашли, что крестьянин Дорогорской волости Калина Богошков «подлинно одержим болезнию в ногах и лихорадкою, которые причиняют ему большую слабость и бессилие и имеется во внутренности изнурение его тела».
Калину отдали из-под стражи на поруки канцеляристу Патрикею Аксенову и мезенской команды драгуну Ивану Ершову, и взята была с мужика подписка, чтобы жил он на городе Мезени в верхней слободе и до решения дела никуда не отлучался, а еще было объявлено ему, «чтобы впредь с лихими людьми, татями и разбойниками обхождения не имел и об них, когда узнает, объявлял».
И только в самую весну Степку Рочева обули в колодки, потом секли прилюдно на Мезени и в Дорогой Горе и по этапу отправили в Сибирь. И, знать, набегался с той поры верховой няфтенский парень, потому что след его канул в полуночной стране, откуда редко кто являлся назад.
А Павле Шумовой и Калине Богошкову по всемилостивейшему указу царя плети заменили батогами, и на деревенском сходе прилюдно выпороли за их доброту. Павла к весне совсем сникла и постарела, снежный волос родился на голове, а на впалых щеках проступила пятнистая ржавчина: нежданно затяжелела девка. И когда ей бесстыдно заголили спину, заворотив на голову юбки, как в ту единственную ночь, она гак же покорно лежала и только выла, не сдерживая себя, и украдкой упиралась локтями, чтобы не давить животом в скамью.
Часть вторая
Одно начало, да разная дорога
Поморская поговорка
Глава первая
Тайку на этом свете не ждали.
Сына просил у Бога Петра Чикин, потому как все девки рожались, одна за другой, попридержать бы их, а нужен наживщик был, чтобы землю на него отрезали, чтобы за сохой мог стоять. Петра самолично двери настежь отворил, все замки спрятал; с Гутьки кольцо серебряное тонкое снял и косу расплел, только знай рожай сына, жонка. Да и Августе попреки в горле встали, рада хоть пятерых парней разом принести, только бы не точил мужик гнусливыми словами, да и понимала бабьим умом, что женские годы под гору покатились, вот и живот частенько постанывает ныне. Потому и крепилась Августа, и брюшину затягивала, чтобы в глаза людские не бросалась; скрывала она, что на сносях, как бы не сглазили колдуньи-еретницы.
Перед тем как Тайке родиться, было над деревней знамение. Еще утренняя заря не отгорела и печально и багрово потухала, покрываясь серым пеплом мглистого неба, и солнце еще не проклюнулось из снежных заводей, как за второй Пыей, на синих лесных склонах, родились и стали пухнуть два мутно-холодных шара. Они были подернуты изморосью и весь день тащили за собой похожее на донце медной кружки крохотное солнце и до самой вечерней зорьки колыхались, то вытягиваясь оранжевыми столбами, то странно расплющивались, иль стояли красными языками, подобием пламени великаньей свечи. За весь день тусклое солнце так и не проклюнулось сквозь розовое марево и вместе с ним вернулось в снежные облака.
Людям было страшно. В тот день в Дорогой Горе не гасили лампадок, крестьяне сулили всяких напастей, а где-то за полночь в самую потемь так закуревило – Божий страх. Метель билась в старые стены, тоскливо пуржила, накатисто ударяла в волоковые оконца, словно нащупывала слабину, и тогда казалось, что изба Чикиных скоро не выдержит и падет на колени. Порой ветер катился через поветь, совался в неплотно прикрытую дверь меж соломенными обвязками, и снежная пыль легко носилась над самым полом. Баба Васеня не стерпела, тяжело спустилась с печи, сняла с засторонка жирничок.
– Находальники, стомоногие жеребцы, носит взад-вперед, а уж двери прикрыть не помыслят, – захотела отпахнуть пошире дверь, чтобы заново прикрыть плотнее, но она отпотела, разбухла, а может, наросли на пороге наледи, – и пришлось брякать ногой. Тут и всполошилась неожиданно дочь, захлебнулась в крике. Баба Васеня с жирником побежала к Августе, закричала зятю...
– О-о-о, чешись больше. Осподи!
Петра скорее к повитухе Соломониде, хорошо рядом, на самых задах жила старушка-девица. Потом снег отвалил от бани, запалил каменицу. Березовые полешки положены были загодя и схватились сразу. Не успела выстояться баня, и Августу привели, готовое дело. Петру выгнали вон – не мужское дело быть при родах. Соломонида растелешила роженицу, в пар пока не повела, угар еще гнездился под низким потолком. Вдвоем с бабой Васеней водили Августу в сенцах да потряхивали: той было больно, она кричала животным голосом, но освободиться не могла.
– Ты поплачь, ты пореви, – бормотала баба Васеня, необычно жалея дочь. – Осподи, через горе да на горе, вся-то и жизнь. Ведь говорено было, не ешь хлеба ячменного, а ты все ись хочу да ись хочу, вот и нажоралась, – вдруг закричала на Августу.
А повитуха, маленькая и опущенная, как осенний гриб, мужицкой ладонью оглаживала роженицу по спине, по плечам: Августе становилось сонно и безразлично, боль куда-то ушла, и только слезы стекали по лицу и мешали дышать.
– Ты пыжься. Не иначе паренек идет, ишь своенравный какой, ширится, мамку мучит и сам мучится. А ты, голубица-касатушка, не садись, ты похаживай, ты поскакивай. Знать, поперечно идет молодец.
Но без лошадиной упряжи не обошлось, пришлось тянуть бабу через пахнущий зверем и потом тесный хомут, тут все облились стонами и банным жаром. Только под утро пришла девка. Августа по крику узнала, кого принесла, головы не повернула. А повитуха подняла девку за ножки, по заднюшке похлопала:
– Эки-ти девки у нас в слободке еще не рожались. Голова-то вся в белых волосьях, хоть под венец ставь, густы-ти сколь.
– Будет тебе ерунду молоть, – остановила баба Васеня. – Как положено, так и рожено. Людей не насмешили, на стороне не займовали.
Повитуха обиделась, луковичное лицо спрятала за сетку морщин, пожевала губами, но смолчала: ребенка разложила на скамье, веником березовым захлестала, запричитала уже сухим, почужевшим голосом:
– Не я тебя мыла, не я тебя парила, мыла тебя, парила бабушка Соломонеюшка. От Христа пришла, от истинного, с мягкими руками, с крепкими словами, мыльным мылом, теплою водою мать-мироносица, рабы Божия, на легкую помощь, на доброе здоровье, на Божию помощь. – Квасу в рот набрала, погрела-побулькала, роженую напоила, пряника чердынского нажевала, в тряпку завернула, сунула в рот. – Ну, не ревишь, значит, смиренна будешь.
И только Августа на дочь не глянула, а мать веником ее лупит и утешает:
– Ну, чего ревишь. Обратно не запихнешь, не воротишь. Не зашивать же веретенкой, коли идут.
– Да, идут, – в голос воет Августа, обвисая на скамье. – Теперь хоть в избу не ворочайся. Забьет, ирод.
Тут и свечи принесли в баню, самовар – он еще кипел, пузырился и от мокрого пара сразу запотел, стал белым. Пряники чердынские да орехи-меледу в тарелках поставили на полок. Соседки навещали, чай пили, девку мяли, в зеленые глаза смотрели.
– Эко чудо, таки у нас еще не рожались.
И только Петра Чикин дочь не навестил, до вечера в питейном доме пропадал, диво какое, небывалый случай: нагрузился вином, потом в сугробе сидел, редковолосая голова в снегу, в бороде слезы замерзли. Мужики узнали его беду, идут мимо, спрашивают:
– Петра, кого Бог дал?
– Работницу-оржануху. Кому нать, за полушку отдам, – пьяно кричал Петра и опрокидывался в снег.
– Ну, буде, буде изводиться тебе. За слезы деньги не давают. Ты не реви, Москва слезам не верит. Подрастет девка-оржануха, мужика во двор заманит, худо ли ты живешь?
– Кака к лешему жизнь, в чужом-то дому с руки ешь, слова громкого не скажи, – пьяно жаловался Петра.
– Как же, тебя с руки накормишь, кукушку эдаку. Поди давай домой-то, дочку приветь. Божий подарок.
... Через неделю Августа с дочкой из бани вернулись. Петра бабу не колотил, но и разговаривать не стал, с печи не слез поглазеть на дочь, а только шипел тоскливо:
– У, колода вислобрюха, деревянна ступа. – И даже на повитуху голос поднял, будто ее вина была в том; чаем не напоил и стопочку не поднес, как полагалось по старинному обычаю, не нами заведенному. Хорошо, баба Васеня сундучок свой открыла с немудрящим обзаведением, там из коробки чайной рубль денег достала – на похороны копила, да свой сарафанишко набойный ношеный, да кусок мыла, с фунт будет, отдала: «Ты у нас, бабушка, опачкалась. Вот возьми мыла, оно тебе спонадобится».
Роженую окрестили Таисьей, на третий день, как заведено, молоком коровьим цельным кормить стали: от старшей сестры, от девки к девке шел белый жестяной рожок, – купил его Петра на Пинежской ярмарке, – на рожок натянули коровий розовый сосок, налили молока сырого – пей, девка, наедайся, набирай кость да мясо для бабьей доли.
Глава вторая
В ту ночь на Кузьминки, когда у Петры Чикина нежеланная девка родилась, сироте Павле Шумовой тосковалось. Она еще не думала опростаться, хотя и бродила по дому тяжело, юбки расперло – и пришлось разнаставлять; поднималась с лавки, упираясь широкими ладонями в опухшие бедра и трудно разгибая спину; с лица совсем опала, окостлявела, и глаза стали круглыми, коровьими и совсем провалились в синие ямы. Павла часто гляделась в тусклый лик Матери Казанской, в ее печальные и зеленоватые при свете лампады глаза, сонливо вздыхала и всплакивала, роняя короткие слезы.
На улице пуржило, Бог ты мой, не приведи Господь в такую непогодь ехать полем. Бездумно молилась Павла за того, кто в пути сейчас, татушку поминала, боязливо озиралась на печь, словно бы он там лежит, со страхом прислушивалась, как воет ветер на повети, как ударяется в волоковые оконца и натужно вздрагивает в слуховом окне волочильная доска.