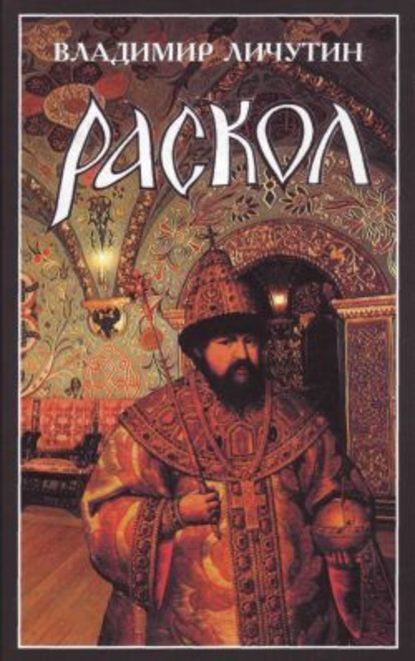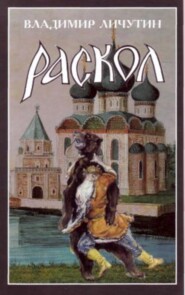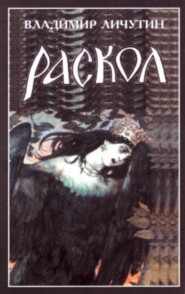По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Верно, как не верно, да одно худо, что Никон из него монаха сделает. Он, владыка, нас любит и сына нашего полюбит. Твоя сестреница за него кажинный день молит».
Государь с государыней вдруг спохватились, что оба думают о новгородском митрополите. Небось в тяжком пути ему нынче не раз икнулось.
«Ты себя храни, Алешенька, – жалобно, жалеючи, сказала царица, проведя ладонью по груди мужа, словно бы нынче же, не медля, провожала хозяина на брань. У бабы бабье не вытравить, на каком бы Верху она ни числилась. – Время темное, на миру сколько сарданапалов расплодилось. Не из зависти пусть, так из потехи незнамо какую кобь замыслят. Подумать страшно, нито».
«Ну полно, полно. Нас, поди, у стола заждались. Кушанья-то простыгли».
«Ой, Алексеюшко, я тебя нынче во снях видела, – вдруг призналась государыня, и сердце царя вздрогнуло. – Вот будто вылез из кустов придорожных тать, не наш обличьем. Нерусь, одним словом. И тебя рогатиною прободил. Я и спохватиться не успела, как приключилось. Ну... Хочу, значит, стражу кликнуть да тебя оградить. И никого вскричать не могу, голос пропал. Земля вкруг вся очервленилась, а на тебе ни кровинки. Пробудилась в худых душах полтретья, ни свет ни заря. Давай поклоны метать, о тебе Бога молить. Ой, Алешенька, поопасись...»
Вот как бы сон прочитала.
«Ну полно, полно... Кровь-то не на мне», – хотел утешить царь супружницу, но не успел. Из-за угла полыхнуло светом, раздались возбужденные голоса. Их искали. А государю так хотелось открыться госпоже в своих расстроенных чувствах. И вот не успел.
...Не ествян государь, не нажорист, а если и пухнет преизлиху, так не от сладострастия, не от преданности животу своему и не от дворцовой обильной кухни, но лишь по природе, склонной к тучности.
Царь строго постится восемь месяцев в году; лишь скитники, монастырские схимонахи готовы к таким борениям с плотью, к таким изнурениям страдающего тела своего. В Великий пост государь обедает лишь три раза в неделю: в четверток, субботу и воскресенье. Где те роскошества стола, европейские зажарные каплуны, копченные на вертелах золотистые барашки, от коих сок и жир текут по локти; где та ласкающая горячность взора, что вспыхивает от обильной ествы? Увы! Здесь холодная, заснеженная Московия, господа. И попавший к государю на прием в постный день пусть удовольствуется с внутренней тоскою тем, что принимает великий царь. А для Дворца готовятся ествы: капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, сырые и гретые, ягодные ествы без масла и квас. Та самая лешачья еда, что в изобилии произрастает на просторах Руси, про кою говорят в простонародье: «Гриб да огурец – в брюхе не жилец». Та самая ества, от которой смиренно клонится плоть и воспаряет дух. В остальные дни государь Алексей Михайлович кушает лишь кусок хлеба ржаного с солью, соленый же огурец или гриб и стакан пива легкого, с коричным маслом. Рыбу государь ест лишь дважды за Великий пост. Кроме постов, он не ест мясного по понедельникам, средам и пятницам, как монах и пуще того. В обычные же постные дни (понедельник, среду и пятницу) готовят ествы рыбные и пирожные с маслом деревянным, ореховым, льняным, конопляным.
Нынче, на двенадцатое апреля 1652 года, царица Мария Ильинишна сама смотрела порядок ествы. Первая статья: щука паровая живая, лещ паровой живой, стерлядь паровая живая, спина белой рыбины; вторая статья: оладья тельная живой рыбы, уха щучья живой рыбы, пироги с телом живой рыбы, каравай просыпной с телом живой рыбы; третья статья: щука голова живая, полголовы осетрей свежей, тешка белужья. Питья три кубка с отливом, ренское, да романея, да бастр. В золотом ковше подносить красный мед, а в серебряном – белый мед. Не для государя такой стол, но для царицы: она в интересном положении, на сносях дохаживает, ей нужна ества для укрепы, чтобы телом не спасть да новой жизни не потравить.
На царицын Верх для ближних бояронь, для дочерей, для нянек и мамок и для веселья вечернего велено подать: орехи простые, каленые, сибирские, грецкие, волошеские; жамки-груздики, кругляки угольнички, сердечки, горошки, прянички вяземские, белевские, тульские, папушники; яблоки моченые, сушеные, украинские, паренные с кваском; изюм крупный и мелкий, винные ягоды, чернослив заморский, груши моченые, сухие, дули калужские бергамоты, сушеные вишни владимирские, сливы моченые, костеника, моченная кисточками, брусника моченая, калина с медом упаренная, пастилы коломенские клюквенные...
Она даже ела молитвенно, сосредоточенно, погрузившись в трапезу, и всякое брашно воистину благоговейно вкушала.
Ласковость не то чтобы вспыхивала однажды по настроению иль по натуге изображалась на челе, чтобы не прогневить супруга, но она постоянно жила на лице. Ни разу государь не видел, чтобы хмурая тень залегала под ресницами Марьюшки; утром лишь размыкала изумрудные свои очи, а из них проливается кроткая радость. С этим чувством она и за молитвою стояла по пять часов сряду, не выказывая усталости. Боже, как он любил свою Марьюшку.
С серебряного блюда она приняла звено стерляди паровой живой, мимолетно и благосклонно улыбнулась крайчему; на миг как бы прикрывшись от чужого догляда жемчужным нарукавником (сама низала, еще будучи в невестах), поправила выбившуюся будто бы прядку волос под малиновый бархатный сборник, качнулся потревоженный золотой колт в крохотном, внезапно зарозовевшем ушке, и в какой-то миг из-под руки послала государю ласкающий тайный взгляд, чтобы не приметил стольник, стоящий невдали с огромным блюдом стерляди на вытянутых руках.
Алексей Михайлович отпил из кубка овсяной браги, ломоть ржаного монастырского хлеба, присланного чудовским архимандритом, густо присыпал из солонки.
«Отошли стерлядь эту на дом в подачу боярину нашему Богдану Матвеевичу Хитрову», – вдруг приказал стольнику. «Балуешь ты Богдана, балуешь, – с улыбкой укорила Марьюшка. – А он неслух и прокуда». «Он хоть и неслух, да предан, – отозвался царь. – Женила бы ты его, что ли? Он вот и табаку приучился пить, шалопай. Пришлось нынче изрядно поколотить своею рукою». Государь рассеянным взглядом окинул пустынную Столовую палату с длинными столами под браными скатертями и долгими скамьями, покрытыми камчатными налавошниками. На стенах, на божницах стояли образа, горели лампады. Не шелохнувшись, по всей трапезной застыли стольники и ключники, ждущие гласа дворецкого, и как-то странно, сиротливо, что ли, одиноко выглядели государь с государыней в этой зале с глубокими оконцами, откуда струил узорный апрельский свет, обещающий благодать. На воле было солнце. Скоро обещалась охота, царский выезд в дворцовые подмосковные села; распута, рыхлый водяной снег, первые проплешины на буграх, струистое марево над замглившимся приречным тальником. Боже, как хорошо-то!..
«Ты слышь, – встрепенулся царь, – что мне князь Хованский пишет, – будто он вовсе пропал с Никоном. Де, никогда такого бесчестья не было, чтобы государь отдал князя во власть митрополита, а тот заставляет ежедень у правила быть. Да и то верно, учить премудра, премудрее будет, а безумному – мозолие есть. Дак и то народом не зря обозван, что тараруй. Тараруй и есть». Государыня на эти слова укоризненно качнула головою, и царь спохватился, что, быть может, сказал лишнего. А что лишнего-то? Стольникам ли не знать, как государь не раз выговаривал князю Хованскому за спесь его: «Я тебя взыскал и выбрал на службу, а то тебя всяк называл дураком». Кажется, придирчив был царь и жаловал людей даровитых, высоко смотрящих, но Хованского, который и природою-то не мог похвастаться, ни умом, ни стараниями, ни особенными способностями похвалиться, неизвестно за что выделил и приблизил в спальники, ближние бояре.
Вот сейчас с Никоном за мощами святого митрополита Филиппа Колычева послан на Соловки, великая честь дураку указана, а он вот ломается, с пути всякие укоризны шлет. «Прости, Господи, за неявные, заглазные словеса мои. – Алексей Михайлович перекрестился. – А он, поди, Никон-то наш, люто прижимает синклит мой, подвигает к Богу. Ин забыли, как подобает лба перекрестить. Вот и Василий Отяев жалится друзьям своим: де, лучше бы нам на Новой Земле за Сибирью с княжем Иваном Ивановичем Лобановым пропасть, нежели с новгородским митрополитом в посылке быть, силою заставляет говеть».
«Они жалобятся, а того не поймут, что он святой, наш владыко Никон, – сказала царица, с грустью глядя на пустующий серебряный судок супруга, – опять, вот, не ест, сердито поствует, осеннего гриба соленого с маслом конопляным пожевал, и вроде сыт; дак что гриб этот, какой с него толк, зиму цельную в кадке, моченый, вылежал, нынче, что тряпка, ни пару в нем, ни жару – веком не жевал бы. Разве с такой ествы побежишь? Ой, государь мой, опять с соленого квасу надуришься, и будет утробушка непонятно с чего мерзнуть. Сказать бы, но остережись: не каждое лыко в строку – может и губу надуть, не поглядя, что холопы кругом на прислугах, осыплет бранью. Нет-нет, лишнее заганула: царь не то бранчливого слова, но даже сурового взгляда ни разу не сронил в ее сторону. Но крутоват, горяч порою, будто что вспыхнет внутри порохом, взор побелеет. Вон князю Хованскому какую малаксу только что на лоб припечатал, тараруем обозвал. Сейчас пойдет по Москве, не стереть печатки. Стольник Зюзин в крайчих, он молитвен, но с Хованским на ножах. Вот и взгляд спрятал. – Святой за святым отправился, вон в какой не ближний свет поднялся».
Умильно сказала царица, облила государя зеленым светом, неожиданно как бы подольстилась. Знала особую нежность царя к митрополиту.
Алексей Михайлович согласился: «Цареградский патриарх Неофит писал днями. Великий посланник Христов Никон явился на Русь на подвиг!»
Государь замолчал резко, потускнел. Заметила Марьюшка, как прорезалась поперек лба первая ранняя морщина. Замглилось лицо, туман пал на глубокие глаза государя. Невольно загляделась Марьюшка на мужа: приглядист, глаз не отвесть. Плотные русые волосы по плечи, с трудом костяной гребень продерется, борода кудрявая, крупными завитками, тень от ресниц на полщеки, в спокойные очи глядеться можно, как в зеркала, только нынче, вот, на самом дне чуть-чуть рябит, мельтешит тревога, досада ли иль беспричинная тоска... Может, блазнится государыне, казит? У самой-то какое нездоровье. Хоть бы скорее ослобониться да государя сынком обрадовать. Дай Бог, дай Бог. Эк ему там не лежится. Прислушалась невольно, как в животе пыщит, моркотно так встрепенулось, но поприжала алые губы снежной белизны зубами. Мелкие зубки, прихватистые, хоть орехи ими грызи. Бросила быстрый взгляд на государя, не заметил ли ее беспокойства.
«Али гнетет тебя што, государь? Не пристала ли на душу гнетея?» – жалостно спросила Мария Ильинишна и, оглянувшись, велела тут же крайнему с кубком романеи пойти прочь, не торчать за плечом, давая понять, что царю не до питья. Государь строго постится, а ее с рыбьей ествы и без вина тошнит: будущий наследник царицыны черева точит. Значит, и всему Терему нынче сидеть на крутом посту и сыто не кушивать.
«Да так, пустое. Не бери в ум, царица», – пожал плечами Алексей Михайлович. Но забота жены ласково легла на сердце.
«Не болит ли што, Алексеюшко? Вот больно сердит ты на поству. Иль дурное што наснилось?» – домогалась Марьюшка и вновь, другорядь за день, невольно дозналась о причине царской грусти. Верили во Дворце снам, чаяли в них истину и по ним тоже строили грядущую жизнь.
«Знаешь, какая беда. Конец света во сне привиделся. Из ума нейдет, – признался царь, и сразу полегчало на сердце. – Закрою глаза, и все воочию. Стоит и огнем пышется. Все как в Священном Писании. И земля огнем взялась, и пылающие птицы полетели, и град камением, и жупел кругом. И глас Божий. И антихрист было взошел на престол – и пал».
Пришлось сон поведать в тонкостях. Марьюшка, не встревая, слово за словом вытянула цареву печаль и докуку. «Это ли не гнетея? Такая забодает без рогов», – думала тайно царица, участливо, с любовию глядя царю в глаза. Ой, Марьюшка, святая душа, насквозь зрит... «Никона бы сюда. Он бы твое смотрение как в зеркальце прочитал. Святой сон, как бы послание от Господа нашего, – виновато улыбаясь, словно бы прося прощения, ответила царица. И пока говорила, более не подымала глаз. – Моего-то бабьего разумения стоит ли слушать?.. Коли ристать, бежат, пышкая во снях, значит, прочь стремиться от горя. Богородица тебе руку протянула, это ли не счастие? Лествицу скинула, помогла забратися на стену веры. А встати на ноги, вишь ли, ты не смог. Опоры нету. Больна твоя опора, не оперетися. Скоро помрет кир Иосиф, наш патриарх, и от сиротства возопит Русь. Готовься, Алексей. К тому и сон тебе, чтоб ты приуготовлялся. Вот и радуются нехристи, яко скимены, львы варварийские, готовы ухватить тебя за подолы и похитить в гнездилища змеиные, пока в скорби ты... Вот оно: крови нету, а горя не избыть. И мне тоже наснилося. И забойщик тут как тут с невидимым копием, прободил сквозь сердце: знал, басурманин, куда метить. Очервленилась земля, а на тебе руды ни с ягодку. Ой, не ко времени, на всеобщую кручину покидает нас патриарх... Послушайся, Алексей, меня: позови-ка в рассуждение печали своей нищего из потешных хором Венедихтушку Тимофеева. Он тебе рассудит лучше меня, видит Бог».
И снова подивился государь прозорливости жены и сразу уверовал в ее слова, не колебаясь. С этими чувствами он и спать повалился с обеда.
Под гусли Венедихтушки, под песни калик перехожих вроде бы и народился вымоленный Елеазарием Анзерским будущий государь; под песню о бедном Лазаре и вырос царевич. Венедикт всегда был древним, всегда слепым, так казалось Алексею Михайловичу: а нынче домрачей и вовсе закоренел и стареть перестал. Как говаривал Венедихтушко, он ослеп «от напряга» на бою в ополчении Минина, числил себя в родне с Иваном Сусаниным, спасшим боярина Михаила, будущего зачинателя новой царской семьи. Родичи Венедихта, все гнездо его пропало под ляхом, и бобыль, покинув сиротское житье свое, пристал к ватаге слепцов и отправился на Русь.
Однажды Тимофеев притащился с дружиною калик перехожих к царскому Терему, здесь был выслушан, обласкан и оприючен до смертного одра.
Первый царь любил потехи: на площади за соборами прямь перед Верхом устраивались качели на Пасху и ледяные покатушки на масленой; здесь на Троицу девки московские водили хороводы в столбовом наряде, о Петров день скакали на досках, на Иванов – плели венки и с визгом спешили на Москву-реку, чтобы угадать судьбу свою, тут водили потешного бахвала медведя и устраивали звериные бои; ватагою о Рождество навещали ряженые с харями, веселя государя и государыню самыми скромными выходками, тут колядовали со Звездою, ходили с мешками, прося царской милости. Вечерами на Верху постоянно играли в шахматы, шашки, тавлеи, саки, бирки, в карты. В потешных хоромах жили дураки и дурки в платьях, скроенных из цветных лоскутов и покромок; карлы и карлицы, калмычонки, арапы, домрачеи, бахари, гусельники, песельники, дудошники...
Но что приключилося с молодым царем Алексеем? Он напрочь на двадцать лет позабыл потешный свой Дворец и из всех потех оставил для услады охоты псовые и соколиные, медвежьи бои и волчьи осоки, походы на лосей и лесного и полевого зверя. Даже свадьбу свою с Марьюшкой играл по-новому: не плясали тут, не дудели, не играли варганы и цимбалы, не исхитрялись для пущей радости скоморохи и гусельники, домрачеи, скрыпотчики. А велел государь на свадьбе своей вместо труб и органов петь дьякам, переменяясь, строчные и деемственные большие стихи из праздников и из триодей со всем благочинием.
И был немедля разослан по Руси государев жесткий наказ: чтобы мирским людям жить по старческому началу, в домах и полях песен не петь, по вечерам на позорища не сходиться, не плясать, руками не плескать, в ладони не бить, хороводы не играть и игр не слушать; на свадьбах песен не петь и не играть глумотворцам, органникам, смехотворцам, гусельникам и песельникам; загадок не загадывать, сказки не сказывать, личины и платья скоморошья на себя не накладывать, олова и воску не лить; в карты и шахматы не играть, на досках не скакать, на качелях не качаться, с бубнами, сурнами, домрами, волынками, гудками не ходить, медведей не водить, с собаками не плясать, кулачных боев не делать, в лодыги не играть, не ворожить и не гадать. Ослушников на первый раз велено бить батогами, а после ссылать в украйные городы, а гусли, домры, сурны, гудки и все гудебные бесовские сосуды отбирать, ломать и жечь без остатка. Скоморохов же на первый раз бить батогами, а в другой раз – кнутом...
Государь Михаил Федорович, так любивший все русское, помирая, благословил сына на царство и сказал дядьке его Борису Ивановичу Морозову: «Тебе, боярину нашему, приказываю сына и со слезами говорю: как нам ты служил и работал с веселием и радостию, оставя дом, имение и покой, пекся о его здоровье и научении страху Божию и всякой премудрости, жил в нашем доме безотступно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюл его как зеницу ока, – так и теперь служи».
И Борис Иванович Морозов, любивший свея и немца, ездивший в карете с зеркальными окнами, привил государю Алексею то особенное благочестие по Стоглаву и Домострою, которое напрочь отстранило душу царя от русских обычаев, казавшихся ему отныне лишь бесовским наущением, косным, грубым и мерзким позорищем, отвращающим народ от Господа... И на двадцать лет позабыл царский Верх потешную игру, песельников, гудошников, гусляров и скоморохов. И прежние бахари и домрачеи, сказыватели старинных русских подвигов, былинщики и старинщики уступили наследственное место «нищим», убогим, юродивым и блаженным, горбатым и расслабленным, что из потешного дворца вместе с карликами и дураками переселились в Терем.
...Убирался прежде за Венедихтом, как и за другими нищими, потешный сторож, а нынче государь приставил за слепцом арапку Савелия для уходу и перевел домрачея в сам Верх, в подклет. Выдали калике новый кожаный тюфак, набитый оленьей шерстью, подушку, крытую кумачом, одеяло бумажное стеганое, и весь тот уряд житейский, без чего трудно человеку, пока он бродит по земле: белье постельное да исподнее, овчинный кошуль, кушак дорогильный цветной, бараньи сапоги и шапку суконную с собольим околом. Обиходили нищего, чтоб не тужил, не плакался на забытость свою, да в общем-то и грех было жаловаться Венедихту Тимофееву. Во Дворце его любили доброй памятью, как старца увечного и благочестивого, стоявшего еще у зыбки государя. Вот и жалованья получил слепец от Алексея Михайловича на год десять рублей с полтиною, это при полной-то дворцовой естве.
...Алексей Михайлович, хорошо отдохнувши, намерение свое, однако, не позабыл, но он не стал дожидаться домрачея в своей опочивальне, а сам спустился к нему в келейку, постучался в дверку и вопросил, как в монастыре, по уставу: «Молитвами святых отец наших...» – «Аминь», – донеслось старчески, дребезжаще.
Арапка Савелий, неожиданно увидев государя, вылупил от счастия блестящие карие глазенки и сразу пал на колени: царь погладил его по лоснящейся кудреватой голове, в который раз дивясь мелкой, жесткой, почти звериной шерсти, излучавшей голубые искры. Арапка поймал государеву руку, счастливо поцеловал и белозубо оскалился, запрокинувши черную рожицу.
В келеице было жарко натоплено: арапка постарался. Старик сидел позабыто, ссутулившись, потупив взор полу и склавши коченеющие руки на острые колени. Так позабыто сидят лишь старики, словно бы виноватые, что еще живут на белом свете и заедают чужой век.
Слепец поднял отсутствующий, в то же время и напряженный, ожидающий взор, перебрал ногами, обутыми в валяные калишки. Что-то зоркое, осмысленное на миг мелькнуло в блеклых глазах нищего. Несмотря на жару, он был в стеганой рясе на овчине, из-под скуфейки спадали белые пенные волосы.
– Дедушка, как здравствуешь? – протянул государь с порога.
– Да слава Господу. Твоими милостями, государь. Вот гликося, всю сознательную жизнь отходил в маменькиных сапогах, то бишь босиком, а нынче-то благодать: башмаки сафьянные да бараньи сапоги. Вот помню, дружиной-то ходили: идешь, пыль загребаешь, босу ногу наколешь, да и заплачешь. Эхма, всплакнешь, матерь-то вспомянешь: зачем родненька на свет спородила. Ты садись, садись, миленькой свет-царь, с край меня-то садись. Сказывай, зачем пришел. Издаля слышу, идешь, значит. Ну, думаю, дожил, дедко: сам царь жалует. За-жил-ся я-я, батюш-ко, ми-лости-вец мой. – Венедихт скоро сплакнул; влага прозрачная и, наверное, бессолая уже, скопилась в коричневых впадинах и тут же, незаметно куда, источилась. Лицо у него было смуглое, прожаренное какое-то, и тонкая кожа туго натянута на скулах и иссечена мелко и слоисто, как трескается старая доска. Царь, словно силясь что понять, вглядывался в это знакомое с детства, но почти чужое в старости лицо; он туго соображал, зачем вот тут он, в келейке, возле душно пахнущего древнего нищего, будто бы знающего вещий смысл земного быванья. И неуж такие изжитые люди что-то хранят в себе? И невольно царь тайно взмолился и вдруг дал обет так долго не жить. Он испугался старости, безвольности и ненужности.
– Ну-ко, дайкосе ручку поцелую, Богов защитничек. – Старик поискал ладонью возле себя, нашарил пальцы государя и, наклонившись, поцеловал.
– Ествою-то не обходят? – спросил царь.
– Не, милушко. Это Христа нашего морили ироды, водички и той пожалели.
Домрачей неожиданно прокашлялся и запел Сон Богородицы:
Пречистая Дева Мария,
Да где ты ночесь ночевала?
Да где ночесь опочивала ? —
На славном-то древе над Иорданом
Ночесь мне-ка мало спалось,
Много во снях виделось...
— Да как не видеть, – сам себя перебил слепец. – Иной раз ночесь то узришь, что и веком не надумать. Как вот дверку откроют и тебя, значит, в другую жизнь кто вдруг введет. Ты небось снам-то веришь? Верь, батюшка родимый, верь, кормилец. Это с небес нам печати явные, чтоб не оступиться по дурости нашей. Эхма...
Государь с государыней вдруг спохватились, что оба думают о новгородском митрополите. Небось в тяжком пути ему нынче не раз икнулось.
«Ты себя храни, Алешенька, – жалобно, жалеючи, сказала царица, проведя ладонью по груди мужа, словно бы нынче же, не медля, провожала хозяина на брань. У бабы бабье не вытравить, на каком бы Верху она ни числилась. – Время темное, на миру сколько сарданапалов расплодилось. Не из зависти пусть, так из потехи незнамо какую кобь замыслят. Подумать страшно, нито».
«Ну полно, полно. Нас, поди, у стола заждались. Кушанья-то простыгли».
«Ой, Алексеюшко, я тебя нынче во снях видела, – вдруг призналась государыня, и сердце царя вздрогнуло. – Вот будто вылез из кустов придорожных тать, не наш обличьем. Нерусь, одним словом. И тебя рогатиною прободил. Я и спохватиться не успела, как приключилось. Ну... Хочу, значит, стражу кликнуть да тебя оградить. И никого вскричать не могу, голос пропал. Земля вкруг вся очервленилась, а на тебе ни кровинки. Пробудилась в худых душах полтретья, ни свет ни заря. Давай поклоны метать, о тебе Бога молить. Ой, Алешенька, поопасись...»
Вот как бы сон прочитала.
«Ну полно, полно... Кровь-то не на мне», – хотел утешить царь супружницу, но не успел. Из-за угла полыхнуло светом, раздались возбужденные голоса. Их искали. А государю так хотелось открыться госпоже в своих расстроенных чувствах. И вот не успел.
...Не ествян государь, не нажорист, а если и пухнет преизлиху, так не от сладострастия, не от преданности животу своему и не от дворцовой обильной кухни, но лишь по природе, склонной к тучности.
Царь строго постится восемь месяцев в году; лишь скитники, монастырские схимонахи готовы к таким борениям с плотью, к таким изнурениям страдающего тела своего. В Великий пост государь обедает лишь три раза в неделю: в четверток, субботу и воскресенье. Где те роскошества стола, европейские зажарные каплуны, копченные на вертелах золотистые барашки, от коих сок и жир текут по локти; где та ласкающая горячность взора, что вспыхивает от обильной ествы? Увы! Здесь холодная, заснеженная Московия, господа. И попавший к государю на прием в постный день пусть удовольствуется с внутренней тоскою тем, что принимает великий царь. А для Дворца готовятся ествы: капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, сырые и гретые, ягодные ествы без масла и квас. Та самая лешачья еда, что в изобилии произрастает на просторах Руси, про кою говорят в простонародье: «Гриб да огурец – в брюхе не жилец». Та самая ества, от которой смиренно клонится плоть и воспаряет дух. В остальные дни государь Алексей Михайлович кушает лишь кусок хлеба ржаного с солью, соленый же огурец или гриб и стакан пива легкого, с коричным маслом. Рыбу государь ест лишь дважды за Великий пост. Кроме постов, он не ест мясного по понедельникам, средам и пятницам, как монах и пуще того. В обычные же постные дни (понедельник, среду и пятницу) готовят ествы рыбные и пирожные с маслом деревянным, ореховым, льняным, конопляным.
Нынче, на двенадцатое апреля 1652 года, царица Мария Ильинишна сама смотрела порядок ествы. Первая статья: щука паровая живая, лещ паровой живой, стерлядь паровая живая, спина белой рыбины; вторая статья: оладья тельная живой рыбы, уха щучья живой рыбы, пироги с телом живой рыбы, каравай просыпной с телом живой рыбы; третья статья: щука голова живая, полголовы осетрей свежей, тешка белужья. Питья три кубка с отливом, ренское, да романея, да бастр. В золотом ковше подносить красный мед, а в серебряном – белый мед. Не для государя такой стол, но для царицы: она в интересном положении, на сносях дохаживает, ей нужна ества для укрепы, чтобы телом не спасть да новой жизни не потравить.
На царицын Верх для ближних бояронь, для дочерей, для нянек и мамок и для веселья вечернего велено подать: орехи простые, каленые, сибирские, грецкие, волошеские; жамки-груздики, кругляки угольнички, сердечки, горошки, прянички вяземские, белевские, тульские, папушники; яблоки моченые, сушеные, украинские, паренные с кваском; изюм крупный и мелкий, винные ягоды, чернослив заморский, груши моченые, сухие, дули калужские бергамоты, сушеные вишни владимирские, сливы моченые, костеника, моченная кисточками, брусника моченая, калина с медом упаренная, пастилы коломенские клюквенные...
Она даже ела молитвенно, сосредоточенно, погрузившись в трапезу, и всякое брашно воистину благоговейно вкушала.
Ласковость не то чтобы вспыхивала однажды по настроению иль по натуге изображалась на челе, чтобы не прогневить супруга, но она постоянно жила на лице. Ни разу государь не видел, чтобы хмурая тень залегала под ресницами Марьюшки; утром лишь размыкала изумрудные свои очи, а из них проливается кроткая радость. С этим чувством она и за молитвою стояла по пять часов сряду, не выказывая усталости. Боже, как он любил свою Марьюшку.
С серебряного блюда она приняла звено стерляди паровой живой, мимолетно и благосклонно улыбнулась крайчему; на миг как бы прикрывшись от чужого догляда жемчужным нарукавником (сама низала, еще будучи в невестах), поправила выбившуюся будто бы прядку волос под малиновый бархатный сборник, качнулся потревоженный золотой колт в крохотном, внезапно зарозовевшем ушке, и в какой-то миг из-под руки послала государю ласкающий тайный взгляд, чтобы не приметил стольник, стоящий невдали с огромным блюдом стерляди на вытянутых руках.
Алексей Михайлович отпил из кубка овсяной браги, ломоть ржаного монастырского хлеба, присланного чудовским архимандритом, густо присыпал из солонки.
«Отошли стерлядь эту на дом в подачу боярину нашему Богдану Матвеевичу Хитрову», – вдруг приказал стольнику. «Балуешь ты Богдана, балуешь, – с улыбкой укорила Марьюшка. – А он неслух и прокуда». «Он хоть и неслух, да предан, – отозвался царь. – Женила бы ты его, что ли? Он вот и табаку приучился пить, шалопай. Пришлось нынче изрядно поколотить своею рукою». Государь рассеянным взглядом окинул пустынную Столовую палату с длинными столами под браными скатертями и долгими скамьями, покрытыми камчатными налавошниками. На стенах, на божницах стояли образа, горели лампады. Не шелохнувшись, по всей трапезной застыли стольники и ключники, ждущие гласа дворецкого, и как-то странно, сиротливо, что ли, одиноко выглядели государь с государыней в этой зале с глубокими оконцами, откуда струил узорный апрельский свет, обещающий благодать. На воле было солнце. Скоро обещалась охота, царский выезд в дворцовые подмосковные села; распута, рыхлый водяной снег, первые проплешины на буграх, струистое марево над замглившимся приречным тальником. Боже, как хорошо-то!..
«Ты слышь, – встрепенулся царь, – что мне князь Хованский пишет, – будто он вовсе пропал с Никоном. Де, никогда такого бесчестья не было, чтобы государь отдал князя во власть митрополита, а тот заставляет ежедень у правила быть. Да и то верно, учить премудра, премудрее будет, а безумному – мозолие есть. Дак и то народом не зря обозван, что тараруй. Тараруй и есть». Государыня на эти слова укоризненно качнула головою, и царь спохватился, что, быть может, сказал лишнего. А что лишнего-то? Стольникам ли не знать, как государь не раз выговаривал князю Хованскому за спесь его: «Я тебя взыскал и выбрал на службу, а то тебя всяк называл дураком». Кажется, придирчив был царь и жаловал людей даровитых, высоко смотрящих, но Хованского, который и природою-то не мог похвастаться, ни умом, ни стараниями, ни особенными способностями похвалиться, неизвестно за что выделил и приблизил в спальники, ближние бояре.
Вот сейчас с Никоном за мощами святого митрополита Филиппа Колычева послан на Соловки, великая честь дураку указана, а он вот ломается, с пути всякие укоризны шлет. «Прости, Господи, за неявные, заглазные словеса мои. – Алексей Михайлович перекрестился. – А он, поди, Никон-то наш, люто прижимает синклит мой, подвигает к Богу. Ин забыли, как подобает лба перекрестить. Вот и Василий Отяев жалится друзьям своим: де, лучше бы нам на Новой Земле за Сибирью с княжем Иваном Ивановичем Лобановым пропасть, нежели с новгородским митрополитом в посылке быть, силою заставляет говеть».
«Они жалобятся, а того не поймут, что он святой, наш владыко Никон, – сказала царица, с грустью глядя на пустующий серебряный судок супруга, – опять, вот, не ест, сердито поствует, осеннего гриба соленого с маслом конопляным пожевал, и вроде сыт; дак что гриб этот, какой с него толк, зиму цельную в кадке, моченый, вылежал, нынче, что тряпка, ни пару в нем, ни жару – веком не жевал бы. Разве с такой ествы побежишь? Ой, государь мой, опять с соленого квасу надуришься, и будет утробушка непонятно с чего мерзнуть. Сказать бы, но остережись: не каждое лыко в строку – может и губу надуть, не поглядя, что холопы кругом на прислугах, осыплет бранью. Нет-нет, лишнее заганула: царь не то бранчливого слова, но даже сурового взгляда ни разу не сронил в ее сторону. Но крутоват, горяч порою, будто что вспыхнет внутри порохом, взор побелеет. Вон князю Хованскому какую малаксу только что на лоб припечатал, тараруем обозвал. Сейчас пойдет по Москве, не стереть печатки. Стольник Зюзин в крайчих, он молитвен, но с Хованским на ножах. Вот и взгляд спрятал. – Святой за святым отправился, вон в какой не ближний свет поднялся».
Умильно сказала царица, облила государя зеленым светом, неожиданно как бы подольстилась. Знала особую нежность царя к митрополиту.
Алексей Михайлович согласился: «Цареградский патриарх Неофит писал днями. Великий посланник Христов Никон явился на Русь на подвиг!»
Государь замолчал резко, потускнел. Заметила Марьюшка, как прорезалась поперек лба первая ранняя морщина. Замглилось лицо, туман пал на глубокие глаза государя. Невольно загляделась Марьюшка на мужа: приглядист, глаз не отвесть. Плотные русые волосы по плечи, с трудом костяной гребень продерется, борода кудрявая, крупными завитками, тень от ресниц на полщеки, в спокойные очи глядеться можно, как в зеркала, только нынче, вот, на самом дне чуть-чуть рябит, мельтешит тревога, досада ли иль беспричинная тоска... Может, блазнится государыне, казит? У самой-то какое нездоровье. Хоть бы скорее ослобониться да государя сынком обрадовать. Дай Бог, дай Бог. Эк ему там не лежится. Прислушалась невольно, как в животе пыщит, моркотно так встрепенулось, но поприжала алые губы снежной белизны зубами. Мелкие зубки, прихватистые, хоть орехи ими грызи. Бросила быстрый взгляд на государя, не заметил ли ее беспокойства.
«Али гнетет тебя што, государь? Не пристала ли на душу гнетея?» – жалостно спросила Мария Ильинишна и, оглянувшись, велела тут же крайнему с кубком романеи пойти прочь, не торчать за плечом, давая понять, что царю не до питья. Государь строго постится, а ее с рыбьей ествы и без вина тошнит: будущий наследник царицыны черева точит. Значит, и всему Терему нынче сидеть на крутом посту и сыто не кушивать.
«Да так, пустое. Не бери в ум, царица», – пожал плечами Алексей Михайлович. Но забота жены ласково легла на сердце.
«Не болит ли што, Алексеюшко? Вот больно сердит ты на поству. Иль дурное што наснилось?» – домогалась Марьюшка и вновь, другорядь за день, невольно дозналась о причине царской грусти. Верили во Дворце снам, чаяли в них истину и по ним тоже строили грядущую жизнь.
«Знаешь, какая беда. Конец света во сне привиделся. Из ума нейдет, – признался царь, и сразу полегчало на сердце. – Закрою глаза, и все воочию. Стоит и огнем пышется. Все как в Священном Писании. И земля огнем взялась, и пылающие птицы полетели, и град камением, и жупел кругом. И глас Божий. И антихрист было взошел на престол – и пал».
Пришлось сон поведать в тонкостях. Марьюшка, не встревая, слово за словом вытянула цареву печаль и докуку. «Это ли не гнетея? Такая забодает без рогов», – думала тайно царица, участливо, с любовию глядя царю в глаза. Ой, Марьюшка, святая душа, насквозь зрит... «Никона бы сюда. Он бы твое смотрение как в зеркальце прочитал. Святой сон, как бы послание от Господа нашего, – виновато улыбаясь, словно бы прося прощения, ответила царица. И пока говорила, более не подымала глаз. – Моего-то бабьего разумения стоит ли слушать?.. Коли ристать, бежат, пышкая во снях, значит, прочь стремиться от горя. Богородица тебе руку протянула, это ли не счастие? Лествицу скинула, помогла забратися на стену веры. А встати на ноги, вишь ли, ты не смог. Опоры нету. Больна твоя опора, не оперетися. Скоро помрет кир Иосиф, наш патриарх, и от сиротства возопит Русь. Готовься, Алексей. К тому и сон тебе, чтоб ты приуготовлялся. Вот и радуются нехристи, яко скимены, львы варварийские, готовы ухватить тебя за подолы и похитить в гнездилища змеиные, пока в скорби ты... Вот оно: крови нету, а горя не избыть. И мне тоже наснилося. И забойщик тут как тут с невидимым копием, прободил сквозь сердце: знал, басурманин, куда метить. Очервленилась земля, а на тебе руды ни с ягодку. Ой, не ко времени, на всеобщую кручину покидает нас патриарх... Послушайся, Алексей, меня: позови-ка в рассуждение печали своей нищего из потешных хором Венедихтушку Тимофеева. Он тебе рассудит лучше меня, видит Бог».
И снова подивился государь прозорливости жены и сразу уверовал в ее слова, не колебаясь. С этими чувствами он и спать повалился с обеда.
Под гусли Венедихтушки, под песни калик перехожих вроде бы и народился вымоленный Елеазарием Анзерским будущий государь; под песню о бедном Лазаре и вырос царевич. Венедикт всегда был древним, всегда слепым, так казалось Алексею Михайловичу: а нынче домрачей и вовсе закоренел и стареть перестал. Как говаривал Венедихтушко, он ослеп «от напряга» на бою в ополчении Минина, числил себя в родне с Иваном Сусаниным, спасшим боярина Михаила, будущего зачинателя новой царской семьи. Родичи Венедихта, все гнездо его пропало под ляхом, и бобыль, покинув сиротское житье свое, пристал к ватаге слепцов и отправился на Русь.
Однажды Тимофеев притащился с дружиною калик перехожих к царскому Терему, здесь был выслушан, обласкан и оприючен до смертного одра.
Первый царь любил потехи: на площади за соборами прямь перед Верхом устраивались качели на Пасху и ледяные покатушки на масленой; здесь на Троицу девки московские водили хороводы в столбовом наряде, о Петров день скакали на досках, на Иванов – плели венки и с визгом спешили на Москву-реку, чтобы угадать судьбу свою, тут водили потешного бахвала медведя и устраивали звериные бои; ватагою о Рождество навещали ряженые с харями, веселя государя и государыню самыми скромными выходками, тут колядовали со Звездою, ходили с мешками, прося царской милости. Вечерами на Верху постоянно играли в шахматы, шашки, тавлеи, саки, бирки, в карты. В потешных хоромах жили дураки и дурки в платьях, скроенных из цветных лоскутов и покромок; карлы и карлицы, калмычонки, арапы, домрачеи, бахари, гусельники, песельники, дудошники...
Но что приключилося с молодым царем Алексеем? Он напрочь на двадцать лет позабыл потешный свой Дворец и из всех потех оставил для услады охоты псовые и соколиные, медвежьи бои и волчьи осоки, походы на лосей и лесного и полевого зверя. Даже свадьбу свою с Марьюшкой играл по-новому: не плясали тут, не дудели, не играли варганы и цимбалы, не исхитрялись для пущей радости скоморохи и гусельники, домрачеи, скрыпотчики. А велел государь на свадьбе своей вместо труб и органов петь дьякам, переменяясь, строчные и деемственные большие стихи из праздников и из триодей со всем благочинием.
И был немедля разослан по Руси государев жесткий наказ: чтобы мирским людям жить по старческому началу, в домах и полях песен не петь, по вечерам на позорища не сходиться, не плясать, руками не плескать, в ладони не бить, хороводы не играть и игр не слушать; на свадьбах песен не петь и не играть глумотворцам, органникам, смехотворцам, гусельникам и песельникам; загадок не загадывать, сказки не сказывать, личины и платья скоморошья на себя не накладывать, олова и воску не лить; в карты и шахматы не играть, на досках не скакать, на качелях не качаться, с бубнами, сурнами, домрами, волынками, гудками не ходить, медведей не водить, с собаками не плясать, кулачных боев не делать, в лодыги не играть, не ворожить и не гадать. Ослушников на первый раз велено бить батогами, а после ссылать в украйные городы, а гусли, домры, сурны, гудки и все гудебные бесовские сосуды отбирать, ломать и жечь без остатка. Скоморохов же на первый раз бить батогами, а в другой раз – кнутом...
Государь Михаил Федорович, так любивший все русское, помирая, благословил сына на царство и сказал дядьке его Борису Ивановичу Морозову: «Тебе, боярину нашему, приказываю сына и со слезами говорю: как нам ты служил и работал с веселием и радостию, оставя дом, имение и покой, пекся о его здоровье и научении страху Божию и всякой премудрости, жил в нашем доме безотступно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюл его как зеницу ока, – так и теперь служи».
И Борис Иванович Морозов, любивший свея и немца, ездивший в карете с зеркальными окнами, привил государю Алексею то особенное благочестие по Стоглаву и Домострою, которое напрочь отстранило душу царя от русских обычаев, казавшихся ему отныне лишь бесовским наущением, косным, грубым и мерзким позорищем, отвращающим народ от Господа... И на двадцать лет позабыл царский Верх потешную игру, песельников, гудошников, гусляров и скоморохов. И прежние бахари и домрачеи, сказыватели старинных русских подвигов, былинщики и старинщики уступили наследственное место «нищим», убогим, юродивым и блаженным, горбатым и расслабленным, что из потешного дворца вместе с карликами и дураками переселились в Терем.
...Убирался прежде за Венедихтом, как и за другими нищими, потешный сторож, а нынче государь приставил за слепцом арапку Савелия для уходу и перевел домрачея в сам Верх, в подклет. Выдали калике новый кожаный тюфак, набитый оленьей шерстью, подушку, крытую кумачом, одеяло бумажное стеганое, и весь тот уряд житейский, без чего трудно человеку, пока он бродит по земле: белье постельное да исподнее, овчинный кошуль, кушак дорогильный цветной, бараньи сапоги и шапку суконную с собольим околом. Обиходили нищего, чтоб не тужил, не плакался на забытость свою, да в общем-то и грех было жаловаться Венедихту Тимофееву. Во Дворце его любили доброй памятью, как старца увечного и благочестивого, стоявшего еще у зыбки государя. Вот и жалованья получил слепец от Алексея Михайловича на год десять рублей с полтиною, это при полной-то дворцовой естве.
...Алексей Михайлович, хорошо отдохнувши, намерение свое, однако, не позабыл, но он не стал дожидаться домрачея в своей опочивальне, а сам спустился к нему в келейку, постучался в дверку и вопросил, как в монастыре, по уставу: «Молитвами святых отец наших...» – «Аминь», – донеслось старчески, дребезжаще.
Арапка Савелий, неожиданно увидев государя, вылупил от счастия блестящие карие глазенки и сразу пал на колени: царь погладил его по лоснящейся кудреватой голове, в который раз дивясь мелкой, жесткой, почти звериной шерсти, излучавшей голубые искры. Арапка поймал государеву руку, счастливо поцеловал и белозубо оскалился, запрокинувши черную рожицу.
В келеице было жарко натоплено: арапка постарался. Старик сидел позабыто, ссутулившись, потупив взор полу и склавши коченеющие руки на острые колени. Так позабыто сидят лишь старики, словно бы виноватые, что еще живут на белом свете и заедают чужой век.
Слепец поднял отсутствующий, в то же время и напряженный, ожидающий взор, перебрал ногами, обутыми в валяные калишки. Что-то зоркое, осмысленное на миг мелькнуло в блеклых глазах нищего. Несмотря на жару, он был в стеганой рясе на овчине, из-под скуфейки спадали белые пенные волосы.
– Дедушка, как здравствуешь? – протянул государь с порога.
– Да слава Господу. Твоими милостями, государь. Вот гликося, всю сознательную жизнь отходил в маменькиных сапогах, то бишь босиком, а нынче-то благодать: башмаки сафьянные да бараньи сапоги. Вот помню, дружиной-то ходили: идешь, пыль загребаешь, босу ногу наколешь, да и заплачешь. Эхма, всплакнешь, матерь-то вспомянешь: зачем родненька на свет спородила. Ты садись, садись, миленькой свет-царь, с край меня-то садись. Сказывай, зачем пришел. Издаля слышу, идешь, значит. Ну, думаю, дожил, дедко: сам царь жалует. За-жил-ся я-я, батюш-ко, ми-лости-вец мой. – Венедихт скоро сплакнул; влага прозрачная и, наверное, бессолая уже, скопилась в коричневых впадинах и тут же, незаметно куда, источилась. Лицо у него было смуглое, прожаренное какое-то, и тонкая кожа туго натянута на скулах и иссечена мелко и слоисто, как трескается старая доска. Царь, словно силясь что понять, вглядывался в это знакомое с детства, но почти чужое в старости лицо; он туго соображал, зачем вот тут он, в келейке, возле душно пахнущего древнего нищего, будто бы знающего вещий смысл земного быванья. И неуж такие изжитые люди что-то хранят в себе? И невольно царь тайно взмолился и вдруг дал обет так долго не жить. Он испугался старости, безвольности и ненужности.
– Ну-ко, дайкосе ручку поцелую, Богов защитничек. – Старик поискал ладонью возле себя, нашарил пальцы государя и, наклонившись, поцеловал.
– Ествою-то не обходят? – спросил царь.
– Не, милушко. Это Христа нашего морили ироды, водички и той пожалели.
Домрачей неожиданно прокашлялся и запел Сон Богородицы:
Пречистая Дева Мария,
Да где ты ночесь ночевала?
Да где ночесь опочивала ? —
На славном-то древе над Иорданом
Ночесь мне-ка мало спалось,
Много во снях виделось...
— Да как не видеть, – сам себя перебил слепец. – Иной раз ночесь то узришь, что и веком не надумать. Как вот дверку откроют и тебя, значит, в другую жизнь кто вдруг введет. Ты небось снам-то веришь? Верь, батюшка родимый, верь, кормилец. Это с небес нам печати явные, чтоб не оступиться по дурости нашей. Эхма...